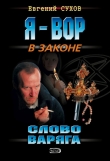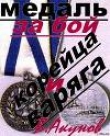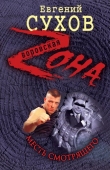Текст книги "Призванье варяга (von Benckendorff) (части 3 и 4)"
Автор книги: Александр Башкуев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 41 страниц)
Другие же утверждали, что кого-то выводили на улицу и там ударами штыков, да прикладов – заставляли несчастных бежать. А потом – либо забивали прикладами "за попытку бегства", либо – "за неисполнение приказа быстрее идти".
Но все происходило в среде католиков, а в преддверьи Войны с католическим миром сим россказням никто не поверил. А ежели и поверили – по Империи пошел слух, что в столице католики раздували мятеж, чтоб предать всю Империю в лапы Антихриста и, мол, кого-то "чуток побили". И опять-таки общественность Российской Империи была нам весьма благодарна за это. Вернее за то, – что "опять кто-то взял за что-то Ответственность на себя".
Прошло много лет. По сей день числится, что арестованные в эту ночь были вывезены морем в Ригу, там помещены в бастион, а потом – в дни войны якобинский снаряд попал в пороховую камеру бастиона и все взлетели на воздух.
Существует другая версия. Якобы в дни войны мы решили вывезти пленников из осажденного города, посадили их на корабль и тот – налетел на наши же мины в Ирбенском проливе. Все на корабле сгорели заживо, а Адмиралтейство, дабы не признаваться в сем диком казусе, спрятало концы в воду.
Есть еще один вариант. Пленников вывезли, но не в Ригу, а оккупированную нами Финляндию – на Аландские острова. Там всех содержали в окраинной крепости, а в начале войны, когда флот якобинцев взял господство на Балтике, пленники были то ли расстреляны, то ли – померли с голоду, ибо мы не смогли обеспечить острова продовольствием.
Наконец, бытует и совсем уж экзотичная версия, что пленники чрез Финляндию были перевезены куда-то в Архангельск, а оттуда – на кораблях отправились чуть ли не в Англию (их якобы выкупило у России Общество Вольных Каменщиков). В то лето в Баренцевом море ревели шторма и кораблики с пленными отнесло куда-то чуть ли не к Медвежьему острову и там они все и померли от голода, и от холода...
Но самое интереснейшее свидетельство прозвучало в 1826 году от парочки обвиняемых в выступлении декабристов.
Пара эстонских солдат (из католиков Черниговского полка) доложила странную вещь...
Якобы их отец был кочегаром на некоем паровом катере, захваченном нами у шведов в дни войны за Финляндию. Был он, разумеется, лютеранином, но жена его – мать обоих свидетелей, – католичкой. (В Эстляндии никогда не было той религиозной свирепости, как в более южных губерниях, – католики там всегда считались "зависимым меньшинством". За это и – могли жить...)
Якобы за пару дней до той самой Пасхи к ним в порт прибыли латышские егеря и команду с этого катера выстроили для проверки. Егерский офицер предложил всем молиться, а потом собственноручно расстрелял двух эстонцев, когда один из них произнес пару слов по-латыни (а стало быть – выказал себя ненавистным католиком), а второй с перепугу не мог вспомнить "Отче наш" на эстонский манер.
Обоих растрелянных долго держали непогребенными, а егерские офицеры шли вдоль эстонского строя и на очень плохом эстонском ругались и, тряся у всех перед носом оружием, говорили морякам со значением:
– "Мы заставим вас выучить ваш же Родной Язык. Не молиться на Родном Языке – Преступление. Не помнить Родной Истории и не любить Родимого Очага – Преступление в сто крат!"
В первый миг эстонцы опешили, а потом призадумались и... поддержали во всем егерей. Заговорили сразу же о католиках и егерские офицеры стали составлять списки католиков на хуторах. Отец двух свидетелей сразу же испугался и скрыл от всех, что его жена – католичка. Потом же – всех посадили на катер, прицепили к катеру баржу-конюшню и "пошли" к Санкт-Петербургу.
Глубокой ночью с субботы на воскресенье с берега на баржу загнали много народу. Пленников охраняли особые егеря из личной охраны вашего покорного слуги – Бенкендорфа.
Катер "вытолкал" баржу на середину залива, егеря скрылись из виду внутри конюшни...
Свидетели утверждали, что (по словам их отца) ничего не было слышно, ибо чудовищно грохотала паровая машина эстонского катера. Но даже за всем этим грохотом отцу двух свидетелей почудились частые выстрелы и – как будто, – крики...
После этого все егеря перешли с баржи на катер и народу на нем стало столько, что отец свидетелей даже на миг испугался, что вода перехлестнет за борт, – так посудинка осела в воде.
Но все обошлось, а баржа-конюшня после этого потихонечку погрузилась под воду и многие егеря нарочно держали факела над водой, чтоб заметить не выплыл ли кто. По рассказу отца двух эстонцев – даже заглушили паровую машину и долго вглядывались в темноту, да прислушивались. Но наверх не поднялось даже ни единого пузыря...
Тогда якобы сам Бенкендорф (то есть – я) хлопнул одного из своих людей по плечу и громко сказал:
– "Прекрасно, из двадцати четырех штуцеров с унитарным патроном на беглом огне всего три перекоса! Будем считать, что опыт в условиях, приближенных к боевым, прошел просто отлично!" – а потом, обернувшись к эстонцам, перешел с немецкого на эстонский, – "Заводите машину. Всем по сто гульденов, чтоб хорошенько забыть эту ночь!"
Старый эстонец добросовестно "все забыл", но когда (уже после Войны) в Эстляндии пошли гонения на католиков, уговорил местного пристава, чтоб его сыновей "забрили в армию – от греха".
Когда родители обоих солдат странно умерли (якобы сгорели заживо на своем католическом хуторе при невыясненных обстоятельствах) эстонцы-католики всем сердцем примкнули к якобинствующим заговорщикам и, будучи унтерами, весьма "отличились" в дни Восстания Черниговского полка.
Ничем историю свою они подкрепить не смогли. Все бывшие сослуживцы их батюшки истово поклялись, что ничего подобного не было, а на прямой вопрос Государя, я отвечал ему так:
– "Ваше Величество, мы не смогли взять всех масонов-католиков в эти дни. Те масоны, что сейчас толпятся вокруг Сперанского были отмечены, но вычеркнуты лично мною из списков, как... Сие – прекраснодушные либералы, да корыстные стяжатели, готовые примкнуть – куда лучше. Но вот те...
Человек десять (вернее – одиннадцать) спаслось и все как один – вошли в оккупационные администрации в Белоруссии и Смоленской губернии. Все, как один, принимали участие в выездных Трибуналах, согласно коим казнились наши помещики на оккупированных врагом землях. Средь казненных были дети трех-четырех лет... Вина их была в том, что они принадлежали к "сословию насильников и угнетателей простого народа" – сие обычная формулировка этаких трибуналов.
Детей ниже трех лет средь казненных, увы, нет. Якобинцы разбивали им головки о притолоку в миг ареста. Из одиннадцати не попавших в мои руки в ту Пасху четверо были схвачены нашими армиями. На допросах все показали, что действовали по внутренним убеждениям. А по сим убеждениям следует, что дворянство должно быть истреблено на корню – как сословие.
Сих четверых – я повесил. Что мне должно было делать с прочими ста, ежели я был уверен, что они – убежденные якобинцы и грезят про – "Красный Террор"?"
Государь растерялся и призадумался. Затем, осторожно подбирая слова, он, как будто бы извиняясь, выдавил из себя:
– "Так стало быть... На той барже... Их было сто человек?"
– "Не могу знать, Ваше Величество. Я не понимаю, – о чем идет речь. Какая баржа?! Какие сто человек?"
Государь нервно прикусил ус. Он не знал, что сказать, а потом еще осторожней спросил:
– "А что Ты думаешь на сей счет? Ты и впрямь... не знаешь о чем идет речь?"
– "Вам и впрямь – не терпится знать, Ваше Величество?!"
Государь чуть отпрянул, поежился чуть, чуть откашлялся, а потом вернувшимся голосом произнес членам Следствия:
– "Пустая, ничем не подкрепленная болтовня двух запутавшихся людей. В архив..."
Так и закончилась эта история.
Теперь, когда "на верхах" не осталось более никого из тех, кто ратовал за мир, иль капитуляцию пред Антихристом, решимость передалась всем офицерам и рядовым нашей армии. Мы были готовы к Войне...
x x x
О начале войны доложу вам из первых рук. Как Начальник Особого Отдела всей русской армии я вошел в Штаб и присутствовал на заключительной стадии подготовки всей этой кампании. В ходе работ у нас возникла проблема: как быть?
Видите ли... Якобинская армия превосходила нас числом, "умением", качеством вооружений, а главное – скоростью передвижения своих войск. Оглядываясь на кампании прежнего времени, мы понимали, что противник, используя свою скорость, попытается разбить нас по частям. Опыт Ваграма, когда австрийская армия попыталась создать "единый кулак", в то же время показывал, что огромная аморфная армия "выжирает пространство вокруг": Бонапарт "выдержал паузу", пока измученные ожиданьем и голоданьем австрийцы бросятся на него, и – разбил врага наголову. (Вообразите себе, – средь битвы голодные австрияки падали в обморок!)
Из всего этого возникло два – более-менее здравых плана на всю кампанию.
Либо, – Первая армия (Барклая де Толли), коей придется почти вся артиллерия и пехота, "встает грудью" на Дриссе (а-ля Прейсиш-Эйлау), а когда неприятель попытается обойти "Дрисский рубеж", Вторая Армия (под командою Багратиона), состоящая большей частью из конницы, наносит ему удары во фланг – с надеждою "затолкать" якобинцев на Дриссу.
Ежели б все так удалось, мы бы смогли нанести противнику тяжкое поражение и вынудить на новый мир. Но...
В плане был один минус. Дороги.
Первая армия оказывалась по сути во враждебной Литве и сообщалась либо по курляндскому берегу, либо – тонким жилочкам белорусских дорог. А противник уже перебрасывал в Балтику весь флот, коий он смел "снять с Франции". (Часть французского флота так и осталась у Франции – против английских эскадр.)
В условьях Восстания в неспокойной Курляндии мы б столкнулись с чудовищными проблемами по снабжению наших войск по кошмарным дорогам через Белоруссию.
Другая угроза была с южного фланга. Против Украины копил силы австрияк Шварценберг и в Особый отдел шли пачками донесения о готовности униатов восстать – стоит лишь австриякам нарушить границу. Дело дошло до того, что командующему Третьей армией – генералу Тормасову приказали держать в Западной Украине только лишь "летучие отряды" гусар, да казаков, – коим посоветовали с первой же минуты войны – "нестись во весь опор до Днепра ближе к нашим".
Теперь вообразите себе, что наши главные силы застряли в Литве, вырваться оттуда чрез "бутылочное горло" белорусских дорого практически невозможно, а Шварценберг, к примеру, взял Киев (впрочем, Киев-то велено было "не сдать ни при каких обстоятельствах") – пошел оттуда на Курск, Калугу и – все...
Мы все можем "Честно" пустить себе пулю в лоб, не вылазя из Дрисских траншей... Пожалуй, это и стало основаньем тому, что мы оставили "Дрисскую крепость"..
Я – солдат и привык надеяться на себя. План же, в коем все упирается в то – возьмет враг некий город за тысячу верст от меня, или – нет, вызывает у меня "мурашки по заднице".
Тогда возник второй план. Мы делаем вид, что "держим Дриссу", а на самом-то деле наша артиллерия и пехота сосредотачиваются – гораздо восточней: в районе Смоленска, иль – вообще под Москвой! В Литве ж разбиваются "ложные бивуаки", а самые лучшие и маневренные из частей лишь "демонстрируют неприятелю" наше присутствие там – на Дриссе.
Вторая армия якобы "не справляется" с возложенной на нее задачей и якобы "в беспорядке" начинает откатываться на восток – чуть дальше того самого места, откуда возможен "удар молотом в Дрисскую наковальню". Противник решит, что мы попросту не смогли выполнить прежний план и превосходящими силами попытается разгромить армию Багратиона!
Основные силы его "на плечах Второй армии" "вкатятся в Белоруссию", а там уже логика преследований и мелких стычек погонит его вперед – на Смоленск (Багратион обязан был контратаковать при первой возможности).
Первая армия в то же самое время тоже примется отступать, но так как в ней не будет "слабых" и "медленных" войск, она тоже успеет "уйти за Смоленск". А уж там...
Далее по мысли нашего Штаба начиналось самое интересное. По всем показателям мы обязаны были проигрывать эту войну. Положа руку на сердце у нас не было ни единого шанса! Но...
Идея принадлежала полковнику Коновницыну, – он первым (аж в 1810 году!) сообразил:
– "Господа, почему мы все так уперлись в белорусские дороги и Дрисский рубеж? Да, не сможем мы снабжать нашу армию к западу от Белоруссии! Но как Бонапарт собирается снабжать свою армию – к востоку от Белоруссии?!"
Ему отвечали:
– "А кавалерия?! Белоруссия непроходима для наших телег, но Бертье думает ввозить все вьючным способом. Якобинцы реквизируют по Европе в три раза более лошадей, чем у нас под седлом! Да, растянется пусть снабжения, но у Бонапарта столько вьючного транспорта..."
Тогда Коновницын сказал:
– "Так и деритесь не с Бонапартом, но – его лошадьми! Жгите сено, топчите овес, – все на борьбу с кавалерией. У нас есть новые пушки, – пусть сии пушки остановят пехоту – заставьте французскую кавалерию пробиваться к ним через наши каре. Разменивайте нашу пехоту и артиллерию на их кавалерию!"
Трудно вспоминать о начале войны. Обе австрийские, прусская, испанская, итальянская кампании развивались по одному и тому же сценарию. На окраинные провинции с "не-титульной нацией" проникали якобинские агитаторы и мутили простой люд. (А межнациональная, да межконфессиональная рознь – любимая мозоль для любой крупной страны!) В день вторжения "инородцы" "взрывались"...
Прежние враги Бонапарта пытались подавить мятежи силой, приняв решительный бой в самой гуще Восстания. Так они "увязали" в мятежной провинции, теряли кров, довольствие и фураж и лишь после того принуждались более быстрым и "сытым" противником к решительному сражению.
Но, как я уже объяснил, у нас был совсем иной план на Войну и вспыхнувшие мятежи, да кажущаяся "беспорядочность" наших действий привели лишь к тому, что противник уверился в своей безнаказанности. Армии его понеслись. Сквозь "бутылочное горло" белорусских дорог...
Отступленье имело один неприятный момент. "Ворчали старики, – что ж мы на Зимние квартиры? Не смеют что ли командиры чужие изорвать мундиры о русские штыки?!" Так записал с моих слов мой племяш и так оно было...
Простым рядовым тяжело объяснять, – почему мы так безвольно и стремительно отступаем. Это потом уже, – в 1813 году, когда мы почти на весь год "застряли" в ненавистной нам Польше, "старики" принялись говорить: "Командиры свое дело знают! Правильно, что в прошлом году мы так быстро ушли из сих мест. Голод был бы – страшней нынешнего..."
В русской истории о сем не принято говорить, но наша "победоносная" армия весной и начале лета 1813 года потеряла "с голоду" людей больше, чем за всю кампанию 1812 года – с начала войны и до Бородина! Немудрено, что перед "входом в Европу" все командующие – от Кутузова до Барклая с Дохтуровым чуть ли не молили союзников:
"Дайте нам передых! Продовольственная база Империи серьезно подорвана, – аграрное министерство думает, что у нас не хватит зерна даже на сев! А солдат чем кормить?! Мы не пойдем в Европу, пока вы гарантируете провиант и фураж!"
Северная армия не имела сих жутких проблем, ибо мы...
В отличие от Главной армии, "пухшей с голоду", мои латыши "питались с пруссаками", а у немцев на "своих" еда почему-то нашлась... Ну, не любят русских в Европе – ну, не Судьба!
Впрочем, матушка платила за "прокорм латвийских частей" той же Пруссии и разоренные Бонапартом пруссаки сплошь и рядом не кормили своих же солдат – за лишний матушкин гульден. А вот Россия опять понадеялась на "союзнический долг", да "сознательность" и хотела все – за бесплатно.
Так Витгенштейн и "геройствовал в одиночку" в Европе, пока не пришло время Лейпцига. И только там, ради "пушечного мяса сих русских", наши союзники соизволили выделить продовольствие и фураж – Главной армии...
Теперь вообразите себе, как сие выглядело бы летом 1812 года, когда Пруссия даже не смела бы и подумать, чтобы кормить нас – даже за "жидовское золото" все – вместе взятое!
Это все прояснилось потом, но в лето 1812 года нужно было успокоить солдат. Требовался "показательный щелчок" по "носу агрессора". Да такой, чтоб не пришлось задержать отступающую пехоту, иль – артиллерию. При условии подавляющего превосходства противника во всех родах войск, за вычетом егерей, да – кадровой кавалерии.
Такие обстоятельства сложились после сражения за Смоленск, – наши армии "слились в единое целое", но "слились" и армии "двунадесяти языков". В возникающей неразберихе мы "поймали рыбку в мутной воде".
Объясню чуть подробнее. Более всего Бонапарт дорожил своей Гвардией. Ей он доверял самые ответственные дела, а офицеров знал лично. Из всех советчиков Император более всего доверял мнению своего Штаба, – они готовили для него планы на решительные сражения.
И вот, – представьте себе: все эти люди хорошенечко "запылились" в дерьме военных дорог, а в Армию "вливаются" "второстепенные части" корпуса Даву, столь ценимые Бонапартом – поляки и всякие там – итальянцы, румыны и венгры...
Возникает огромная "скученность", больные и раненые... В сих случаях выбираются мелкие городки, – чуть в стороне от направления "главного наступления" и часть офицеров получает там этакий отпуск, – чтоб поправить здоровье и психику.
Таким городком как раз и был Велиж. Он располагался восточней и чуть севернее Смоленска в пределах "ответственности" сил "Главной армии". Издали (да и внутри!) городок выглядел, как игрушечка – с золотыми маковками церквей, да тенистыми, прохладными улочками.
По какой-то причине (вы уже догадались – какой!) Велиж оставлялся нами в "чудовищной спешке" и оказался совершенно никем не разрушенным. Большинство жителей, – опять по неведомой французам причине, ушли на восток с русской армией и город представлял из себя – рай для этаких "военных отпускников".
На западе – густой лес (французские квартирьеры по простоте душевной записывали: "много грибов, ягод и – прекрасное укрытие для людей в случае вражьей контратаки"), через город протекает милая речка ("полна рыбы и пляжей для отдыха и купаний, в случае внезапной атаки противника – весьма легко удержать высокий западный берег от ударов со стороны русских"), а на востоке – огромные поля с перелесками ("возможности для облавной охоты и катания на лошадях, любая атака противника обнаружится много загодя и в сей степи (они называли сие – степью!) нет ни единого рубежа, чтоб спастись за ним от удара нашею конницей"). Самое ж забавное в сем отчете говорилось в конце (впоследствии многие из историков намекали, что сие было Остережение Господа). "Согласно истории, Велиж ни разу не был взят русскими, но всегда оставлялся ими без боя, – в страхе пред возможной атакой из лесу – как сие однажды случилось в годы Ливонской войны"!
У русских много ужаснейших недостатков. Но одного у них не отнять, они очень злопамятны. Истории былых катастроф настолько откладываются в людской Памяти, что раз и навсегда в ней высекается будто на камне – "Велиж беззащитен при ударе из лесу – с западной стороны!", "В XVI веке (вообразите, – русские сие до сих пор помнят!) целая опричная армия была истреблена здесь ливонскими арбалетчиками – все до единого и война в Ливонии фактически кончилась". Но французам не интересна чужая история – за сие была и расплата...
По приказу Наполеона Велиж стал "отпускным городом" и в первый же день после этого туда получили свои отпуска до трети офицеров-гвардейцев и половины офицеров Французского Генерального Штаба. Все сии люди поехали туда – "отдохнуть пред Генеральным Сражением с русскими"...
Дело было – после Смоленска. Армии противников "слились" после этого, образуя единый фронт. Никому и в голову не пришло, что какие-то французские части могут оказаться – далеко впереди за линией фронта, иль – кто-то русский безнадежно "отстал" сзади нее. Да и странно было бы думать, – на запад от Велижа лежал густой лес, через коий попросту не могли выйти отставшие русские! (Они должны были бы спасаться по трактам!)
Мало того, – в первый же день "оккупации" кто-то из французского штаба прислал целый полк егерей "для охраны и приготовления города к приему отпускников". Полк был егерским. Он шел под развернутыми красно-бело-черными стягами (как сие часто бывает у северных немцев), а форма его была зеленой и черной. Никто (повторяю – никто!) ни разу не поинтересовался, – откуда мы и по чьему приказу здесь оказались.
Французский Штаб обрадовался, что какую-то из частей прислали охранять их "отдыхающих", а в командовании "Великой Армии" облегченно перевели дух, что Штаб обошелся "своими силами". Так выяснилось – во время следствий, проведенных по приказу взбешенного Бонапарта. Откуда появились сии документы (да еще на самом верху вражьей армии!) – Богу ведомо.
Как бы там ни было, – ежели у вражеской жандармерии и возникли какие-то изумления на сей счет, ни один из моих людей не понимал ни слова по-русски, внешность их была – нисколечко не славянской, а офицеры разговаривали с французами на прекрасном французском с легким "тевтонским" акцентом. А в высшем обществе справляться о национальности собеседника – как-то не принято...
Дело дошло до того, что все якобинские офицеры прибывали лично ко мне и моим адъютантам и просили "распределить их по квартирам". Никому в сием не было отказано. Вещи "отпускников" сразу же подхватывали молчаливые егеря и "обустраивали" пришельцев: всем топили русские бани, а мрачноватые каптенармусы и повара готовили чистое белье и хороший обед...
Латыши – дети Велса, и по их основному преданию – Велс, прежде чем разделаться с Перконсом, обеспечил тому баню, обильный ужин с питьем и вообще...
Впоследствии, – все из них говорили, что все происходящее с их участием было похоже для них на ежегодную летнюю "мистерию" гибели Перконса, а каждый из них в те минуты "сутью своей слился с Даугавою – Велсом". (И все они в те минуты решили, что "Война должна кончиться до Рождества", ибо "в сей день Перконс возвращает силу свою и опять сильней Велса".)
Помню, как какие-то молодые ребята (по виду – явные буржуа) спрашивали у меня, как им проехать к указанным им адресам и "Где тут – банья де рюсс?" Я им указал.
На другое утро, проезжая по горящему Велижу, я узнал одного из двух пареньков. Он полусидел-полулежал лишь в исподнем на завалинке у пылающей русской бани... Кто-то из моих егерей перерезал ему горло сзади и у мальчика так и застыло какое-то удивленное и обиженное выраженье лица.
Я невольно остановил лошадь, попросил прощения у трупа несчастного и сказал адъютантам:
– "Слава Богу, что хоть помыться успел..." – на смертном одре я, наверное, буду вспоминать удивленное лицо сего мальчика...
Но сие было только лишь частью задуманного. "Главный приз" заключался в ином. Кроме отпусков в те дни шла Война и выяснилось, что большие силы французов должны идти мимо Велижа, не входя в город. Примерно к девяти часам утра они бы в массе своей оказались на марше в трех-пяти верстах восточней него. Наша кавалерия в сей миг нанесла б контрудар и погнала несчастных на Велиж, на его тихую речку с обрывистым западным берегом, на штуцера моих егерей...
Представьте же мое удивление, когда уже на рассвете (часов в шесть утра!) мне докладывают, что восточнее Велижа идет тяжкий бой. К семи наши подходят к Велижу и пытаются выбить из него – мои части! Да не просто "выбить", – какой-то идиот среди русских пытается навести переправу и выбраться на высокий западный берег – прямо под огонь моих снайперов, перекрывая нам все "директрисы" обстрела!
Я чуть не рехнулся от ярости... Я выскочил верхом на окраину, кою уже "очистили" мои егеря. Вылетаю на мост, у коего мы могли обратить в кашу тысячи лягушатников, а навстречу мне – страшно довольный русский. Морда, что твоя масленая сковорода – в месяц не обцелуешь! Говорит он мне по-французски:
– "Извольте сдаться, мсье!"
Я его так обложил, что он аж – посерел. Я сказал ему:
– "Ты, чудак человек, – во сколько тебе сказали здесь быть? В девять?! А сейчас сколько? Ты что – до девяти считать не умеешь?! Ты понимаешь, что якобинцы, коих ты должен был положить, еще лес не прошли? Ты понимаешь, что теперь... Твою мать...
Твое имя, чудак..."
Совсем уж сникший офицер промямлил:
– "Сергей Волконский – Ваша Честь", – на том и расстались.
Конечно же, как старший по званию, я доложил дело так, будто Волконский действительно взял Велиж, хоть в реальности он "взял" лишь его залитую кровью и заваленную трупами "отпускников" восточную часть.
Меня за "Велиж" произвели в генералы, Волконского же в полковники, а потом – потихоньку предложили перейти на иной, – менее значительный пост. (Самое любопытное, что когда Волконский узнал, что именно "было в Велиже" он, как черт от ладана, открещивался от любого упоминанья себя в сей операции!)
Многие пеняли потом, что если б я так не обошелся с Волконским, – может он никогда бы не стал бунтарем. Я же...
Я в жизни не думал сомневаться ни в личной честности, ни безусловной смелости князя Волконского, но...
Я просто знаю, что князь начал атаку под Велижем за три часа до срока не по скудоумию, но – чтоб первым войти в город. Часы в те годы были дрянны и скверны, так что многим офицерам такие фокусы могли сойти с рук. Зато вообразите себе, – он стал бы "единоличным" и "единственным" победителем сражения в начале Войны. Сие – много стоит. А брань, в отличие от лычек и эполет... "На вороту", она, к сожаленью, "не виснет".
Знаете почему Волконский стал участником мятежа? То же самое, что при Велиже. Не будь Революции, – он так и остался бы заштатным полковником. Проиграй они (как сие вышло), для сего честолюбца – он ничегошеньки не "потерял". А уж приди к Власти он сам и его "сотоварищи" – "выигрыш" был бы и больше того, что его ждал при Велиже...
Да только "промахнулся" он с Велижем...
Иной раз кто-то из "шустрых" чуть "толкнет Судьбу под руку", – вдруг она "метнет" ему лучше? Да вот – шулеров испокон веков принято бить подсвечниками! Такова Божья Воля.
И раз уж такова Воля Его, неужто он не заметит этакого – вроде бы "невиннейшего" толчка?!
История сия нашла продолжение самое неожиданное. Приходит на днях в мой кабинет Варенька и говорит:
– "Батюшка, благословите нас. Вот мой избранник".
Я же писал записку для Государя о положении дел в стране к очередному заседанию Тайного Совета, думал о своем и не сразу понял – о чем идет речь. А когда осознал услышанное, так растерялся, что выронил бумажки. Я поскорее нацепил очки, чтоб лучше рассмотреть вероятного зятя и – что я вижу?! Волконский-младший своею персоной!
Нет, я знал, что Вареньке нравится бывать в его обществе. Выросли они у меня на глазах, – на одних балах плясали, играли в фанты и прочее...
Наш дом весьма дружен с этой семьей. Но сердцу-то не прикажешь. Не сошлось с папашей, а дочка-то – младшенькая.
Обнял паренька, расцеловал в обе щеки. Не за папашу его, за деда друга моего закадычного Колю Раевского. Расцеловал, смахнул с глаз слезинку, достал графинчик, рюмки, разлил:
– "Варвара, ты пока помолчи, у нас с дружком твоим мужской разговор предстоит.
Дед твой, мил друг, был моим другом верным, другом истинным. Зато папашу твоего, прости Господи, я в Сибирь закатал. Вот и надобно знать, каково у тебя к ним отношение. Что про отца думаешь?"
Юнец смутился, хоть по всему и готовился к сей беседе, но от жандарма сего не укрыть. Шибко растерялся, разволновался весь, а потом и говорит:
– "Как к отцу отношусь...? Кто б он ни был, для меня он всегда – родной батюшка".
– "Хорошо произнес. Верно. С выдохом. А как ты – к деду, коий тебя воспитал, выкормил, вырастил?"
– "Дедушка... Он мне заменил и батюшку, и матушку. Люблю я его – больше жизни".
– "Опять – хорошо. На сей раз и – впрямь хорошо. Верю, – любишь ты дедушку своего.
А скажи мне, мил друг... Твой отец деда-то не послушал. Пошел против Воли его. Так дед твой не то что зятя, родную дочь – Проклял. Ты-то как думаешь, на чьей стороне была Истина?"
Юноша совсем побледнел, задергался, хлопнул рюмку всю залпом, занюхал обшлагом по-армейски, подумал еще чуток, а потом посмотрел мне прямо в глаза и тихо так говорит:
– "Так то ж, – вопрос Совести. У отца была своя Истина. У деда – своя. Бог им – Судья. Правда – она для всех для нас разная".
Глаза у парня были хорошие. Чистые и честные. Я за мою практику редко когда такие встречал. Все больше с мразью...
– "А в чем твоя Правда, мил друг?"
– "Моя Правда в том, что я Люблю Вареньку... И нету мне дел до того, чья она дочь!" – сказать по совести, давненько я не смеялся – до слез.
А тут и Варенька мне кричит:
– "И мне, батюшка, без него жизни нет. Вот и моя Правда!"
Я, продолжая посмеиваться, вынул третью рюмку, наполнил ее и рюмку Волконского и говорю:
– "Да, я вижу, тут уж и без меня – сладилось. Выпьем же, детки, за то, чтоб жить нам по – Правде... Так, как Верится, а не так, как ты мне тут плести было начал... И не говори мне, что перегорело в тебе – на отца и на мать. Кто б ни были, – они тебя Родили... Правда, не вырастили...
Ну, милуйтесь, а я пойду, мать обрадую".
Выхожу из кабинета и слышу, как зять мой будущий с изумлением спрашивает:
– "Так он не держит зла на моего отца?"
А доченька отвечает:
– "Глупый ты. Раз поставил он третью рюмку, я для него теперь взрослая. Теперь твой батюшка – моя головная боль".
Когда при дворе узнали, что я выдаю мою младшенькую за сына самого отъявленного бунтовщика, скандал грянул тот еще. Нессельрод договорился до того, что я из ума выжил, или – спился вконец. А на очередном заседании Сената ходила бумажка, в коей собирали подписи, чтоб осудить меня за потворство Изменникам.
На свадьбу пришли жандармы, Братья по Ложе, латыши, да однополчане, с коими дошел до Парижа. Из молодых, да ранних никто не явился. Кто заболел, кто по делам укатил. В общем... Верно, и у них – своя Правда.
Счастлив я, что хоть дочек правильно вырастил. Много у меня "в перекос", а вот доченьки меня радуют. Да и зятьями, не скрою, – Бог не обидел. Наверно, Господь Любит меня.
Итоги дела при Велиже оказались двоякими. Во-первых, и – самых главных Россия навсегда излечилась от "позора при Рущуке". Незадолго до Бородина у деревни Валуево после объявления одного из самых знаменитых Указов Войны (о нем речь чуть ниже) мои егеря перед строем солдат вывалили кучу офицерских книжек, наградных удостоверений, личных писем, золотых медальонов, разнообразных крестов и медалей противника. Гора у нас вышла такой, что за нею не было видно людей, стоявших напротив!
Наши солдаты маршировали мимо сией страшной груды и знали, что сие останки именно офицеров вражеской армии. Всякие разговоры, да слухи про то – что было, и чего не было при Рущуке сразу же прекратились. Раз и навсегда.