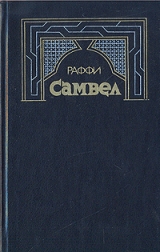
Текст книги "Самвэл"
Автор книги: Акоп Мелик-Акопян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 31 страниц)
11ростота его одежды соответствовала непритязательности жилища. И там и тут заметны были скорее стремление к прочности и целесообразности, нежели изысканность и тонкий вкус.
Мушег подошел к окну, отодвинул занавес и открыл одну створку. Долго стоял он неподвижно, глядя в окно. Ничего не было^видно и не было слышно, все спало под покровом глубокой ночи. Он глядел в ночной мрак, а мысли его уносились далеко-далеко, ко двору персидского царя. Там сейчас его дорогой отец, там сейчас и любимый государь. С самого отъезда от них ничего нет. В чем причина этого молчания? Ужели Ша-пух прибег к обману? Ужели все пути отрезаны?.. Он ничего
не знал, у него не было никаких сведений. И его невеселые мысли так же блуждали вслепую во мраке неизвестности, как его гневные взоры – во мраке темной ночи.
В таком расположении духа и нашел его Самвел, когда тихонько приотворил двери, подошел к двоюродному брату и, положив руку ему на плечо, заставил очнуться от тягостного раздумья. Мушег обернулся.
– Ты изрядно помучал меня ожиданием, Самвел.
– Соглядатаи княгини так и рыщут вокруг моих покоев, – в сердцах воскликнул Самвел. – Еле ускользнул...
– Значит, что-то случилось, раз твоя мать расставляет соглядатаев, – заключил Мушег, и его невеселое лицо помрачнело еще больше.
– Сядем, я все расскажу.
Двоюродные братья сели рядом. Самвел некоторое время колебался, не зная с чего и как начать, чтобы не причинить Мушегу слишком сильной боли. И начал с небольшого вступления: он-де уверен, что Мушег найдет в себе достаточно сил и душевной стойкости, чтобы сохранить хладнокровие, и они вместе подумают, как противостоять надвигающейся беде. Но Мушег нетерпеливо прервал его:
– Ради Бога, не трать лишних слов, говори прямо, что должен сказать. И можешь быть уверен – я не стану проливать слезы, словно женщина.
Самвел пересказал Мушегу известия, полученные от гонца. Рассказал, что отец Самвела и Меружан Арцруни объединились, отреклись от своей веры, перешли в персидскую и теперь идут с персидским войском и персидскими жрецами, чтобы покорить Армению. Рассказал, что царь Шапух отдал свою сестру Ормиздухт в жены Меружану и посулил ему армянский престол, если тот сумеет захватить армянских нахараров и видных служителей церкви и отправить их в Персию, а потом распространить в Армении огнепоклонство. Рассказал и о том, что Ваган Мамиконян получил должность спарапета, а царь Аршак заточен в крепости Ануш.
– А мой отец? – прервал Мушег. Самвел растерянно замолчал; потом нерешительно проговорил:
– Твой отец... тоже...
– Заточен в крепость?
– Да... он в крепости.
– С государем?
– Да... с государем.
Самвел не лгал. Но там в крепости Ануш, вместе с закованным в цепи армянским царем находился не сам спарапет, а лишь его земная оболочка, набитая сеном. До свидания с братом Самвел весь день терзался, обдумывая, как сообщить о мученической гибели Васака. Это могло оказаться слишком сильным ударим для бесконечно преданного отцу Мушега и погрузить его в пучину безутешного горя. В конце концов Самвел решил смягчить удар и сказать только, что отец Мушега – в крепости, вместе с царем.
– О лживый перс! – воскликнул Мушег, вне себя от возмущения. – Для тебя ничто святость царского слова и царской клятвы! Перстнем с вепрем припечатал ты соль – это ведь величайшая клятва твоей религии! – и послал нам, приглашая отца и его государя к себе, дабы заключить договор о мире, а сам бросил их в темницу. О бесчестный клятвопреступник!
Эти слова относились к царю Шапуху, который коварными посулами заманил армянского царя и армянского спарапета в столицу Персии.
Мушег повернулся к Самвелу:
– Правда, отец тридцать лет воевал с войсками Шапуха и всегда побеждал его. Но он воевал честно! Будь у Шапуха хоть искра благородства, он не забыл бы великодушия, которое проявил мой отец. Ведь когда Шапух был наголову разбит и с позором бежал от спарапета Армении, его армия и весь гарем оказались во власти победителя. Но мой отец велел подать его женам паланкины и с почетом препроводить ко двору Шапуха. И тот все это предал забвению... преступил клятву, обманул... О низкий! О вероломный!
Полные горечи слова срывались с уст безутешного сына, и его сердце горело жаждою мести. С пылающим лицом он остановился перед братом.
Слушай, Самвел! Мы будем недостойными выродками, если все эти низости останутся без отмщения. Чаша терпения першолнилась, ибо враг довел до предела свои злодейства.
Он сделал несколько шагов по комнате; заметил, что окно открыто, закрыл его и опустил занавес. Невозможно было без содрогания смотреть на это олицетворение скорби и гнева; из его больших глаз, казалось, изливался огонь, губы дрожали, как в лихорадке, мужественное лицо было покрыто смертельной бледностью. Он снова встал перед Самвелом и, вперив взор в его печальные глаза, воскликнул:
– Что ты молчишь? Отвечай же!
– Ты счастливее меня, Мушег, – отозвался Самвел. – Твои отец всю жизнь был героем и остался героем до конца. Он всю жизнь сражался с врагами своей отчизны и до конца не покинул своего несчастного государя. Гонец рассказал, как он во всем своем величии стоял перед Шапухом и его двором и обличал вероломство преступившего свои клятвы персидского владыки. Весь вражеский двор и сам царь были поражены его смелостью. А я – я несчастный сын! Мой отец, недостойный брат достойного брата, изменил своей родине, изменил своему царю. Теперь он стал презренным орудием в руках персов и идет, чтобы предать родную землю огню и мечу, залить ее кровью... идет разрушить церкви, в одной из которых был крещен он сам и многие из которых воздвигнуты его предками... идет принудить нас молиться на персидском языке и персидским богам...
Слезы помешали ему договорить; он закрыл лицо руками и горько зарыдал. Сердце у Самвела было не такого закала, как у Мушега, и характер не такой непреклонный, напротив, он был так чуток и раним, что даже легкие огорчения оказывали на него сильное воздействие. Но Мушег не придал никакого значения слезам брата и в бешенстве закричал:
– Да! Твой отец изменил родине!.. На честь Мамиконя-нов легло пятно позора! Надо смыть это пятно!
Он отвернулся, и взгляд его упал на портрет Вачэ Мамико-няна, его деда. Несколько мгновений Мушег в почтительном молчании стоял перед портретом предка, потом повернулся к Самвелу и, указывая на портрет, сказал:
– Когда сей доблестный муж пал на поле брани, в кровопролитной войне против персов, которую он возглавлял, земля армянская погрузилась в скорбь. Рыдал царь, рыдало войско, рыдал весь народ. На церемонии его похорон патриарх Вртаннес, сын Просветителя, в надгробной проповеди обратился со словами утешения к народу армянскому и сказал так:
«Утешьтесь во Христе! Он ушел из жизни, но смертью своей стяжал бессмертие, ибо пожертвовал собою во имя отчизны нашей, святых христианских храмов наших и ниспосланной нам Господом веры нашей. Он пал, дабы не оскудела земля наша под игом позорного плена, дабы не нарушился обряд христианских церквей наших и дабы святыни наших храмов не оказались в руках нечестивцев. Когда бы враги завладели страной, они утвердили бы в ней свою ложную религию. Почивший благочестивый мученик не щадил живота своего, дабы покарать зло и изгнать его из нашей земли, и пал на поле брани, дабы не проникла и нашу богобоязненную страну скверна нечестивости. Доколе был жив, он неизменно сражался за правое дело, а умирая, принес себя в жертву на алтарь истин, дарованных Господом нашим, во спасение овец стада Христова. Он, не пожалевший жизни за отчизну, за братьев своих и за святую церковь нашу, он, повторяю, будет сопричислен к сонму мучеников Христовых. Не станем же ныне оплакивать эту великую потерю, ею восславим самоотверженность павшего героя и установим за обычай в стране нашей, что память о нем и о доблести его станет во веки веков поминаться в храмах в одном ряду с именами святых мучеников за веру Христову».
Мушег договорил эту речь, которую все Мамиконяны знали наизусть, ибо она была для них как бы символом веры, и добавил:
– Армянская церковь поминает у святого алтаря во время церковной службы нашего деда в числе своих святых; но отныне та же церковь станет предавать анафеме его недостойного сына.
И это – мой отец! – горестно простонал Самвел.
Враг отчизны, изменник родины не может считаться ли твоим отцом, ни моим дядей. Отныне он для нас чужой, чужой даже более, чем какой-нибудь перс. Ты согласен со мною, Самвел?
– Всецело.
– Дай руку!
Самвел протянул дрожащую руку.
– Решено! – сказал Мушег и сел рядом с ним. – Теперь поразмыслим, как быть дальше.
Оба долго молчали.
Слушай, Самвел, – заговорил 1У1ушег. – Никогда еще Армения не была так близка к гибели, как сейчас. Глава государства в плену и в ссылке, глава церкви – в плену и в ссылке, глава войска, мой отец – в плену и в ссылке. Враги могут извлечь из этого все возможные выгоды. А внутренние распри чреваты еще большей опасностью. По сведениям, которые я получил, многие из провинций и областей восстали и хотят свергнуть власть царя. Взбунтовался бдешх 1Агиндза, воздвиг громадную стену и отгородился ею от Армении. Взбунтовался бдешх Нового Ширакана. Взбунтовались бдешхи из родов Махкера, Нигоракана, Дасснт-рея. Восстал бдешх Гугарка. Восстали властелины княжеств Дзо-роц, Кохб и Гартмандзор. Восстали сильные княжества Арцах,
Бдешх – титул владетеля окраинных княжеств Великой Армении Ьдешх стоял выше обычных нахараров и был, фактически, самостоятельным правителем, признававшим, правда, верховную власть царя
Тморик, Кортр и Кордов. Восстали вся Атропатена, княжества Маров и Каспов. Восстали князь Андзитский и князь Великого Цопка. Те, кто граничит с Персией, перешли на сторону персов, кто граничит с Византией – перешли на сторону византийцев.
Самвел слушал все это с глубочайшим негодованием и гневно воскликнул, прервав Мушега:
– Где же совесть у князей, которых Бог поставил на границах нашей земли, дабы они были ее хранителями, если они в нынешнюю, столь роковую для судеб Армении минуту, вместо того, чтобы грудью заслонить родину, сами поднимают мятеж и протягивают руку врагам отчизны?! Что же осталось, если все главные силы восстали?..
– Остался народ! – грозно воскликнул Мушег. – Враг совершил большую ошибку, и мы можем обратить ее на пользу родной стране. Враг посягнул на самые святые чувства народа – на его веру. Если бы твой отец и Меружан Арцруни понимали душу и сердце армянина, они не стали бы трогать религию; тогда, быть может, они и сумели бы покорить Армению. Теперь же изменники, я убежден, сами обрекли себя на поражение.
– Но народ еще ничего не знает!
– В этом деле нашим могучим союзником окажется духовенство. Ты, Самвел, в более тесных отношениях с Аштишатским монастырем – завтра же поезжай туда, не теряя времени, и сделай, что надо. Я со своей стороны пошлю гонцов во все монастыри.
– Но я не знаю, как вести себя с матерью! Она связала меня по рукам и ногам...
– Твоя мать – страшная женщина, Самвел, она может многое погубить, если не соблюдать осторожность.
– Осторожность... Но как?
– Ты должен делать вид, что согласен с нею.
– Значит, придется лицемерить? Это очень нелегко.
– Другого выхода у нас нет.
VII ПРЕДЛОГ
Утро давно наступило, а Самвел все еще не выходил из опочивальни: он вернулся от Мушега очень поздно и лег спать почти на заре. Юный Юсик не раз подходил к дверям и подолгу прислушивался к тяжелому, прерывистому дыханию и вздохам своего господина. «Уж не захворал ли?» – подумал он под конец, и на ясное, добродушное лицо юноши набежала тень печали.
Когда Юсик в очередной раз отлучился из зала, туда вошел старик, высокий и худой, словно живые мощи. Седые волосы и седая борода обрамляли холодное, обтянутое похожей на пергамент кожей лицо с крупными чертами, резкость которых говорила о твердости характера. Зачем пришел, старик и сам толком не знал, но тут же нашел себе дело: подошел к одной вещи, к другой, посмотрел их, обследовал, переставил одну на место другой, а ту на место первой; подошел к стоявшим в углу копьям и дротикам, взял одно копье, перенес в угол, оттуда принес другое, поставил на место первого, посмотрел, что получилось, увидел, что копье стоит чуть косо, поправил и снова стал смотреть, что из этого вышло. Этими перестановками он и был занят, когда снова вошел Юсик и схватил его за руку со словами:
– Ну, твое ли это дело? Опять ведь все перепутаешь!
– ЦыЦ. Щенок! – отозвался старик и отшвырнул Юсика с такой силой, что не будь тот наделен поистине кошачьей ловкостью, мог бы рассыпаться по полу, как комок сухой штукатурки.
– Потише, милый Арбак, – предупредил юноша, – наш господин еще спит.
– Спи-ит? – насмешливо переспросил старик. – Спит – разбудим. Где это видано – спать в такое время!
И правда, шум разбудил Самвела.
Арбак так звали старика – был в свое время дядькой Самвела; молодой князь вырос у него на руках, оттого-то старик и вел себя без особых церемоний. Это был старый воин с суровым и чистым сердцем. В свои преклонные лета он все еще сохранял юношескую свежесть мужественной души. Самвел уважал этого человека, уважал и его старость и его нестареющую доблесть. Несмотря на возраст Арбака, его стрелы никогда еще не пролетали мимо цели, и рука была крепка. С отроческих лет он наставлял Самвела в охоте и разнообразных воинских упражнениях: учил быстро бегать, учил прыгать через широкие расщелины, ездить верхом и укрощать норовистых скакунов, учил стрелять из лука и пробивать насквозь железные доспехи – этому он обучал своего питомца на больших медных плитах; учил одним ударом меча сносить голову с плеч или разрубать человека пополам – этому он обучал на животных; учил переносить голод и жажду, спать под открытым небом на голой земле – одним словом, обучал всем тем воинским навыкам, которые тогда были приняты в воспитании молодых феодалов и необходимы, чтобы считаться хорошим воином и хорошим человеком. Программа нравственного воспитания была у Арбака весьма лаконична и состояла всего из нескольких заповедей: не лгать; давши слово, держать его; проявлять милосердие к немощным; блюсти верность государю и родине; блюсти воздержанность в привычках и потребностях. Более основательное нравственное и умственное образование Самвела было поручено ученым монахам, которые наставляли молодого князя в богословии, языках, словесности и обучали письму. Этих пастырей приглашали из ближнего Аиггишатского монастыря.
Арбак был очень скромен и предпочитал, чтобы о его заслугах говорили другие, но порою, когда его выводили из себя, напоминав, как бы между прочим, что он потомственный дворянин. «Меня ведь не под забором нашли», – говаривал он в таких случаях. Старый воин имел обыкновение постоянно рассказывать одну и ту же историю о битве с персами, когда те захватили понтонный мост через Евфрат и не давали Юлиану 1перебраться через реку, а армяне отбросили персов от переправы и открыли дорогу Юлиану. «Эх, знать бы тогда, что этот Юлиан такой дрянью окажется...» – этими словами неизменно заканчивал свою повесть.
О каких бы чудесах воинской доблести не заводили речь при Арбаке, старик всегда отвечал одно и то же: «А вот когда мы бились у Евфрата...» и принимался за свою историю. Он никак не мог простить Юлиану Отступнику его низкого поступка с царем Тираном, что привело к гибели выдающегося армянского первосвященника.
Самвел вышел из опочивальни и, увидев Арбака, приветливо поздоровался:
– Здравствуй, Арбак. Как дела?
– Хорошо, раз ты здоров, – ответил старик и сел на ковер. Он не любил высоких тахт и кресел, почитая, смехот-
'Император Юлиан (правил с 361 по 363 годы) был убежденным сторонником язычества в его греко-римском варианте и презирал христианство за проповедь смирения и покорности. Пытался возродить величие Римской империи. Формальных гонений на христиан при Юлиане не было, но к власти он старался их не допускать. Когда во время войны с персами Юлиан подошел к Евфрату, персидские войска, охранявшие переправу, перерезали веревки понтонного моста, но царь Тиран обратил их в бегство и переправил Юлиана и его конницу. (См. Мовсес Хоренаци, «История Армении», кн. III, гл. XIII). Далее Хоренаци рассказывает, что Юлиан взял, у царя Тирана, заложников, а самого его отпустил домой, вручив ему свой портрет для помещения в церкви рядом с иконами (что было вполне в духе традиций Древнего Рима с его обожествлением императоров); когда Тиран попытался повесить портрет Юлиана в дворцовом храме, католикос Юсик вырвал его из рук царя и растоптал ногами, за что и был забит до смерти но приказу Тирана: Фавс-тос Бюзанд, а за ним и Раффи называют другую причину гибели Юсика.
ворным обычай сидеть на них. «Садятся на деревянного коня, который стоит на месте» – форму такой загадки обретал этот обычай в его устах.
– Хорошо, что ты зашел, Арбак, – сказал Самвел. – Я решил поехать на охоту.
Старик усмехнулся:
– Ничего себе охотничек! Разве охотники так поздно встают? Солнце-то джид на пять уже поднялось.
Это значило, что солнце поднялось над горизонтом на высоту пяти копий. Копье было для Арбака той всеобщей мерой, которой он оценивал любое расстояние.
Упрек старого дядьки был справедлив. Самвел никогда не позволял себе нежиться в постели допоздна, да и на охоту принято было выезжать еще до рассвета.
В свое оправдание Самвел сказал, что лег очень поздно, долго не мог уснуть и забылся сном только на рассвете. Но все это нисколько не убедило Арбака. Он остался при своем мнении: если юноша не может ночью уснуть, значит, на душе или на уме у него какая-то чертовщина. Арбак привык смотреть на Самвела, как на несмышленыша, который все еще забывает, как когда-то, вытирать нос маминым платочком, и никак не мог смириться с мыслью, что ребенок вырос, стал взрослым, что у него есть своя воля и свои желания. Самвел же, хотя и вышел давно из-под попечения, обращался иной раз к нему за советом, дабы не умалять достоинства своего старого дядьки. Но уж если у Арбака спрашивали совета, тот становился требовательным сверх всякой меры.
В конце концов он уступил просьбам своего питомца:
– Раз едешь, велю оседлать гнедого.
Зачем же гнедого, Арбак? Знаешь ведь, что я больше люблю белого, – возразил Самвел.
– Белый пока не объезжен, – отрезал Арбак тоном знатока. Этот негодник все никак не образумится, как я погляжу. Не довел бы он тебя до беды!
Самвел не стал спорить со стариком, только попросил, чтобы с ним отрядили всего двух слуг и двух борзых. Это желание показалось Арбаку весьма странным (в том, что касалось охоты, старый воин был строгим ревнителем всех законов и ритуалов). Обычно, когда Самвел отправлялся на охоту, его сопровождало человек десять-двадцать верховых и столько же собак; за несколько дней сыновьям окрестных дворян рассылались приглашения участвовать в княжеской охоте; наконец, заранее определялись место и время, дабы приготовить там все, что надо.
И вдруг его воспитаннику ни с того ни с сего приходит в голову сорваться на охоту, да вдобавок всего с двумя слугами! Что люди скажут? Прилично ли этакое княжескому сыну?! Но Самвел успокоил старика: он подумывает скорее о небольшой прогулке, чем об охоте: что-то нездоровится, хочется развеяться.
В замке все уже знали, что из Тизбона возвращается новый спарапет; знали, конечно, без подробностей, которые привезли гонцы. Самвел решил проверить, какое впечатление произвела эта новость на старика.
– Слыхал, Арбак? Отец возвращается. Он теперь спарапет!
Вместо ответа старик принялся тереть себе лоб; казалось, он не знал, что ответить.
– Что ж ты молчишь, Арбак?
– Это дурно пахнет! – отозвался откровенный старик и стал тереть лоб еще сильнее.
– Отчего же, Арбак? С чего ты взял? – Самвел притворился оскорбленным.
Арбак провел рукою по седой бороде и, зажав ее в кулаке, ответил:
– На каждый этот седой волос приходится по пережитой опасности, Самвел. Много чего довелось мне и перевидеть и испытать...
Он замолчал и не произнес более ни слова, но выражение его сумрачного лица многое досказало Самвелу. Старик, конечно же, не мог знать, сколь чудовищные повеления получил от Шапуха и должен был осуществить на родной земле отец Самвела. Но ему бередили душу смутные подозрения: с чего это вдруг спарапетом назначают отца Самвела, когда эту должность по родовым законам должен был отправлять его старший брат Васак? И по какому такому праву царь Шапух отдает распоряжения, которые подобают лишь армянскому царю? Эти подозрения и высказал старик, когда встал и, направляясь к выходу, заметил с горечью:
– Если бы господин наш возвращался из Тизбона с государем, а не с Меружаном Арцруни... Тогда это была бы радость!
Он хлопнул дверью и ушел, что-то сердито ворча про себя.
Отповедь Арбака уязвила Самвела в самое сердце. «Какая скорбь воцарится в замке, когда станет известно все! – думал он. – Никто, кроме моей матери, не одобрит поступка отца. С ним в родовое гнездо войдут распри, зависть и ненависть...».
Во все время разговора Юсик молчал и прислушивался. У него не было ни седин Арбака, ни его умудренности жиз-нью, но и юноше чутье подсказывало, что тут что-то неладно, хотя он и не мог бы объяснить, почему его господин не ликует, а все грустит и грустит, услышав о приезде отца.
На сей раз он словно утратил обычную безмятежность и казался подавленным. Самвел заметил это и участливо спросил:
– Что случилось, Юсик? Ты словно воды в рот набрал. Юный слуга огляделся по сторонам, подошел почти вплотную к Самвелу и еле слышно прошептал:
– Я кое-что узнал, господин мой...
– А что такое? – заинтересовался Самвел.
– Тот человек сегодня ночью опять был у госпожи!
– Какой человек?
– Гонец, который привез письма.
– Кто тебе сказал?
– Она.
– Нвард?
Нвард. Сказала, что глубокой ночью евнух Багос провел его в покои госпожи. Княгиня ждала его. Они заперлись и долго говорили с глазу на глаз.
– О чем говорили?
Нвард не все разобрала; очень уж тихо говорили. Она только подсмотрела в щелку: госпожа дала ему много писем. Он должен поехать во многие места, объездить многие княжества, повидаться со многими людьми и передать им эти письма.
А какие места? И с какими людьми? Нвард ничего не сказала?
Я спрашивал, Нвард не знает. Говорит, имена все незнакомые, не упомнишь. Только и запомнила, что госпожа строго-настрого наказала, чтобы он не терял ни минуты, во что бы то ни стало за две недели побывал везде и повидался со всеми, кого она назвала.
– Неужели ни одного имени не запомнила?!
Да, совсем забыл! Одно имя все-таки запомнила. Княгиня хотела, чтобы он первым делом отправился к Вараздату, верховному жрецу «детей солнца».
Услышав это имя, Самвел смертельно побледнел: сказанного было достаточно, чтобы составить представление об опасных начинаниях княгини. В Тароне все еще существовал культ солнца, его последователей называли «детьми солнца». Это были армяне-солнцепоклонники; опасаясь преследований христиан, они исполняли предписания господствующей религии, но втайне исповедовали старую веру и, подвергаясь гонениям и притеснениям, ждали лишь удобного повода, чтобы поднять восстание. И теперь повод представился: княгиня Мамиконян, госпожа всего Тарона, возвещает благую весть их духовному главе и призывает оказать ей содействие. И кому же, как не «детям солнца», с полной готовностью откликнуться на призыв княгини? Ее супруг, властелин Тарона, возвращается из Персии, дабы уничтожить христианство и утвердить персидский культ солнца. Кому же, как не «детям солнца», встретить его с распростертыми объятьями? А «детей солнца» в Тароне и особенно в Междуречье было немало. Стало быть, готова почва, на которой мать Самвела сеет теперь семена внутренних раздоров.
Все это стало ясно Самвелу.
В это утро гонец матери направился к верховному жрецу «детей солнца», а сын под предлогом охоты собрался в Ашти-шатскую обитель – матерь церквей армянских. Там был сосредоточен цвет христианского духовенства. Молодой князь намеревался известить армянских священнослужителей о грядущей опасности, побудить их к тому, чтобы и они со своей стороны готовились поднять христиан на борьбу. Служители двух религий одного народа должны были бороться между собою, и одних вдохновляла мать, а других – сын...
Из зала для приемов был вход и в гардеробную молодого князя, которую называли также «дом одеяний». Там в нишах хранилась увязанная в узлы разной величины одежда Самвела. Собольи шубы и другая верхняя одежда развешаны были в более просторных нишах и покрыты занавесками. Отдельно хранилась воинская и охотничья одежда. Все одеяния были дорогие, украшенные золотом и серебром. Самвел выбрал короткую и легкую охотничью одежду. В ней его стройная фигура выглядела особенно привлекательно.
Юсик тем временем прошел в другое помещение, дверь в которое вела уже из гардеробной. Это была сокровищница молодого князя. В ней хранились его личные уборы и дорогие сбруи и украшения его скакунов. Юсик выбрал самую скромную сбрую; ведь его господин отправлялся на охоту. Более роскошные уборы предназначались для торжественных выездов.
Когда Самвел оделся, Юсик взял сбрую, и они отправились в княжескую конюшню.
Конюшня была расположена за городской стеной, в особой постройке, такой красивой, что она скорее напоминала дворец, только для коней. Там же находились псарня и соколиная охота князя.
Едва Самвел вступил через главные ворота на просторный квадратный двор конюшни, слуги, сразу заметившие его появление, поспешили оповестить главного конюшего. Тот сейчас же вышел навстречу молодому князю, еще издали отвешивая низкие поклоны.
– Здравствуй, Завен, – приветливо сказал князь.
Главный конюший молча поклонился еще раз.
Во двор уже вывели гнедого под нарядной попоной с разноцветными шерстяными кистями. Дюжий конюх крепко держал его под уздцы, но норовистый горячий конь не переставал показывать, на что он способен: громко ржал, храпел, взвивался на дыбы, словно собирался мощными ударами копыт припечатать дерзкого к земле. Но тот железной рукою обуздывал неукротимый пыл скакуна. Другие конюхи обступили их и с живым интересом следили за опасной забавой. А старик Арбак время от времени подходил к гнедому, поглаживал его по холке и отеческим тоном увещевал:
– Ну, полно, полно, не дури!
Самвел подошел, понаблюдал, как играет конь, и повернулся к Арбаку:
– Ты запретил садиться на белого жеребца, а гнедой-то немногим смирнее.
– Это он от радости, – ответил старик и приказал, чтобы копя поводили по двору, успокоили и только потом оседлали.
Конюшня была разделена на несколько отдельных помещений. В одном стояли мулы, в другом – ослы, отдельно – обычные кони, отдельно – чистокровные аргамаки. Самвел пошел проведать породистых скакунов. Главный конюший шел впереди. Они вошли в просторное помещение, настолько длинное, что другой конец его был еле виден. В стойлах рядами стояли скакуны частых кровей, ухоженные, вычищенные до блеска, один краше другого, числом более сотни. Чтобы смирить их буйный нрав, каждого коня крепко привязывали поводьями к толстым железным кольцам, укрепленным по обе стороны стойла. Не ограничиваясь этой предосторожностью, самым злым и норовистым стреноживали задние ноги цепями, хотя каждый был отделен от остальных крепкими деревянными перегородками.
Самвел шел вдоль ряда стойл и внимательно осматривал каждого скакуна. Он всякий раз с огромным удовольствием заходил в эту богатую конюшню, знал, как зовут коней, знал их возраст, родословную, особые приметы и норов. Главный конюший с особой охотой отвечал на вопросы и замечания своего господина, выражавшие глубокое удовлетворение. Молодой князь подходил то к одному, то к другому скакуну, гладил шелковистые гривы. Это радовало конюшего еще больше, как радует любящую мать, когда при ней ласкают ее красивых, резвых детей.
– Похоже, уже пора выезжать коней. А, Завен? – заметил Самвел. – Могут скоро понадобиться.
– Понимаю, господин мой, – отозвался конюший, и его заросшее лицо осветилось добродушной улыбкой. – Князь-отец возвращается. Поди, встречать поедете?
– Да, и с большим отрядом.
– Я так и думал, и с сегодняшнего дня мы начали выезжать их помаленьку. Теперь каждый день будем выгуливать подолгу.
Когда Самвел вышел из конюшни, его конь был уже оседлан. Молодой князь вскочил в седло и пустился в путь.
VIII ОХОТА
С луком через плечо и колчаном за спиною, с длинным копьем в руках Самвел ехал на гнедом скакуне по дороге к Ашти-шатскому монастырю. Резвый конь играл под всадником, делал затейливые курбеты, грыз удила, и на губах его уже через несколько минут выступила пена. Однако он скоро угомонился и присмирел, огорченный, что хозяин не замечает его проделок. Прежде ему не раз доводилось выезжать с молодым князем, и тот обычно всячески поощрял и ободрял своего скакуна. Отчего же сегодня хозяин так невесел и не произносит ни слова? Именно это и огорчило чуткое животное. Ведь в нарядном уборе самого скакуна не было упущено ни одной мелочи, и ничто не могло бы вызвать его недовольства: узда была сплошь разукрашена розовыми кисточками, вправленными в серебряные розетки в форме бубенчиков, шею охватывал серебряный обруч, тоже с бубенчиками, которые мелодично позванивали при каждом движении благородного животного; нагрудник был расшит разноцветным бисером и заканчивался треугольным амулетом, который должен был уберечь коня от злого глаза и от несчастных случайностей; стремена были серебряные, луки седла тоже из чистого серебра, само седло обито барсовой шкурой.
Две борзые, обе одной масти, обе в одинаковых дорогих ошейниках, бежали впереди князя; позади ехали два оруженосца с ловчими соколами.
Слуги тоже дивились молчаливости молодого князя, тому, что он так ушел в себя, не глядит по сторонам и не замечает даже дичи, которая то и дело попадалась им на пути. Дорога тянулась вдоль ущелья, в теснине меж горных склонов, покрытых густым лесом. Лучи солнца не в силах были пробиться сквозь плотные кроны деревьев; ветви протянулись через дорогу навстречу друг другу, сплелись и образовали зеленый свод. Порою ущелье расширялось, и тогда взору открывался зеленый бархат лугов, усыпанный яркими цветами.
Сколь сладостен был утренний щебет птиц, сколь сладостен нежный шелест листвы! Еще сладостнее журчал горный ручей, весело сбегавший вниз в своих зеленых берегах. Все взывало о радости, все дышало жизнью, все ликовало, и только душу Самвела захлестывали волны неизбывной тоски. Чем больше размышлял он о грядущих бедах, тем более устрашающие размеры принимали они в его глазах. «Как знать, – думал он, – быть может, недалек день, когда безмятежный покой этих прекрасных зеленых кущей возмутят звуки страшной, неслыханной междоусобной сечи, тлетворный запах смерти заглушит собою аромат этих дивных цветов, и брат, подняв меч на брата, обагрит братнею кровью эти зеленые долины...».







