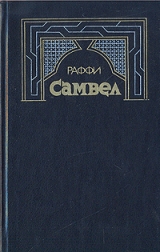
Текст книги "Самвэл"
Автор книги: Акоп Мелик-Акопян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 31 страниц)
Он очень устал. После трагического падения Вана беглый князь трое суток провел в седле, нигде не останавливаясь. К этому добавились еще и тяжелые душевные переживания, совершенно обессилившие его. Он искал укромного уголка, где можно было бы немного отдохнуть. Показываться в селах Меружан не решался, опасаясь расправы. Куда идти? О нем везде знали, и везде считали врагом. Эти мысли не давали ему покоя; так и не приняв никакого решения, князь продолжал гнать коня, хотя и сам не знал куда. Конь тоже выбился из сил и еле передвигал ноги.
К мукам усталости добавились и муки голода. С самого утра во рту у него не было ни крошки. Закаленный воин, Меружан привык к жизни под открытым небом и мог превосходно отдохнуть, выспавшись под деревом или под скалою. Но как быть с голодом? Природа предъявляла свои права. С другой стороны, его томили смутные подозрения. Этот невероятно храбрый и еще более уверенный в себе человек вдруг начал проявлять беспокойство. «А вдруг за мною гонятся?» – думал он. В столице никто не осмелился, из страха перед матерью, бросить в него камень. Она, конечно, отдала на этот счет самые строгие распоряжения. Но кто запретит каким-нибудь негодяям тайком выбраться из города и пуститься следом за ним? Не то чтобы он так уж дорожил жизнью, но она нужна была для осуществления поставленных целей. Подумав об этом, Меружан натянул поводья и свернул с большой дороги.
Свернув с торного пути, он намеревался по проселочным дорогам добраться до какого-нибудь глухого местечка, чтобы немного отдохнуть самому, дать отдых коню и потом продолжить путь. Князь хотел воспользоваться ночной темнотою и под ее покровом успеть выехать за пределы своего княжества (восточная граница была совсем недалеко), где каждый мог узнать его, и он постоянно был в опасности. Он ехал долго, но все не мог добраться до целины, оторваться от вспаханных полей и нив. Пашня говорит о близости человека, а он бежал от людей, искал безлюдья, искал пустыни. Места были ему знакомы, но темнота мешала определить, где именно он находился. Наконец пашни перестали попадаться. Теперь повсюду расстилались луга с густой зеленой травой. Это говорило, что он уже где-то в предгорьях.
До его ушей несколько раз донесся собачий лай. Никакой другой звук не мог сейчас быть приятнее: он наткнулся на пастухов или на охотников – ни те, ни другие не причинили бы ему вреда. И князь повернул коня в сторону, откуда доносился лай. Когда Меружан подъехал ближе, вместо одной собаки залилась лаем целая свора. Он продолжал ехать вперед, пока собаки не кинулись на него, преградив путь. Отбиться от озверевших псов было невозможно: при нем не было оружия, только кинжал. Меружан понял, что наехал на стоянку пастухов. Убить или ранить у пастуха собаку – все равно что убить брата или лучшего друга. Следовало объясняться с пастухами. Поэтому он только отбивался от собак. Разъяренные волкодавы окружили Меружана тесным кольцом и с бешеным лаем кидались со всех сторон. И его, конечно, разорвали бы в клочья, если бы не верный конь. Откуда ни наскакивали взбешенные псы, храброе животное мгновенно поворачивалось в ту сторону и отбивалось ударами копьгг.
На лай выбежал с копьем в руке пастух и окликнул из темноты:
– Кто ты? И что тут делаешь?
– Угомони собак, – отозвался Меружан, – потом узнаешь.
– Собаки не оставят тебя в покое, пока не скажешь, кто ты. Князь решил, что спорить с неотесанным простолюдином не имеет смысла, и ответил:
– Я младший сын ворсиранского князя. Мы охотились, и когда стемнело, я заблудился и потерял своих людей.
Ответ вполне удовлетворил пастуха; более того, ему даже польстило, что такой знатный человек вынужден силою обстоятельств искать прибежища в его шатре. Он прикрикнул на собак, и те умолкли. Потом подошел и взял под уздцы лошадь гостя.
– Следуй за мною, благородный господин, – сказал он.
Видя, как доброжелательно относится к пришельцу их повелитель, псы успокоились и разбрелись по местам.
Пастух провел нежданного гостя в свой шатер. Сразу же зажег светильник, расстелил на землю кошму и пригласил гостя сесть, а сам остался стоять, готовый к услугам.
– Садись и ты, добрый человек, – сказал Меружан. – Под одной кровлей гость и хозяин всегда равны. Обстоятельства привели меня в твой шатер, и я очень рад, что попал к хорошему человеку.
– Сначала надо позаботиться о госте, благородный господин, – возразил пастух, по-прежнему не садясь. – Гостя первым делом накормить надо.
– Не обременяй себя особыми хлопотами, – ответил гость. – Что Бог послал, что найдется, тем и обойдусь. У тебя наверняка есть хлеб или сыр, а если еще добавишь простокваши, ужин получится хоть куда. Я и впрямь проголодался.
Жилище пастуха напоминало комнату; четырехугольная нижняя часть его была сложена из тонких круглых сучьев, увязанных пестрым шнуром, переплетения которого складывались в причудливые узоры; куполообразная кровля была обтянута изнутри толстыми домотканными коврами, которые сходились в ее центре. Куда ни глянь, всюду бросались в глаза своеобразная нарядность и достаток, пожалуй, слишком расточительные для жилища простого пастуха. Это побудило Меружана задать вопрос:
– Чьи это стада?
– Княжьи, – ответил пастух, и в голосе его прозвучала простодушная гордость.
На лице Меружана мелькнула растерянность, и он поспешно отвернулся, чтобы хозяин не заметил его волнения. «Княжьи...» – подумал он оторопело. Итак, он попал к собственным пастухам! Стада были «княжьи», то есть принадлежали княжеской семье Арцруни. Пастух, как видно, не знал своего господина в лицо, но ведь среди его товарищей вполне могут найтись и такие, которые узнают князя. Меружан отодвинулся поглубже в темный угол.
– Убери-ка светильник подальше, – попросил он, – А еще лучше – повесь его снаружи: глаза режет от яркого света. Скоро и без него светло будет, уже луна вышла.
Пастух исполнил пожелания гостя и отправился хлопотать об ужине. Он был, очевидно, главным среди пастухов. Те сразу же зарезали молодого барашка и развели неподалеку от шатра огонь, чтобы испечь свежего хлеба. А их старшой вернулся назад, чтобы не оставлять гостя одного.
Меружан тем временем лихорадочно размышлял: выходит, он попал в ловушку и рука провидения отдала его во власть простодушных пастухов, которые отличались особой добротой и тем нетерпимее были ко всякому злу. Князь, господин – все это ничего не значило для них если он сворачивал с пути, указанного Богом. Но Меружан любил искушать судьбу и с интересом ждал, чем кончится эта горькая ее шутка.
– Сядь, – снова обратился он к пастуху. – Ты сделал свое дело, теперь можно и посидеть. Как тебя зовут?
Пастух так и не осмелился сесть, находясь под одной кровлей с высокородным гостем; гордый и довольный, он устроился снаружи, у самого входа, и ответил оттуда:
– Ты пожелал узнать мое имя, господин? В церкви нарекли Манеч, а так все зовут Мани.
– Я тоже буду звать тебя Мани, так лучше. Скажи мне, добрый Мани, а где теперь твой хозяин? Что слышно о Меружане?
При этом имени на дочерна загорелом лице пастуха появилось угрюмое выражение, и он ответил, стараясь не выказывать своего волнения.
– Не знаю, благородный господин. Тебе лучше знать, где он и что делает. В наши глухие горы новости доходят редко. Ате, что доходят – горькие вести, ох, горькие... душу ранят.
Видно было, что преданный слуга не хотел перед членом другого знатного рода, перед чужаком, порочить своего князя, тем более, что он слышал о нем немного, да и это немногое было неутешительно.
Мани было на вид лет шестьдесят, но он был еще юношески бодр и легок в движениях. В горах Васпуракана пастухи поддаются старости, лишь перешагнув за сотню лет. Это был человек крупного сложения, с крупными чертами лица, говорившего о натуре простодушной и сильной, и только в глазах его таилась какая-то непонятная печаль.
– А ты Меружана когда-нибудь видел? – спросил гость.
– Видел, как не видеть, – невесело отозвался пастух. – Тогда он был совсем молодой, усы только еще пробивались. Потом он уехал в Персию, и там этот нечестивец, царь персидский, сбил его с толку... А после, тому уже немало времени, видеть его не доводилось.
– Эти стада – все его?
– Все его, господин. Звезды на небе – и те сосчитать можно, а стадам его счету нет. Здесь вот пасутся только отары овец, и каждая – одной масти и одной породы: черные отдельно, белые отдельно и другие масти тоже так же. А перевалишь через гору – там козы пасутся, и тоже стада подобраны по масти и по шерсти. А туда дальше, к Ервандунику, табуны его коней, мулов и ослов – все как на подбор, один к одному. А еще дальше пасутся его быки, коровы и волы. А если еще дальше, так там, на берегах Тигра, в Джермадзоре, в болотистых зарослях пасутся стада его буйволов. Одним словом, чего там долго говорить – от Зареванда до Кордика и оттуда аж до самого Ванского озера – везде только стада Меружана. Бог его всем одарил в изобилии, ничем не обделил, а вот он не очень-то возблагодарил творца...
При последних словах голос старика явственно задрожал.
– А он приезжает посмотреть свои стада?
– Ни разу не был. Да он и сам не знает, сколько у него чего. Он чуть не с пеленок все воюет и хозяйством не занимается. Вот отец его покойный, тот был не такой! Каждый год, бывало, как осень настанет – приезжает. Ну, а уж мы овец-то вымоем, вычистим, стада показываем чистые, белые, как снег. А он смотрит да Бога благодарит. Вот в этом самом шатре не раз и не два доводилось мне его потчевать. Сядет, бывало, и с удовольствием отведает пастушьего хлеба-соли, хоть у нас и без разносолов.
– А теперь кто ведает всем этим богатством?
– Старая княгиня. Дай Бог ей долгой жизни, чтобы не оставляла нас своим попечением. Ума у нее – палата! Как помер старый князь, она и стала заправлять всеми делами. Приезжает – все осмотрит, порадуется, порасспросит обо всем. Не только всех пастухов знает – как зовут, кто и откуда, а даже и овец-то многих помнит. Знает, какая какого возраста, какой приплод дает. Она тоже меня Мани зовет. А ведь слуге приятно, когда хозяева его знают и по имени кличут. Меружан – тот не такой, случись мне пройти мимо него, даже и не узнает, кто я и что я, а ведь вот уж сорок лет на его стада жизнь моя уходит. Сорок лет – не пустяк, благородный господин.
– А на что ему столько скота?
– И ты еще спрашиваешь, благородный господин?! – воскликнул пастух, и улыбка мелькнула в глубоких складках его доброго обветренного лица. – Да ведь что ни неделя – сто лучших баранов посылаем на княжью кухню. Знаешь, сколько там человек каждый день накормить надо? Что ни день, несколько сотен за стол-то садятся! Опять же и масло, сыр, простоквашу – все отправляем к княжьему столу. Они ведь еще и дарят, бывает, разным людям, бедным раздают, жертвы приносят. Бог им столько дал – как ни трать, не убудет.
Пока неузнанный хозяин и его пастух коротали время за дружеской беседой, луна уже взошла довольно высоко над горизонтом и залила своим дивным светом мирно спящие в безмятежной тишине предгорья. Недалеко от шатра, в багровых отсветах огня, видны были другие пастухи, сидевшие вокруг костра. Одни жарили на вертелах мясо, другие пекли свежий хлеб, а сами тем временем переговаривались, шутили и обменивались замечаниями о ворсиранском госте.
Ворсиранцы отличались своеобразными, странными для других обычаями, и все смешные истории, какие только создавались в народе, относили на их счет. Один из пастухов как раз и рассказывал такую побасенку:
– Пришли как-то двое ворсиранцев в гости. Хозяйка смешала черных букашек с черным изюмом и подала на стол. Букашки пустились наутек. Тут один ворсиранец и говорит другому: «Сначала давай этих, которые с ногами, съедим, пока безногие спят».
Все захохотали. Потом каждый в свою очередь начал рассказывать, что слышал и что знает; время от времени то один, то другой вставали, подходили к шатру и издали с любопытством поглядывали на ворсиранского гостя, словно проверяя, насколько верны их побасенки.
Ужин оказался лучше, чем ожидал Меружан. Перед ним поставили на деревянном подносе свежую простоквашу, сыр, две головки лука, а шашлык приносили прямо на вертелах, с пылу, с жару, и когда мясо кончалось, приносили еще. И этот человек, который занимал некогда самое почетное место за столом армянского царя, которого за трапезою сажал рядом с собой царь царей Персии, никогда еще не ел с такой охотой и удовольствием, как за непритязательным столом своего пастуха. У добродушного Мани нашлось даже вино. Накрыв на стол, он отошел в угол, разгреб руками мягкую землю и вытащил глиняный кувшинчик.
– Я всегда закапываю вино в землю, – сказал он. – Так-то оно лучше: и не согревается и не киснет от жары.
Меружан попросил пастуха разделить с ним трапезу. Мани согласился с большим трудом.
– Это для меня чересчур большая честь, благородный господин. Ну да ладно, пусть и старик Мани погордится перед людьми, что раз в жизни сидел за одним столом с княжеским сыном.
Он сел и поставил рядом с собой кувшин с вином.
Первую чашу Меружан выпил всю до последней капли. Увидев это, Мани начал пить сам и чаще подносить вино гостю. Когда они осушили не одну чашу, пастух спросил:
– Скажи, благородный господин, что слышно о Меружане? Ты живешь в большом мире, знаешь, что на свете делается, и хорошее и плохое. Мы оторваны от мира и не знаем, что и как. Верно ли то, что говорят?
– А что говорят?
– Да как сказать... Ты-то лучше знаешь, благородный господин... язык не поворачивается повторять.
– Я тоже ничего толком не знаю, добрый человек. Много чего говорят... не знаешь, чему и верить. Знаю лишь, что Меружан вот-вот вернется и, наверно, станет армянским царем.
Иссеченное морщинами лицо пастуха совсем помрачнело: последние слова, вместо того, чтобы обрадовать – ведь его хозяин и князь станет царем – наоборот, еще более огорчили его.
– Нехорошо это! – сказал он грустно. – Против Божьей воли... Царь – это царь, а князь – это князь. Бог наказал бы меня, вздумай я стать Меружаном. Я его пастух и должен довольствоваться своей долей.
– Но предки Меружана были царями! – прервал его гость.
– Этого я не знаю, были или не были. Может, и были. А только чем он и так-то царя хуже? В своей стране он и есть царь. От Аракса и до Ванского озера – все это его владения. Разве ж у царя Аршака столько земли? Я много ездил, господин мой, и во многих местах побывал. Видал табуны царя Аршака, видел и отары его овец – не только половины наших, но и поло-вины от половины не наберется. Видал я и охотничьи угодья царя Аршака, опять же далеко им до наших! Так чего ж не хватает Меружану? Зачем он идет поперек воли Божьей, грех берет на душу, да и на всю страну... Горько это, ох, как горько, господин мой... Одна надежда на Господа Бога; может, смилостивится над нами, отвратит князя от зла и направит на путь истинный.
С этими словами он налил себе вина, поднял глаза к небу, прочитал молитву и осушил чашу, словно хотел погасить огонь, который жег его сердце.
Меружан был взволнован. Глухие укоры совести зашевелились в его душе.
Пастух тем временем снова наполнил чашу и протянул ее гостю:
– Выпей, господин мой, и тоже вознеси мольбу к Создателю, чтобы отвратил князя от зла и направил на путь истинный. Ведь Меружан – и мой и твой господин. Я его покорный слуга, простой пастух, а ты его высокочтимый приближенный. Помолимся же за нашего князя, и да всемогущий Господь услышит наши мольбы.
Рука Меружана дрогнула, когда он принял чашу. Он был смущен и растерян: ему приходилось молить Бога за свои собственные грехи, молить того Бога, от которого он всенародно отрекся перед царем царей. Он должен был молиться, чтобы этот самый Бог свел его с пути неправедного, должен был сам, собственными устами произнести слова, осуждающие самого себя – собственное свое покаяние. Но с каким сердцем? С нераскаянным, с непримиренным... Это было страшно тягостно. Гостеприимный хозяин поставил его в крайне затруднительное положение. Притворяться?.. Лгать? После долгого колебания он все же повторил слова своего пастуха и осушил чашу.
Меружан тут же пересел подальше от скатерти. Пастух заметил, как поник его гость, и участливо сказал:
– Ты ведь с дороги, господин мой, и, видно, очень притомился. Я мигом постелю тебе. Сон – лучшее лекарство от усталости. Постель, понятно, будет не роскошная, зато удобная. Отдам тебе мою бурку, завернись в нее и ложись. А вместо подушки вот этот мешок положи под голову. Он набит мягкой травой – куда до нее пуху!
Меружан поблагодарил добросердечного пастуха за заботу и сказал:
– Ночь так хороша, Мани, и луна так сияет, что мне не спится. И вино у тебя тоже хорошее, я много выпил, и оно бросилось
мне в голову. Хотелось бы пройтись, унять волненье в крови. Проводи меня, добрый Мани, чтобы твои собаки не помешали.
Меружан встал, а Мани взял свою палку и прошел вперед, спросив, в какую сторону хотелось бы пойти на прогулку гостю.
– В сторону гор, – ответил князь.
Они прошли мимо тихо и безмятежно спавших отар и подошли к подножию горы.
– Оставь меня одного, добрый Мани, – сказал Меружан. – Я поброжу тут немного, потом посижу на какой-нибудь скале, погляжу с ее высоты, как плывет сквозь пелену туч луна, послушаю, как журчит горный ручей.
Простодушный Мани был изрядно озадачен волнением гостя, повергшим его в такую излишнюю восторженность. Эту неожиданную перемену он приписал действию вина. И потом, кто знает, – подумал пастух, – какие неведомые чувства волнуют душу гостя... И он оставил его одною, только дал на прощание свою свирель.
– Оставайся тут, господин, сколько душе угодно, наслаждайся ночной прохладой. Надумаешь вернуться – заиграй на свирели, я услышу, приду и проведу тебя, а то собаки у нас злые.
– Спасибо, добрый Мани, – сказал гость и взял свирель.
Меружан остался один. Долго бродил он у подножия горы
и все не мог смирить волнения своего сердца. Им овладела та безнадежная тоска, которая повергает человека в полную растерянность. Никогда еще его могучая воля не была так немощна, никогда еще его безграничная уверенность в себе и своих силах не была так ослаблена, как в эту ночь. Князь остановился и прислонился к скале. Он всматривался в царивший вокруг и едва озаряемый тусклым светом луны глубокий мрак, смотрел на унылое небо, покрытое свинцовыми тучами. Луна то выглядывала, то снова скрывалась за непроницаемыми темными клочьями, и имеете с нею все окрест то освещалось, то снова погружалось в ночную тьму. Так и в его душе то высвечивались островки надежд и страстных упований, то снова все погружалось в кромешный мрак неопределенности.
Он так устал... устал и телом, и душою... Меружан присел на скалу. Присел на обломок камня в своем обширном княжестве, как беглец, как злосчастный изгнанник, которому нет ни пяди твердой почвы под ногами на собственной земле. Он перебирал к памяти скорбные отбытия прошедшего дня, обжигающие душу слова матери и пастуха, и сердце его разрывалось от муки.
Меружан встал и обратив к небесам гневное лицо, воскликнул:
– Что ввергло меня в столь бедственное состояние? Честолюбие? Нет, тысячу раз нет! Армянский трон, царский венец и скипетр, обещанные мне царем Шапухом, никогда не смогли бы сделать меня презренным орудием персидского владыки. Я не столь низок, не столь бездушен, чтобы попрать ногами священный долг и восстать против своего государя... Я охотнее принял бы смерть и унес бы с собой в могилу незапятнанную честь, чем подставил лоб под позорное, черное клеймо изменника] Так что же ввергло меня в столь бедственное состояние? Неукротимая жажда мести? Неутолимая жажда крови? Опять же нет! Да, весь мой род, мои предки пали жертвою меча, были безжалостно перебиты Аршакидами, да, с самого младенчества священный долг отмщения неустанно побуждал меня отплатить за них и умилостивить тем души предков, которые неотступно терзали меня своими укорами – каждую минуту, каждый миг... Но я не стал бы во имя кровной мести губить царство Аршакидов и ставить свой захваченный изменою трон на обломках их злосчастной династии. Так что же ввергло меня в это бедственное состояние? Что побудило отречься от своего Бога, отречься от религии моей родной страны, отречься от всего, что свято для меня, и поклониться персидским святыням? Что убило во мне веру, что задушило во мне все святое, родное, исконное? – Только ты, только любовь к тебе, Ормиздухт!
Произнося это имя, он опустился на колени, словно совершал обряд поклонения бессмертной богине.
«Я люблю тебя, Ормиздухт, люблю до безумия! Это знал твой царственный брат и воспользовался моей слабостью... Каких только обещаний, каких только наград, чего только из того, что всего дороже для славы и удовольствия, ни сулил он мне, но не сумел сломить мою верность родине и государю. А посулив тебя, он отнял у меня все, что было свято, что было дорого для меня... Я согласился исполнить самые коварные его замыслы, лишь бы получить тебя, Ормиздухт!»
Он умолк и молчал долго. Слезы ручьями лились из его глаз, и глухое раскаяние терзало его сердце.
«Люблю... не могу убить в себе эту любовь!»... – вскричал он.
Меружан снова обратил взоры к небесам и, простирая к ним руки, взмолился:
«Боже, всемилостивый и всемогущий! Укажи мне, где он, тот сосуд, в котором собраны животворные капли любви, укажи мне его, о Господи, и я уничтожу, я вдребезги разобью его, ибо только в нем все мои несчастья. Зачем, о Творец, вложил ты в меня этот сосуд, зачем зажег в моем сердце это негасимое пламя? О, хоть бы не было на свете любви к женщине, хоть бы не было ее никогда и нигде – я был бы куда счастливее... Во имя этой любви я взял на себя позорную обязанность... Во имя этой любви я уже совершил и еще совершу варварские, адские злодеяния... Я слаб, я бессилен, о Создатель, и только твоя всемогущая длань в силах погасить его, это чувство... Молю тебя, убей его, обрати мое сердце в мертвую пустыню, чтобы угасли во мне все страсти...»
Он умолк. Снова слезы заструились из его глаз, снова неистовая буря страстей сотрясла все его существо, и долго страдал он, изнемогая под бременем противоречивых чувств, потом схватился, как безумный, за голову и прошептал дрожащим голосом:
– Нет, нет, о Создатель! Я люблю ее, и нет для меня без нее ни света, ни жизни... Ты создал любовь, ты вложил ее в меня – ты и должен стать ей поддержкой и опорой. Любовь – высшее твое творение, О Создатель! Еще до сотворения мира ты знал уже и об ее созидательной и об ее разрушительной силе, ты знал, как неумолимо будет она направлять людские сердца то к добру, то ко злу. Меня она бросила на путь зла, и я пойду по нему до конца! Пусть я стану предметом всеобщего презрения и осмеяния, пусть стану предметом вечного осуждения в глазах будущих поколений, пусть все клянут мое имя – я люблю и буду любить! Моя бесценная Ормиздухт должна стать царицей Армении, я же стану царем лишь затем, чтобы быть достойным ее. Пусть будет залит кровью путь, который приведет меня на армянский престол, пусть по грудам трупов взберусь я на эту высоту, – все сладостно, все приятно и желанно, ибо на этой высоте я наслажусь ее любовью!..
Рано утром, едва забрезжил рассвет, и пастухи начали выгонять отары на ближнее пастбище, к шатру Мани подскакало трое вооруженных всадников.
– Не проезжал тут’ человек на белом коне? – спросил один из них.
– Ночью он был моим гостем, – ответил пастух.
– Где он?
– Уехал.
– Когда уехал?
– Ночью приехал и ночью же уехал.
– Куда уехал?
– Темно было, я долго смотрел вслед, по так и не разобрал, куда он поехал. А кто он? – спросил пастух с проснувшимся интересом.
– Меружан!
«Эх, кабы знать!..» – подумал пастух и застыл на месте. «Эх, кабы чуть поспешить!..» – подумали всадники и ускакали прочь.
VIII ШАПУХ У РАЗВАЛИН ЗАРЕХАВАНА
И выступил персидский царь Шапух со всеми войсками своей державы и пришел в страну Армянскую. И полководцами у него были Ваган из рода Мамиконянов и Меружан из рода Арцруни...
Когда войска Шапуха, царя персидского, стояли в земле Багреванд, у развалин города Зарехавана... собрали и привели к персидскому царю всех пленных из оставшихся в стране армян. И повелел Шапух, царь персидский, бросить всех взрослых мужчин под ноги слонам, а всех женщин и детей насадить на колья на повозках. Тысячи и десятки тысяч были убиты и нельзя было их перечесть, ибо не было им счету. А жен дворян и нахараров, бежавших от персов, он приказал привести на площадь для конных ристаний в городе Зарехаван. И приказал раздеть донага благородных женщин и разместить на площади, а сам царь Шапух на коне проезжал среди женщин...
И из рода Сюни всех взрослых мужчин перебили и женщин убили тоже, а маленьких мальчиков царь велел оскопить и отправить в Персию. И все это он совершил, чтобы отомстить Андовку Сюни за то, что тот воевал с Нерсехом, царем Персии.
Фавстос Бюзанд
Весть о поражении Меружана и Вагана Мамиконяна долетала до Тизбона с быстротою молнии. Это горестное известие так уязвило надменного Шапуха, что он принял решение лично встать во главе своих войск и двинуться походом на Армению. Его не столько огорчала гибель воинов, павших у крепостных стен Вана, сколько приводила в бешенство мысль о том, что замыслы касательно Армении с самого начала натолкнулись на неудачу.
Огромное войско Шапуха не успело еще дойти до Атропа-тены, а ужас охватил уже всю Армению. Персы надвигались
неотвратимо, как лавина, чтобы затопить, снести, стереть все с лица земли. Многие из армянских нахараров оставили свои семьи и свои крепости и разбежались кто куда. Остальные укрепились в неприступных горах.
Восточную Армению, граничившую с Персией, Шапух нашел совершенно беззащитной, открытой перед его войском. Он шел по стране и всюду, где проходил, оставлял за собою руины, скорбную пустыню и безлюдье. Города и другие поселения предавались огню, жители, не сумевшие бежать, угонялись в плен. Полчища Шапуха вели Меружан Арцруни и Ваган Мамиконян.
Шапух вступил а Багреванд и расположил свои основные силы близ развалин города Зарехавана, разрушенного его передовыми отрядами.
Он пришел сюда, намереваясь захватить в плен армянскую царицу Парандзем, которая находилась тогда в Шаапиване, в предгорьях горы Цахканц, то есть Цветочной, где была летняя резиденция армянских царей. Но прежде чем нагрянул Шапух, царица успела ускользнуть и с войском из одиннадцати тысяч воинов укрылась в крепости Артагерс в ущелье Аракса.
Было утро, горестное утро накануне того дня, когда Шапух собирался двинуться на Артагерс, чтобы начать его осаду. В то утро по его приказу были совершены такие злодеяния, которые недостойны ни царя, ни человека вообще.
Тихо и печально струила свои воды Арацани, нынешний Евфрат, словно страшась увидеть зверства, которые готовились на ее глазах.
На одном из берегов реки, на склоне горы Нпат были раскинуты царские шатры, все лазоревого цвета, один богаче и роскошнее другого. В сочетании с яркой зеленью горного склона они являли собою великолепное зрелище. С царем был и его гарем: персидские владыки имели обыкновение во время длительных походов возить его с собой. Закрытые шатры красавиц гарема были огорожены со всех сторон большими полотнищами плотной белой ткани и скрыты тем от постороннего взгляда.
На живописной прибрежной возвышенности далеко во все стороны раскинулся персидский стан. Всюду были расставлены шатры полководцев и палатки воинов. Развевались разноцветные стяги, свои у каждого полка.
На конусообразной верхушке царского шатра был укреплен золотой шар, на котором сиял священный знак персов – золотое солнце с золотыми лучами. В шатре, на четырехугольном, покрытом тонкой резьбой троне из слоновой кости восседал царь царей. В то утро на Шапухе было кроваво-красное одеяние. Это означало, что ему предстоит кровавое дело. На голове царя была великолепная митра, спереди к ней жемчужными нитями был прикреплен царский знак – золотой шар с золотыми лучами. Грудь от самых плеч была покрыта оплечьем из драгоценных камней, доходившим до пояса, тоже сплошь усыпанного каменьями. Рукава были перехвачены выше локтя золотыми браслетами, уши украшены тяжелыми золотыми серьгами. С правого плеча спускался талисман, усыпанный многоцветными каменьями огромной величины и ценности; он наискось пересекал грудь и застегивался под левою рукою. В этот талисман были вложены вся магическая сила и все искусство придворных жрецов. Шапух сидел, скрестив ноги, и держал на коленях вместо скипетра тяжелую булаву. За троном, охраняя его, застыл с мечом царя царей придворный оруженосец. По правую руку от трона стоял Меружан Арцруни, по левую – Ваган Мамиконян, отец Самвела – два зятя Шапуха, оба в полном вооружении.
Перед царским шатром, по обе стороны от входа, стояли главные персидские военачальники, придворные и другие приближенные персидского владыки. Все молчали и с глубоким благоговением ждали, что скажет их повелитель.
Владыка ариев был среднего роста, смуглолицый, с большими горящими глазами. Коротко подстриженная черная борода была присыпана измельченным в порошок золотом. Лицо выражало суровость и жестокость.
Царь царей расположился со своим войском в долине, полной для армян незабываемых воспоминаний – с древнейших времен она была колыбелью их религий и культов. По долине, протекала Арацани – Иордан армянского народа. На заветных берегах этой реки возвышалась величественная гора Нпат – священный Синай 1армянского народа, где в пещере скрывался некогда Просветитель армян и где он почил вечным сном. И вот теперь стан персидского владыки, врага христианства, раскинулся в местах, бывших колыбелью христианства.
Царь молчал, и его взор не отрывался от великолепного монастыря, возвышавшегося прямо напротив, па склоне Нпа-
'Синай – полуостров между Суэцким и Акабским заливами в Красном море, а также гора на нем. Связаны с библейскими сказаниями – места исхода евреев во главе с Моисеем из египетского плена. На горе Синай Моисей беседовал с Богом, там же получил от него скрижали с десятью заповедями. В переносном смысле – священная земля.
та. Живописные постройки как бы соперничали высотою своих куполов с вершинами окрестных гор.
– Что это за монастырь? – повернулся он к Меружану Арцруни.
– Монастырь святого Иоанна, государь, – ответил Меружан и добавил. – На этом месте находилась прежде древнейшая из святынь Армении, называвшаяся Багаван, а в ней богатейший храм Ормузда-странноприимца. Любой путник, любой чужеземец находил в его бесчисленных покоях гостеприимный прием и приют. Здесь каждый год, в начале армян-кого месяца Навасарда, отмечался всенародный праздник – встреча Нового года. Присутствовали армянский царь и все нахарары. Благословляли созревшие плоды и приносили в дар Богу гостеприимства. Вечно горел в святилище небесный огонь Ормузда, и множество жрецов служило у священного алтаря.







