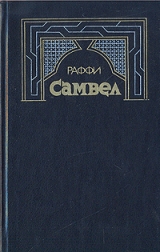
Текст книги "Самвэл"
Автор книги: Акоп Мелик-Акопян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 31 страниц)
Горцы овладели окрестными холмами и оттуда метали на город пламя. Их орудием были прародители нынешних артиллерийских орудий – простые, примитивные пращи, сделанные из железных цепей, чтобы не горели. В пращи закладывали пропитанные серой тряпки и куски ковровой ткани, смоченные нефтью или другими горючими жидкостями, зажигали и, раскрутив в воздухе, метали огонь в город. Некоторые метали камни, тоже из пращей.
Через некоторое время огни загорелись и в городе. То там, то тут вспыхивало пламя. Но оно вспыхивало и снова гасло, не перелетая за крепостные стены, оставаясь на одном месте: это начали загораться внутренние постройки города.
Войска в осажденном Ване целиком состояли из персов, которых привели с собой Меружан Арцруни и Ваган Мамиконян. В эти страшные, тревожные часы они не столько думали о борьбе с внешним врагом, сколько старались удержать в повиновении жителей, которые в страхе и смятении выскакивали из своих домов, ставших игралищем разъяренной огненной стихии. Персы боялись, как бы горожане не открыли ворота и не впустили врага.
Огонь между тем все распространялся. Загорелись копны сена на кровлях конюшен, за ними – сеновалы и склады. Вспыхнул, как обрывок бумаги, рынок со всеми его товарами. Пожар начался в столярном ряду и перекинулся на жилища горожан. Люди уже и не пытались тушить его, они стремились хотя бы спастись бегством. Но куда бы они ни бежали, в какую бы сторону ни бросались, всюду путь преграждало море огня. Отчаянные вопли объятой ужасом толпы сливались с грохотом рушившихся строений и еще более усиливали всеобщее смятение.
Зловещее зарево пожара высветило страшное чудовище, которое, словно окаменевший дракон, громоздилось в северной части города. Оно увеличивалось в размерах и приобретало все более устрашающий облик по мере того, как вокруг разгорались все новые пожарища. Надменно взирало оно на бушующее вокруг пламя, и его сумрачный взгляд, казалось, говорил: «Ничтожная стихия, бушуй, сколько вздумается, простирай повсюду свою ярость – все равно твоим волнам не доплеснуть до моей высоты»...
Это была цитадель Вана – исполинское каменное укрепление, диво, созданное самой природой, неприступная твердыня, чудеса которой армянские легенды приписывали Семирамиде.
Если присмотреться поближе, цитадель походила на безобразного верблюда, который опустился на колени и, как некий страшный сфинкс, ушел до половины в прибрежный песок. Огромная голова была обращена к востоку, громоздкое туловище – к западу. Двойной горб вздымался до самых облаков и нес на себе огромные башни и неприступные оборонительные сооружения. Не было в мире силы, способной пробить его скалистые бока, крепкие, словно сталь. В каменном чреве были высечены многочисленные жилые помещения, глубокие пещеры, большие и малые залы, таинственные и непонятные.
В одном из таких высеченных в камне залов, в том самом, где некогда восседала Семирамида, любуясь с высоты цитадели синим зеркалом Вана и изумительной панорамой Варагс-ких гор, восторгаясь живописной природой Армении, ныне находилась другая женщина.
Она спала. Спала таким сладким и мирным сном, какой добрые духи небес слишком редко даруют смертным. Она спала, не снимая одежды, на роскошно убранном ложе. Прекрасное лицо было освещено заревом пожара, капельки пота блестели на гладком челе, обрамленном черными кудрями. Порою ее розовые губы чуть вздрагивали, и еле заметная, но полная прелести улыбка пробегала по лицу. Тяжелое дыхание вздымало пышную грудь и драгоценное ожерелье. На обнаженных руках блестели золотые браслеты, но кроме них на этих прекрасных руках было два железных кольца, соединенных между собою короткой цепью. Одна нога была прикована к ложу. Она походила на ангела в оковах, ангела, вся вина которого – именно в его невинности.
Красное зарево пожара, проникая сквозь широкие окна, наполняло зал, ставший ее темницей, ярким, ослепительным светом. При этом зловещем освещении она выглядела еще прекраснее.
Шум и крики все нарастали и наконец разбудили женщину. Она приподняла голову и удивленно огляделась. Сначала у нее возникло ощущение, что все это – еще во сне: она ничего не понимала. До ее ушей доносились лишь топот множества ног, разноголосые крики и горькие, отчаянные рыдания. Казалось, настал конец света, и весь мир колеблется и рушится. Ей стало жутко. Она попыталась было подойти к окну, но цепь на ноге удержала ее. Крики все усиливались, и зарево, освещавшее комнату, разгоралось все ярче. Страшно было даже смотреть вокруг. В ужасе она закрыла глаза руками и зарыдала:
– Боже мой, что это? Что происходит?..
В это время некто тяжелой уверенной поступью поднимался по каменной, высеченной в скале лестнице, ведущей в цитадель. Он молча переводил взор то на ад, царивший вокруг, то под ноги, на неровные ступени, которые освещал факелом идущий впереди воин, хотя никакой надобности в освещении уже не было. Долго пришлось идти, пока он не поднялся до самых верхних помещений цитадели и не остановился перед покоями, о которых мы только что говорили. Он кивком велел воину остаться за дверью, а сам достал тяжелый ключ, отворил железную дверь и вошел внутрь.
– Здравствуй, дорогая Амазаспуи, – сказал он, подходя к женщине. – А я-то думал, ты еще спишь. Тебя, наверно, потревожил этот шум?
– Что это?..
– Это ликование, дорогая Амазаспуи. И это еще только начало, всего лишь верная ночь свадебного пира – в твою честь, дорогая Амазаспуи. Видишь, как красиво освещен весь город? Нет, ты не видишь... сейчас покажу...
Он отстегнул цепь, ограничивавшую ее движения, взял женщину за руку и подвел к окну.
– Смотри!
Ад со всеми его ужасами, разверзся перед глазами несчастной пленницы. Она задрожала всем телом, пошатнулась и без чувств упала на руки безжалостного посетителя, который подхватил ее и снова опустил на ложе.
Посетитель был Ваган Мамиконян, отец Самвела и сводный брат женщины, лишившейся чувств.
Он был высокого роста, мужественного сложения и, как все Мамиконяны, весьма привлекательной наружности. Суровое лицо выражало упорство и безжалостность непреклонного и целеустремленного человека. На нем были знаки отличия, принятые среди персидских вельмож.
Неожиданный обморок княгини встревожил его. Он думал, что Амазаспуи тверже духом, потому и поступил с нею так неосторожно. Но беспамятство княгини длилось недолго. Она открыла полные слез глаза и повернулась к брату.
– Этого ты хотел, Ваган? Ужели сердце твое окаменело и в нем не осталось ничего человеческого, что ты насмехаешься над слезами и стонами тысяч семей? И тебе все равно, что они сгорают заживо под обломками своих жилищ, и пепелище их родного крова становится их могилой?
– Зачем же меня-то корить, дорогая Амазаспуи? – невозмутимо отозвался он. – Это ведь твой муж предает город огню.
Гневное лицо княгини побледнело еще больше.
– Мой муж?! – воскликнула она дрожащим голосом. – Не может быть... Он в жизни мухи не обидел! Сними с меня цепи, Ваган и я сию же минуту изолью на него весь свой гнев – если это он...
– Это он. Осадил город со своими дикими горцами.
– Если это муж, значит, все эти ужасы – из-за меня! Зачем же ты привез меня сюда, Ваган, зачем довел до такой крайности добродетельного человека? Ты обратил в руины наши замки, но и этого оказалось мало, чтобы насытить твою жестокость: ты увел в плен меня, кровную свою родственницу. В чем я провинилась? Зачем я здесь, в этих оковах, в этой каменной темнице, куда сажают самых последних злодеев? Для чего было все это? Ужели для того, чтобы превратить доброго и милосердного человека в разъяренного зверя, чтобы он пришел и сыграл с несчастном городом эту адскую, эту дьявольскую шутку?
Она закрыла лицо руками и горько зарыдала. Слезы сестры подействовали на князя Мамиконяна. Сдерживая волнение, он взял ее скованную руку и с глубоким чувством сказал:
– Эти всеми чтимые, привыкшие творить добро руки теперь в оковах, и оковы надел на них твой брат... Но не кори меня, милая Амазаспуи. Бывают в жизни, особенно в жизни государства, такие горькие обстоятельства, когда все – и чужие и свои, будь то отец или мать, брат или сестра – все равны и все равно несут свою кару, если становятся помехой великому замыслу, в котором благо для всей страны, от которого зависит ее будущее счастье. Мы – и я и Меружан – служим этому делу.
– Что же это за великий замысел? Что за дело?
– Ты ведь знаешь, дорогая Амазаспуи. Зачем же спрашивать?
Скорбные глаза княгини зажглись гневом.
– Стыд и позор тебе, Ваган, – бесчестным делом пятнаешь ты светлое имя Мамиконянов! Будь проклят день, когда ты появился на свет... Лучше бы твоя мать родила камень, а не тебя – кару и горе земли Армянской...
Князь молчал. Дрожь пробежала по его телу, и бесстрастное лицо задергалось, что было проявлением глубокого волнения.
– Ты проклинаешь меня, Амазаспуи?..
– Ты недостоин других слов, Ваган! Тот, кто покидает лоно родной церкви и хочет утвердить на своей земле персидскую языческую веру, кто изменяет своему царю и хочет установить на своей земле персидскую варварскую власть, тот, кто предал родную страну огню и мечу – тот достоин лишь проклятья. Тебя еще проклянут тысячи матерей, которые лишатся своих сыновей; тебя проклянут тысячи жен, которые останутся вдовами; тебя проклянут тысячи сестер, которые потеряют братьев в братоубийственной войне; тебя проклянут тысячи детей, которые останутся сиротами... Тебя будут проклинать грядущие поколения, пока жива будет память о твоем злодействе...
Эти слова поразили князя в самое сердце.
– Да, – ответил он печально, – все эти жертвы неизбежны... и я скорблю о них... Но без жертв не будет и спасения. Пусть настоящие и будущие поколения клянут меня – моя совесть чиста. Я убежден, что дело, которому я служу – благое дело. Зачем же ты, Амазаспуи, забываешь прошлое, зачем ты забываешь историю – скорбную историю совсем недавнего времени? Когда Тиран, отец ныне сосланного царя Аршака решил навсегда истребить нахарарские роды Арцруни и Рштуни, когда он велел перебить их целиком, без различия пола и возраста, кто были те малютки, которые только и спаслись среди этой всеобщей резни?
– Один был Тачат Рштуни, отец моего мужа, другой Шавасп Арцруни, отец Меружана.
– Да, только эти двое и уцелели из больших нахарарских родов. Но когда палачи притащили и этих ребятишек, чтобы убить на глазах царя Тирана, кто были те двое, что обнажили мечи, бросились на залитое кровью место казни и спасли невинных малюток?
– Один был твой отец Артавазд, другой твой брат Васак.
– Да, Амазаспуи, один был мой отец, другой мой брат. Из-за этих двух малюток они перестали служить Тирану, оставили свои родовые владения – княжество Тарон и укрепились в горах Тайка. Там они вырастили и воспитали спасенных мальчиков и выдали за них своих дочерей. От Шаваспа родился Меружан Арцруни, от Тачата – Гарегин Рштуни, твой муж. Так не угасли два обреченных на гибель нахарарских рода.
– Не пойму, зачем ты напоминаешь об этом, – прервала княгиня.
– Затем, что Аршакиды запятнали себя кровью, а кровь смывается только кровью.
– Но не кровью невинного народа!
– И кровью невинного народа, раз он имеет глупость заступаться за прогнившую, развратную династию и защищать ее! Избавься мы от Аршакидов раньше, все были бы куда счастливее – и мы и наша страна.
– Пустые бредни туманят тебе голову, Ваган, – гневно сказала княгиня. – Страсти, ненависть, неутолимая жажда мести ослепляют тебя, отнимают у тебя все человеческое, все угодное небесам. Скажи, в чем виноват сын Тирана Аршак, наш злосчастный государь, который томится в темных подземельях крепости Ануш? Чем он виноват, если его отец поступал так, а не иначе?
– Тем и виноват, – отозвался князь с горькой усмешкой, – что его руки тоже в крови. Имей же хоть немного самолюбия, Амазаспуи! Кто велел убить твоего отца, который ведь и мне был не чужой?
– Царь Аршак.
– Кто велел истребить весь род Камсараканов – а они нам зятья! – и наложил жадную руку на их вотчину – и на город Ервандашат и на крепость Артагерс?
– Царь Аршак. Но что ты доказал этим, Ваган? Ты и Меружан выступаете не против Аршакидов, которые стоят во главе государства, а против самого армянского государства. Понимаешь ли ты это? Тиран или сын его Аршак могли быть плохими царями. Но чем виноваты их наследники? Может быть, Пап, сын Аршака, станет для нас хорошим царем...
– Ошибаешься, Амазаспуи! От змеи не родится рыба, а от волка ягненок.
– Это ты ошибаешься, Ваган! Вот родился же от тебя Самвел, достойнейший юноша!
Вряд ли еще хоть одна душа на свете осмелилась бы прямо в лицо, да еще так резко порицать надменного и самолюбивого князя Мамиконяна, и это бы сошло ей с рук. Но Ваган не просто уважал княгиню, он еще и любил ее. Среди всех женщин рода Мамиконянов Амазаспуи особо выделилась высокими добродетелями и умом и пользовалась общей любовью. Но князь заметил, что спор принимает слишком острый характер, оставил без внимания обиду, нанесенную ему родственницей, и сказал:
– Самвел тоже мне не сын, если не пойдет за мною. Но оставим это – мы отвлекаемся от темы. Я говорил о преступлениях Тирана и Аршака только для того, чтобы доказать тебе, что и у меня и у Меружана есть веские причины ненавидеть Аршакидов. Еще более веские причины были у тебя, Амазаспуи, ибо Аршак убил твоего отца. Те же причины были и у твоего мужа, ибо Аршакиды истребили весь его род. Но и ты и твой муж не только остались верны убийцам ваших предков, но еще и защищаете их с непостижимым упорством. Кто их защитник, тот наш враг. И мы будем обходиться с врагами по-вражески! Вот почему я и Меружан разрушили ваши замки и привели тебя сюда пленницей, Амазаспуи.
– Для чего?
– Чтобы твой муж сдался.
– Сам видишь, что из этого вышло: вместо того, чтобы сдаться, он сжигает город Меружана, и мы сейчас окружены морем огня. Что вы выиграли своим варварством, Ваган? Ничего. Зато развязали кровавую междоусобную войну. И эта война будет продолжаться и станет еще ожесточеннее, если вы не свернете со своего пагубного пути. Повторяю еще раз, что уже сказала только что: стараться уничтожить христианскую веру, стараться уничтожить царский престол родного государства – это дело изменников и предателей. Мы не станем – ни я, ни мой муж – пособниками предателей.
– Напрасно ты так думаешь, Амазаспуи. Мы, то есть я и Меружан, действительно оказались бы преступниками, если бы собирались уничтожить веру, как ты говоришь. Но мы стремимся вернуться к нашей древней религии, к любимым богам наших предков. Большая часть нашего народа все еще следует старой вере и отворачивается от христианства. Что нам дало христианство? Только сблизило нас с коварными византийцами и разобщило, рассорило с персами, нашими исконными друзьями и союзниками.
– Подобает ли, Ваган, использовать религию в политических целях и делать ее игрушкою корыстных интересов? Надо переменить веру, чтобы подружиться с персами – переменим, это пустяки... Так, что ли?
– Я ведь еще не кончил, Амазаспуи, ты все время перебиваешь.
– Ну, договаривай...
– Ты ошибаешься и в другом: полагая, что мы хотим уничтожить ваш родной армянский престол. Разве Аршаки-ды наши, разве они родные? Это чужаки, ибо они парфяне, пришельцы из чужой страны. Мы их всего лишь терпели, как терпели и персы, покуда в Персии царствовала та же династия. А теперь там Аршакиды пали, и основано новое, Саса-нидское государство 8 . И теперешние Сасаниды не потерпели бы – и не потерпят – наших христианских Аршакидов. Мы стараемся убрать с дороги этот камень преткновения И мы только теперь обретем своего родного царя, ибо Шапух обещал отдать армянское царство Меружану.
Презрительная улыбка скользнула по лицу княгини. Она покачала головой.
– Как можно верить посулам известного своим вероломством Шапуха? Обольщаться подобными выдумками может только такой безумец, как Меружан! Но оставим это. Однако, если рассуждать как ты, Ваган, и говорить, что Аршакиды – не наши, не родные, ибо они парфяне, пришедшие из чужой страны – тогда никто из нас не будет родным Армении! Мы, Мамиконяны – китайцы, предки твоего любимого Меружана – ассирийцы 9 , и многие нахарарские роды берут начало от чужого корня. Но время всех сделало армянами, и теперь мы говорим на армянском языке, исповедуем армянскую веру и смешали свою кровь с кровью исконных армян. То же случилось и с Аршакидами.
Терпение Вагана иссякло. Он встал и, подойдя к княгине, сказал:
– Ты любишь спорить, Амазаспуи, и вечно споришь со мною, с тех пор, как мы детьми играли в мяч во дворе нашего замка. Вот что я тебе скажу, коротко и ясно. Мы поклялись: христианство должно быть уничтожено, династия Аршакидов должна быть свергнута – без этого не будет мира в нашей стране; Меружан должен стать армянским царем под верховной властью Персии; мы должны объединиться с персами, приняв их религию, дабы наша дружба укрепилась; между нами не должно быть различий в религии.
– Тогда пусть они объединяются с нами! – прервала княгиня. – Пусть они примут христианство – тогда между нами тоже не будет различий в религии.
– Слабые идут за сильными, а не наоборот. Мы слабы, а они могучи.
– Христианство учит, что самый малый – на самом деле самый великий, а самый слабый – самый могучий.
– Это глупость. Слабый – слаб, а сильный – силен. Итак, Амазаспуи, ты пойдешь за нами?
– Никогда!
– Кто не с нами, тот против нас и враг нам.
– А я не считаю себя твоим другом, хоть мы и в близком родстве.
– Кто не с нами, того мы покараем, и кара будет жестокой.
– Куда уж дальше... – она показала на свои оковы.
– Есть вещи пострашнее, Амазаспуи.
– Я готова, Ваган.
– Обдумай хорошенько!
– Я все обдумала и решила.
Вопли и рыдания за окном стали еще слышнее. Комнату залило яркое кроваво-красное зарево. Спор оборвался. Княгиня закрыла лицо руками.
– Вот ответ на твои угрозы, Ваган... Вот чего вы хотите – огня и крови.
V УТРО ПОСЛЕ УЖАСНОЙ НОЧИ
Стояла глубокая ночь, и до рассвета было еще далеко.
Всадник на белом коне, окруженный телохранителями, носился из конца в конец по улицам охваченного смятением города, всякий раз появляясь там, где оно особенно усиливалось. Он бестрепетно пролетал сквозь бушующее пламя, сквозь рушащиеся строения, не выказывая при этом и тени колебания или страха. Такая полная уверенность в своей безопасности создавала впечатление, что он затворен, находится под покровительством сверхъестественных сил и неуязвим для любой опасности. В народе так о нем и говорили.
Это был князь Меружан Арцруни.
Природа наделила его величавой и благородной внешностью, но честолюбие его было поистине безгранично, а беспощадная жестокость – ужасна. Кровь ассирийских предков слилась в князе с армянской и с кровью «драконидов» 1из крепости Джаймар, и это придало его могучему телу силу дракона. При всей своей богатырской грозной стати Меружан был превосходно сложен и прекрасен зловещей красотою ангела смерти.
В сиянии медных доспехов и сверкающего оружия, освещенный заревом пожаров, он блистал, подобно своему знатному имени, словно яркое солнце, которое слепит глаза.
Везде, где он появлялся, замолкали крики, утихало волнение. Но стоило ему проехать – следом неслись глухие проклятия. Жители собственного города проклинали его. А ведь было время, и совсем недавно, когда юные девушки усыпали цветами путь его белого коня, а женщины благословляли и прославляли князя, когда он проезжал по улицам своего города...
Он пересекал теперь большую площадь перед дворцом. Пышный чертог с великолепной колоннадой тоже горел. Но он стал добычею не вражеского огня – дворец подожгли сами горожане. «Раз горят наши дома, пусть горит и дворец», – сказали они и подожгли его. Меружан кинул взгляд на роскошное жилище своих предков и в гневе отвернулся.
Дворец был пуст: княжеское семейство выехало в летнюю резиденцию рода Арцруни в столице княжества. В замке оставалось лишь несколько слуг.
Площадь была полна народу. Женщины и дети, успевшие выскочить из горящих домов, их домашний скарб, который удалось спасти – все это в беспорядке смешалось на площади. В неверном зареве пожара растерянная, перепуганная толпа беспомощных людей являла собою ужасающее зрелище.
Меружан подъехал было к ним.
– Не приближайся, Меружан! – закричали женщины.
– Потуши огонь! – рыдали дети.
Меружан поднес руку к глазам. Что это он отер? Ужели его каменное сердце способно исторгнуть слезу?! Но детский плач раздробил камень и сокрушил скалу...
Он повернул к ближайшим городским воротам. Там шла ожесточенная ссора между горожанами и сторожившими ворота персидскими воинами.
– Хотят открыть ворота! – доложили ему.
– Бейте их! – приказал он.
И персы с оружием в руках кинулись на его горожан. Он проехал мимо.
Меружана сопровождал один из персидских военачальников. Когда они немного отъехали, перс сказал:
– Долго сопротивляться не сможем, князь.
– Это почему?
– Мы только что сами видели: горожане хотят открыть ворота и впустить врага.
– Потому я и приказал перебить их.
– Всех же не перебьешь...
– Всех перебьем, если не образумятся!
– Мы не сможем драться сразу и с внутренним и с внешним врагом.
– Не сможем драться – сможем умереть, надеюсь.
– Так оно и будет... Но не лучше ли, пока не рассвело, воспользоваться ночной темнотой, прорвать кольцо врагов и
уйти из города?
_Это не так-то просто – прорвать кольцо озверевших
рштунийцев. Город надо защищать до последнего. Как только рассветет, мы примем бой.
Персидский вельможа промолчал. Они повернули к другим городским воротам, которые тоже находились под усиленной охраной.
Ночь прошла в адской свистопляске огня и пожаров. А едва настало утро, на развалинах обращенного в пепел города началась кровавая резня. Ночью гибли дома, днем люди, их жители.
Едва чуть-чуть поредела предутренняя мгла, едва птицы своим веселым щебетом возвестили о скором появлении долгожданного дневного светила, одни из ворот города рухнули. Они пали под двойным натиском: горожан изнутри и осаждающих снаружи. В город толпою ворвались разъяренные горцы.
«Христиане – в сторону!» – прогремел единый клич из тысячи глоток.
Жители города, забыв о понесенных тяжелых потерях, присоединились к сжигавшим их дома, обездолившим их горцам и вместе обрушились на персидские войска. В ход пошли копья и мечи. Сверкала обнаженная сталь, слышался стук щитов. Персидские войска в этой гибельной схватке бились отчаянно, каждый старался, умирая, унести с собою побольше врагов. Меружан Арцруни истощил все свое красноречие, ободряя их, ибо приказы уже не действовали. Он словно молния переносился с улицы на улицу, едва замечал, что там персы слабеют.
Тем временем еще один человек угрюмо следил с высоты цитадели за всем, происходящим внизу. И чем дальше, тем сумрачнее и безнадежнее становилось его лицо. Подданные Меружана объединились с врагами Меружана и вместе громили персидское войско. «До чего же ложны наши представления об армянском народе», – думал он, и его озлобленное сердце наполнялось невыносимой горечью.
Это был Ваган Мамиконян, который после бесплодного спора с княгиней Амазаспуи вышел посмотреть, что делается в городе.
Солнце еще не взошло. Но утренний сумрак начал редеть, и окрестности постепенно становились все виднее.
С высоты цитадели он заметил, что прямо в его сторону направляется отряд горцев. Предводительствовал ими крупный осанистый мужчина, которого едва можно было разглядеть из-за щитов закованных в панцири телохранителей. Подъехав ближе, он поднял голову, окинул взглядом цитадель и увидел стоявшего наверху Мамиконяна.
– Князь Мамиконян! Что же ты прячешься наверху, как трусливая лисица? Спускайся вниз, сразимся в поединке и положим этим конец кровопролитию. Ты уже запятнал благородство своего рода, не позорь же хоть его мужества!
– Не пристало нам брать уроки благородства у горцев, князь Рштуни! Если ты не хотел проливать кровь тысяч невинных жертв, если ты не хотел обращать в пепел тысячи домов, надо было сделать этот вызов раньше, пока еще не пролилась кровь. Тогда я с готовностью вышел бы из города и померился с тобою силами в единоборстве. Но раз уж ты начал войну столь бесчеловечно, пусть так и идет до конца...
– Бесчеловечности горец научился у тебя, князь Мамиконян! Тот, кто воровски пробирается в беззащитный замок своей сестры и выкрадывает ее из неприкосновенной супружеской опочивальни, не смеет даже заикаться о благородстве!
Князь Мамиконян не нашелся, что ответить: оскорбительные слова зятя поразили его в самое сердце. Он обратился к охранявшим цитадель персидским войскам и приказал защищаться до последнего.
Гарегин же Рштуни приказал своим горцам идти на приступ.
Армения, будучи страной горной, всегда имела в войсках особые отряды воинов, так называемых скалолазов. Они умели взбираться по немыслимой крутизне, поэтому их использовали, когда брали приступом крепости и замки, которые, как правило, строились в Армении на вершинах высоких и неприступных утесов.
Но горцы Рштуника и Мока, выросшие среди камней, вскормленные горами, с детства привыкли лазать по скалам с ловкостью ящерицы. Они все были прирожденными скалолазами. Однако теперь перед ними возвышался исполинский отвесный утес, и справиться с ним было не так-то просто. А на вершине этой каменной горы стояла могучая цитадель, и в ней была заключена их любимая госпожа.
На приступ пошли с западной стороны крепости, выходившей на озеро. Тут в цитадель вел один-единственный ход, к которому надо было добираться по своего рода каменной лестнице – по уступам, высеченным в скале. И если на этом пути по недосмотру природы попадались хоть какие-то упущения в смысле неприступности, их возместило искусство человека, воздвигнув стены и башни, которые рядами тянулись до самого верха.
Рштунийские скалолазы начали забираться по скале. Они были вооружены железными крючьями, и с их помощью удерживались на отвесном склоне. На бесстрашных и дерзких героев обрушился сверху град стрел, однако скалолазы были защищены привязанными к плечам широкими кожаными щитами в форме больших балдахинов. Стрелы ударялись об эту непробиваемую преграду и падали вниз, словно безобидные перья.
– Метать камни! – приказал Ваган Мамиконян.
И хлынул страшный каменный град. Сотни рук закладывали в пращи тяжелые камни и, раскрутив их в воздухе, пускали вниз. Кожаные щиты скалолазов были бессильны против этого каменного обстрела. Камни сбивали горцев и своею тяжестью скатывали их вниз.
Тем временем с северной стороны цитадели приступ велся совсем иначе.
Более двухсот рук толкали вперед безобразное деревянное чудовище, огромную тяжесть которого еле-еле выдерживали толстые колеса. Оно было похоже на низкую арбу, какие в ходу у армянских крестьян. Разница была лишь в том, что крестьянскую арбу тащат запряженные впереди животные, а колеса этого сооружения вращали люди, спрятавшись под толстым настилом так, что их совсем не было видно.
Руки людей разравнивали путь кирками и лопатами, и чудовище, словно воплощение неотвратимой гибели, медленно ползло вперед. Его мрачный, угрожающий вид поверг осажденных в ужас, и все силы были брошены на борьбу с ним. Сверху стали метать камни. Однако они ударялись о толстую обшивку и отскакивали в сторону. Чудовище ничего не замечало и невозмутимо продолжало свое неумолимое продвижение вперед.
Это был страшный пиликван – гигантская землеройная машина, крот, которым пользовались для подкопов под стены крепостей и замков.
С трех сторон цитадель возвышалась на высокой, отвесной и потому неприступной скале, и лишь с четвертой ее скалистый бок был не так крут, почему и был укреплен толстыми стенами и башнями.
Чудовище подползло и, надменно подняв свою страшную голову, оперлось на стену, как на мягкую подушку. В его скрытых от глаз недрах было спрятано множество людей, вооруженных лопатами, кирками и молотами. Они начали подкоп под стену. Только огонь мог спасти крепость от этого врага. Сверху начали кидать горящую паклю, но гигантскому кроту все было нипочем: деревянную обшивку покрывал толстый слой мокрого войлока. Огненные мячики, падая на него, шипели и сразу гасли, распространяя вокруг запах гари.
Люди внутри чудовища с неослабным рвением продолжали вести подкоп под толстое основание крепостной стены. Уже образовалась изрядная брешь, по путь загораживала скала, которая оказалась за стеной. Заступ и молот долго боролись с нею, но ощутимых результатов все не было. Тогда решили увеличить пролом в высоту, чтобы так избавиться от огромного камня.
За всем этим невозмутимо наблюдал сверху князь Мамиконян. На его холодном лице застыла насмешка. «Глупцы, – думал он, – много же вы выиграете, если пробьете эту стену...» И действительно, пользы от этого почти не было бы, ибо, овладев первой стеной, горцы оказались бы перед второй, третьей, и так они тянулись ряд за рядом до самой вершины, где стояла грозная цитадель.
Князя мучало другое: у горцев не было своей землеройной маши -ны. Очевидно, они нашли ее в городе, а это значило, что он целиком в их руках. Что с Меружаном? Где персидские войска, оборонявшие город? Эти вопросы мучительно волновали его. Если Меружан погиб, с ним погиб бы и тот замысел, которому князь придавал такое большое значение и ради которого пожертвовал всем...
Не меньшее волнение царило и среди персидской охраны цитадели. Персы ясно видели, что город пал и они остались на самой макушке голого камня, окруженные морем врагов. Начальник охраны подошел к князю и, задыхаясь от волнения, сказал:
– Опасность очень велика, князь!
– Вижу.
– Надо сдаваться...
– Никогда!
– Еще несколько минут – и сюда порвется озверелая толпа...
– Этого не будет. Ты плохо знаешь нашу крепость.
– Если неприступные стены и защитят нас от внешнего в рага, кто защитит от врага внутреннего – от голода и жажды? Они же не снимут осады, пока не уморят нас голодной смертью.
– Вот и прекрасно. Умрете и избавитесь...
– Зачем же умирать бестолку?
– Чтобы не опозорить знамя царя царей. Чтобы не говори ли: персидские воины – трусы.
Перс замолчал, отвесил поклон и удалился.
«Дрянь! – пробормотал ему вслед разъяренный князь. – Только тогда и храбритесь, когда враг бежит перед вами».
То же самое происходило внизу. Когда горцы, опрокинув ворота, ворвались в город, персы совершенно пали духом. Все усилия Меружана поднять дух войск оказались тщетны. После отчаянного, но безнадежного сопротивления часть персов сдалась, остальные бежали через другие ворота.
Меружан остался один, покинутый своими подданными, покинутый и персами, на которых возлагал такие надежды. В последний раз кинул он взгляд на пепелище города, где жили и правили его предки, и, воспользовавшись всеобщим смятением, покинул город с несколькими телохранителями и растворился в утренних сумерках.







