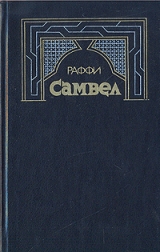
Текст книги "Самвэл"
Автор книги: Акоп Мелик-Акопян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 31 страниц)
Она появилась – и увидела, что он создал.
– Все это очень красиво, – сказала она. – Но тут нет воды, нет деревьев. Разбей для меня фонтаны, чтобы били они выше облаков, посади деревья, чтобы я могла нежиться под их сенью в твоих объятьях... Сказала и исчезла.
Он изменил русла отдаленных ручьев и по подземным трубам поднял их на самую вершину утеса. Обтесал камень, высек в нем бассейны – забили среброструйные фонтаны. День и ночь неиссякаемо взлетали вверх их струи и кропили жемчужною росой свое зеленое окружение. Он срезал верхушку скалы, выбил ровные площадки на ее боках, привез издалека землю и насыпал на этих площадках. И посадил деревья, и создал висячие сады, которые словно и в самом деле выросли и повисли в воздухе. Шли годы. Прижились, выросли, стали плодоносить деревья. Зацвели и наполнили воздух услаждающим душу благоуханием мириады цветов, слетелись издалека птицы, и их веселые трели оживили безмолвие окрестностей. И только та, что должна была стать владычицей этого земного эдема, все не появлялась.
Однажды великий мастер сидел, подперев голову рукою, у подножия воздвигнутых им чертогов и с тоской смотрел вдаль, на большую дорогу. И вот на ней появился, весело напевая, какой-то путник, увидел мастера, подошел и сел рядом, чтобы отдохнуть немного.
– Откуда идешь, путник? – спросил Фархад. – Ты, я вижу, счастливец – поешь, веселишься...
– Из Тизбона иду, – ответил путник. – А чего мне не веселиться, раз вся страна веселится?
– А что случилось?
– Неужто не знаешь?! Уже семь дней, семь ночей в столице гремит свадьба. Вино льется рекой, еде всякой счету нет. Все пьют, едят и веселятся. Музыка не умолкает ни на минуту, и ноги плясунов не знают устали. И я свою долю получил. Напился-на-елся до отвалу и домой еще несу – жене и детям надолго хватит.
– А чья свадьба?
– Царь женится.
– На ком?
– На Ануш.
Мастер больше ни о чем не спрашивал. Он содрогнулся, словно от удара молнии, и застыл в неподвижности. Потом встал и, еле передвигая ноги, стал подниматься по каменным ступеням вверх, к своему волшебному чертогу. Взглянул окрест себя, последний раз окинул скорбным взглядом все творения своей пламенной любви и своего высокого вдохновения и вошел в мастерскую. Там лежали орудия ваяния. Мастер взял свой тяжкий молот и вышел из мастерской.
– Она изменила! – простонал он и подбросил молот вверх. Молот упал прямо ему на голову – и горячая кровь творца окропила дивные творения его рук...
Фархад не достиг исполнения своих желаний, но имя его возлюбленной так и осталось за этой крепостью на скале, она и поныне зовется Ануш.
Этот замок на камне и из камня, который его творец создавал как радостный храм любви и вечного блаженства, стал адским вместилищем слез и вечной скорби. Последние персидские владыки начали ссылать туда попавших в их руки вражеских царей.
Был полдень, но в каменном подземелье крепости Ануш даже при ярком свете дня царила мрачная полутьма. У самого потолка было пробито небольшое отверстие, скорее напоминавшее просто дыру, нежели окно. Робкий солнечный лучик боязливо пробивался сквозь эту щель, но, словно страшась царившего внутри мрака, не решался заглянуть хотя бы чуть дальше. Подземелье скорее напоминало квадратный, слегка вытянутый в длину мешок, чем комнату. Только – каменный мешок. Камень был под ногами, камень – над головою, камень со всех сторон – все помещение было выдолблено в камне. Никакие примеси другого вещества не нарушали этого господства камня. Одна лишь тяжелая дверь темницы была из железа, но и она за сотни лет почернела, покрылась толстой корой ржавчины и стала такого же бурого цвета, как и камень.
Прямо напротив двери в землю был вбит толстый столб, тоже железный. Он напоминал те столбы, к которым на причалах привязывают лодки. Но к этому столбу был привязан человек. Вверху, на столбе было укреплено подвижное кольцо, к нему прикована толстая цепь. Другой конец ее был прикреплен к железному ошейнику, надетому на узника. Длина цепи очерчивала тот предел, в рамках которого ему дозволено было передвигаться, и не давала дотянуться до двери. Он был похож на льва, запертого в железной клетке. Руки его были в кандалах, ноги тоже.
В том же мрачном подземелье, в тех же самых цепях и в том же самом ошейнике сидел в свое время римский император Валериан, взятый в плен персидским царем Шапухом I. Сын небес и солнца обращался с августейшим пленником как последний варвар. Всякий раз, когда он выезжал на охоту, несчастного узника выводили из каменного гроба, отмывали, умащали благовониями, надевали на него царскую багряницу и торжественно подводили к дворцовым воротам. Выходил сын солнца, император сгибал спину, царь ставил на нее ногу и садился в седло. Так он всякий раз попирал своей надменной пятой величие Рима... После всех этих измывательств Шапух все-таки велел убить императора, содрать кожу, набить сеном и вывесить на всеобщее обозрение на стене главного тизбонского храма.
Шапух I надел железный ошейник на императора Валериана, а Шапух II – на другого венценосца, который томился теперь в том же каменном мешке.
В темнице был еще один человек; он неподвижно, как статуя, стоял в углу, на каменном пьедестале, и немигающие глаза его были устремлены на царя. Никаких проблесков жизни не было на его сухом, пергаментно-желтом лице, ни один мускул не шевелился. На поясе у него в золотых ножнах висел меч спарапета, и десница лежала на рукояти; казалось, он в полной готовности охраняет жизнь царственного узника.
Царь не спал; он взволнованно ходил взад и вперед по отмеренному ему клочку пространства, и звон цепей нарушал глухую тишину подземелья. Цепь была настолько коротка, что он не мог дотянуться ни до того, кто неподвижно стоял в углу, ни до железной двери своей темницы. Узник был человек высокого роста, богатырски сложенный, с густыми волосами, которые сильно отросли в тюрьме, сплелись с бородой и придавала ему грозный и угрюмый вид. Он перестал ходить, прошел в угол и сел на охапку соломы, служившую ему и ложем и единственным сидением.
В это время дверь с лязгом отворилась, и в сопровождении слуги вошел начальник тюрьмы. Рукава его кафтана и рубахи были засучены, из-под кафтана выглядывало нижнее белье, обувь была надета на босу ногу, на голове был ночной колпак. В таком неопрятном, неподобающем виде перс предстал перед царственным узником, словно для того, чтобы еще более унизить его. Он поклонился и, не отходя от двери, заговорил с насмешкой:
– Мой привет владыке Армении! Я надеюсь, что ночные часы пролетели для государя в спокойном сне и сладких сновидениях. Пусть добрые духи и впредь отгоняют от него ночные кошмары, что насылает Ариман.
Узник кинул на него презрительный взгляд и ничего не ответил.
– Что же ты молчишь, о государь? – продолжал тот с еще большей издевкой. – Армяне только мечом лишний раз махнуть боятся, а в словах удержу не знают.
Царь опять ничего не ответил.
– Я вижу, его величество недовольны своим покорным слугой, – сказал начальник тюрьмы и сделал шаг вперед. – Попробую все же заслужить твое благоволение, государь. Сию же минуту велю сменить твою великолепную постель и приготовить тебе столь благоуханное и мягкое ложе, что ты забудешь шелка и тонкую шерсть Армении.
Он повернулся к слуге и велел переменить подстилку. Слуга подошел, собрал в охапку рассыпанную в углу солому, которая от сырости совсем свалялась и прилипла к полу, словно войлок, и постелил взамен новую, посуше.
– Изысканные яства будут поданы сегодня к столу его величества, – снова обратился тюремщик к узнику. – Пусть не думает, что персы не радушные хозяева и не умеют принимать гостей, пусть забудет все то, что оставил во дворце.
Слуга положил рядом с охапкой соломы кусок ячменного хлеба и поставил черепок с водой.
– Приятного аппетита и долгих лет жизни всеславному царю! – сказал тюремщик и с поклоном удалился.
– Наглец! – процедил узник сквозь зубы.
Железная дверь закрылась, и он остался один в своем каменном мешке.
Он молча ходил некоторое время из угла в угол, потом остановился и обратился к неподвижной фигуре на каменном постаменте:
– Слышишь, князь Мамиконян, как уязвляют беспрестанно твоего государя, как беспрестанно ранят его сердце? Да, персы лишены великодушия, они привыкли оскорблять гостя в своем доме. И так ли уж виноват этот жалкий червяк, когда непрестанно и нагло оскорбляет мое достоинство? Ему приказали, его обязали. О подлый, презренный Шапух – дойти до такой низости! Не на поле брани попал я в твои руки, не при осаде моих городов взят был в плен. Гостем пригласил ты меня к себе, и обманом оказалось твое гостеприимство... О низкий обманщик! В том ли величие государя и царя царей, чтобы обмануть соседа и союзника своей притворной дружбой и заманить в западню?.. Чего только не предлагал ты мне, чего только не обещал! Предлагал выдать за меня свою дочь, обещал построить дворцы на каждой стоянке между моим царством и твоим, чтобы я, направляясь к тебе, останавливался в собственных дворцах. Вот они, твои обещания – каменная клетка вместо царских чертогов... Вечное проклятие моим нахарарам! Пусть вечный позор и укоры совести будут их уделом– Это из-за них я оказался здесь... Не будь их междоусобиц, я не попал бы в твою западню, о коварный Шапух!
Он говорил, он изливал горечь изболевшегося сердца, но князь Мамиконян его не слышал. Царь опустился на солому, по-прежнему не отводя взгляда от неподвижной фигуры. Скорбные воспоминания воскресили в его памяти один давний случай. Однажды в Тизбоне он зашел в конюшни царя Шапуха полюбоваться его скакунами. И туг старший конюший швырнул наземь охапку сена и с наглостью, столь свойственною персам, сказал: «Эй, царь армянских козлов, садись на эту траву!» Но эта дерзость не осталась без воздаяния. Славный спарапет, который теперь стоит на каменной подставке и так хладнокровно слушает хулы тюремщика, тогда выхватил из ножен меч и раскроил голову наглому хулителю. Рука его и сейчас лежит на том же мече, по рука эта застыла неподвижно.
– Насмешка... какая злая насмешка!– воскликнул в волнении узник и снова вскочил. – Передо мною поставили силу Армении, воплощение ее ратной доблести, героя, державшего Персию в вечном страхе. Поставили, чтобы он, как вечный укор напоминал мне ежечасно, ежесекундно – что я потерял... Но разве этот герой не стал, как и я, жертвой подлого вероломства персов? Разве он пал в бою?!
Он простер руки и сделал несколько шагов, стараясь обнять неподвижную фигуру, но цепь не позволяла дотянуться до спарапета.
– О Васак! – вскричал он из глубины сердца. – Все предали, все бросили меня, один ты не покинул своего государя... Ты делил с ним славу, делишь теперь и беду. Долг, честь, любовь к отчизне подвигли тебя на самопожертвование... Как истинный герой, ты увенчал свою жизнь и геройскою смертью!
Тот, к кому обращены были эти слова, был спарапет Армении Васак Мамиконян, дядя Самвела и отец Мушега. А тот, кто обращался к спарапету, был армянский царь Аршак II. Шапух хитростью заманил обоих в Тизбон и заточил царя в каменное подземелье темницы, а спарапета велел убить, содрать кожу, набить травой и поставить перед глазами его царя. И теперь лишь чучело, сохранившее облик спарапета, стояло на каменном пьедестале. Ничто, ничто, никакие беды, никакие бури скорби не уязвляли сердце потерявшего трон и свободу узника столь горестно, как эта безмолвная статуя, которая самим молчанием своим красноречивее всяких слов напоминала ему об утраченной славе. Как глава армянского войска он олицетворял военную мощь Армении, сломленную, попранную персидским вероломством. А как доблестный полководец, прославленный блеском побед, одержанных над персами за десятки лет борьбы с ними, он напоминал о величии своего царя, которое разделял с ним. Все, все пропало, все погибло... Горечь невзгод, неизбывность мук и скорбь воспоминаний – только они остались несчастному государю, который, подобно скованному Артавазду 1, был заточен в этой мрачной каменной могиле, давившей, душившей его.
Он не прикоснулся к скудной пище, лишь поднял черепок с водой и отпил несколько глотков, чтобы хоть немного осту-
Артавазд – сын царя Арташеса (I век до н. э.), ставший, как и его отец, героем многочисленных легенд и народных песен, приведенных в «Истории Армении» Мовсесом Хоренаци (кн. II, гл. 1-Х).
дить сжигавший его внутренний огонь. Потом прилег на свое соломенное ложе.
Взор его все не отрывался от неподвижной фигуры. Обросшее лицо выражало гнев и раскаяние. Гнев – ибо слишком бесчеловечно обошелся с ним царь ариев. Раскаяние – ибо он сам вымостил дорогу к своей гибели. Совесть его была неспокойна. И всякий раз, когда эта мысль приходила царю в голову, он содрогался всем телом, как преступник, который сам не до конца убежден, виновен ли он.
Он все еще смотрел на спарапета, все еще боролся со своим сердцем и своими чувствами.
– Нет!.. Тысячу раз нет! Я не виновен! – вскричал он вдруг, и в мрачном взоре сверкнуло яростное пламя. – Вечные междоусобицы нахараров истощили, наконец, мое терпение... Я, действительно, объявил им войну, хотел покарать непокорных мятежников, хотел уничтожить их, чтобы слить воедино разрозненные силы нашей страны и создать из них сильное самодержавное государство. Целостность Армении я ставил выше, чем амбиции сотни удельных князей, которые из-за беспечности моих предшественников настолько обнаглели, что при всяком удобном случае имели дерзость угрожать своему государю. Я пожелал ограничить их своеволие. А они объединились и восстали против меня! Мало того – в эту внутреннюю семейную распрю они втянули иноземцев, они натравили на меня персов – исконных врагов наших... Я остался один как перст и вынужден был стучаться в двери врага и искать соглашения с ним. Ну, а враг загнал меня сюда...
Он снова встал и, опустив голову, принялся ходить по своей темнице. И снова обратился к своему спарапету.
– Ты свидетель, о князь Мамиконян, сколь чисты были мои намерения, сколь высоко ставил я счастье Армении! Но от-ноше-ния мои с нахарарами дошли до предела, и кто-то из нас должен был признать себя побежденным: или царская власть подчинила бы себе нахараров, или они – царскую власть. Я предпочел первое. Для меня была священна незыблемость царского престола, унаследованного от предков. Но если мятежные на-харары не обузданы моей рукой, их сокрушат те самые персы, которых мятежники сочли подходящей опорой для борьбы со своим царем... Из мрака этого каменного подземелья я вижу, о Васак, что творит Шапух в Армении... Он отсек голову, теперь примется рвать на куски тело. Главу он сослал сюда, а нахараров загонит в темницы Сагастана. И беззащитная Армения станет невозбранным поприщем для персидского варварства... Жены и дочери нашей знати будут наложницами и служанками при дворе, знатные отроки станут подметать мраморные плиты персидских дворцов... А моя жена... а мой сын...
При последних словах голос его дрогнул, колени подогнулись, он опустился на охапку соломы всем своим богатырским телом, закрыл лицо руками, и слезы хлынули на его оковы.
О, сколько узников терзалось и скорбело подобно ему в темных подземельях этой каменной твердыни. Сколько венценосцев, сколько потомков царских родов поглотила она, все не зная насыщения, словно чудовищный алчущий дракон... Сколько их стенало и рыдало в ее безжалостном каменном чреве! Стоило попасть сюда – и человек пропадал, исчезал навеки, погружался в вечное забвение. Не зря крепость Ануш заслужила и другое прозвище – Анхуш, то есть «преданная забвению» – во тьме забвения, словно во мраке могилы, хоронила она скорбную память о своих узниках.
В том же каменном подземелье, в тех же оковах, что влачил ныне армянский царь Аршак, томился некогда его отец, царь Тиран. Сын хоть видел на стене своей темницы слабый отблеск солнечных лучей – отец не видел и этого. Персидский царь лишил его света очей, и окруженный вечным мраком, слепой царь прошел сквозь все мучения, какие только есть в царстве тьмы.
Словно безобразное чудовище, вместившее в себя все мыслимые ужасы, стояла крепость Ануш на своем высоком каменном пьедестале. Смерть и ужас распространяла она вокруг себя. Яд источало ее дыхание, смерть сулил ее угрожающий взгляд. Никто не смел подойти к ней, никто не смел даже взглянуть на нее. Люди обходили ее далеко стороной, и путник сходил с большой дороги, чтобы пройти окольным путем. Всякое сообщение с крепостью было запрещено, и она жила в своем мрачном, адском одиночестве, словно отрезанный от мира остров слез и мучений.
Но вот однажды внимание крепостной стражи привлекла необычная картина: прямо к крепости ехал конный отряд. Стража напрягла зрение, натянула луки; все были взволнованы. Кто эти подозрительные незнакомцы? Всадники все приближались, и чем ближе они подъезжали, тем сильнее гнали лошадей. Сам начальник тюрьмы, крайне удивленный, поднялся на сторожевую башню. «Может, нового гостя везут», – подумал он, и его озабоченное лицо просияло дьявольской радостью.
Вечерело. Солнце склонилось к горизонту и вот-вот должно было закатиться совсем. Всадники, похоже, спешили добраться до крепости засветло: ночью попасть туда было невозможно
– все входы закрывались и не открывались ни перед кем.
Начальник крепости продолжал наблюдать. Когда всадники подъехали ближе, он разглядел, что у того, кто ехал впереди всех, что-то ярко сверкает на лбу, на головной повязке. Он напряг зрение. Таинственный предмет напоминал свиток пергамента.
– Указ царя царей! – вскричал он с особым благоговение и помчался вниз.
Спустившись во двор, начальник тюрьмы приказал подчиненным выйти навстречу указу царя царей и принять прибывших со всей возможной торжественностью. Все приготовления были завершены в мгновение ока, и стража вышла из крепости. Когда отряд подъехал к воротам, все пали ниц перед царским указом.
Указ, весь покрытый золотом, все еще сиял на лбу у посланца царя царей. Он сделал знак рукой, стражники встали и с почетом повели прибывших в крепость. Когда приблизились к главным воротам, всадники спешились. Лишь тогда предводитель отряда снял указ с головы и на вытянутых руках протянул его начальнику крепости. Тот снова простерся на земле, с глубоким благоговением принял указ в вытянутые руки, приложил к губам, ко лбу и лишь потом поднялся с земли и огласил указ вслух.
Кончив читать, он вернул указ обратно.
– Двери вверенной мне крепости открыты перед тобой, о господин главный евнух!
Все вошли в цитадель.
Пока для гостей приготовили подобающие стол и постель и устроили в конюшне лошадей, ночь вступила в свои права, стало совсем темно и понадобилось зажечь факелы.
Начальник крепости вошел в комнату гостя и поклонился.
– Надеюсь, господин главный евнух соблаговолит эту ночь отдохнуть с дороги и встретится со своим царем завтра, при свете дня.
– Нет, господин начальник тюрьмы, я должен встретиться со своим государем нынче же ночью, – взволнованно отозвался тот. – Прямо сейчас же, если возможно.
– Для господина главного евнуха нет ничего невозможного... коль скоро он прибыл с благословенным указом царя царей! – ответил запинаясь начальник крепости. – Но господину моему должны быть знакомы порядки этой крепости... Надо бы немного...
– Понимаю... ты хочешь показать мне моего государя в более приятной обстановке. Но я хочу видеть его как есть, как он живет здесь постоянно. Да, порядки этой крепости мне хорошо известны. Тебе нечего стесняться, если даже я найду его в самом плачевном состоянии.
Тюремщик все еще колебался в нерешительности и не поднимал головы, словно преступник, мучимый угрызениями совести.
– И все же, господин главный евнух... мне не хотелось бы ранить твое сердце, – сказал он.
– Ну, вот что! – довольно строго оборвал его высокий гость. – Тебе известно, по-моему, что сказано в указе царя царей? Это уж мое дело – изменить к лучшему положение моего государя и облегчить его страдания. А твое дело – приказать, чтобы меня провели к нему, и без промедления.
– Я сам проведу тебя, господин мой, – поторопился уверить начальник тюрьмы.
Жестокий тюремщик склонился, наконец, перед высочайшим повелением. В тот день, как нам известно, он обошелся с царственным узником особенно непочтительно и хотел как-нибудь искупить свой грех, хотя именно в нем и состояла добродетель его службы.
Во дворе было уже совсем темно. Все ворота и двери были наглухо заперты. Стражники, словно злые духи преисподней, неусыпно наблюдали за всем вокруг. Даже птица небесная не осмелилась бы в эту ночную пору пролететь мимо крепости. Ни звука, ни шороха, одна лишь глубокая, могильная тишина...
Слуга с фонарем в руке шел впереди и освещал ступени, ведущие вверх по скале. Даже средь бела дня ходить по этой вьющейся вдоль скалы лестнице было опасно. Малейшая оплошность, один неверный шаг низвергли бы неосторожного вниз, в пропасть. За слугой шел начальник тюрьмы, за ним – главный евнух. Он был скорбен, как человек, которого ведут к дорогой могиле. В каком состоянии найдет он своего царя, как подойдет к нему? Хватит ли у него душевной стойкости, чтобы скрыть свои горькие чувства?
Они остановились перед уже знакомой нам дверью.
– Он здесь, – сказал начальник тюрьмы.
– Открой дверь, – приказал главный евнух. – Но я попросил бы тебя оставить нас наедине.
На лице начальника тюрьмы снова явственно проступила нерешительность. Главный евнух заметил это и добавил:
– Не беспокойся, это тебе ничем не угрожает.
– Пусть будет, как пожелал господин главный евнух, – через силу согласился начальник крепости. – Но да простится мне моя дерзость – если господин мой хочет остаться с глазу на глаз со своим царем, я должен буду запереть дверь снаружи.
– Запирай. Но я возьму с собой фонарь, там наверняка совсем темно.
Начальник крепости выбрал ключ из тяжелой связки, висевшей у него на поясе, и отпер железную дверь:
– Соблаговоли войти, господин главный евнух. Можешь пробыть со своим царем, сколько пожелаешь. Когда захочешь выйти, постучи в дверь. Стражники всегда наготове, они тут же известят меня, я приду и отопру дверь, – он указал на стражников, которые были приставлены охранять именно эту дверь.
Приезжий вельможа взял фонарь и с сильно бьющимся сердцем переступил порог. Дверь за ним захлопнулась.
Он сделал несколько неуверенных шагов и поставил фонаря в угол. Узник лежал на охапке соломы. Ад со всеми его муками, казалось, разверзся перед страдальческим взором вошедшего. С глубокой скорбью смотрел он на закованного в цепи государя; тот лежал на каменном полу, забывшись тяжелым сном, который прерывался порою стонами. Он увидел черствый кусок ячменного хлеба, лежавший на полу, увидел глиняный черепок с водой, пить из которого отказался бы и последний раб, перевел взгляд на неподвижную фигуру на каменном пьедестале – глаза его заволокло слезами, и он едва удержался на ногах: перед ним стояла сама Армения – поверженная и обесчещенная...
Он сделал было несколько шагов вперед, но ужаснулся своей смелости и вернулся назад. Как нарушить его забвение, как прервать его сон, который так редко посещает узников? Он не отрывал глаз от царя. Тот время от времени тяжело стонал, иногда же слышался короткий презрительный смех – видно, очень разные сны посещали его. Царь лежал на боку, подложив правую руку под голову, лицом к вошедшему. До чего же он изменился! Вошедшего охватил ужас. Как приблизиться? А вдруг в приливе ярости, вызванной каким-нибудь сном, царь вскочит и, увидев в своей темнице нежданного гостя, растопчет дерзкого ногами?
Вошедший был худощав, невысок, лицо его было совершенно лишено растительности – без бороды, без усов. Не будь на нем мужского одеяния, его легко было бы принять за пожилую женщину – женщину, внушающую уважение и почтение. За массивный золотой пояс был заткнут кинжал с усыпанной каменьями рукояткой. Роскошная одежда указывала на высокое положение владельца. Его звали Драстамат 7 . Он был евнух, пользовался всеобщей любовью и уважением и в свое время при дворе армянского царя «подушкой и почестью» был выше всех других нахараров. Драстамат принадлежал к знатному роду князей Ангехских и был хранителем царской сокровищницы, которая находилась в крепости Бнабех в Цопке.
– Васак! – раздался голос узника. – Построй скорее мои храбрые полки... Вперед, на страну персов... Воздадим Шапуху за его наглость!
Царь говорил во сне со своим верным спарапетом.
Слезы снова затуманили взор главного евнуха.
Царь резким движением выпростал правую руку и, угрожающе взмахнув ею, зарычал:
– Я сожгу тебя заживо в пламени твоей столицы, вероломный Шапух!
Левая рука, скованная с правой одной цепью, потянула ее к себе, и обе руки, лязгнув оковами, упали ему на грудь... Он на мгновение очнулся, открыл глаза и снова смежил их. Тут главный евнух осмелился подойти поближе и, остановившись в одном шаге от царя, позвал:
– Государь!
Тот не просыпался.
– Государь! – повторил он.
Царь поднял голову и мутными со сна глазами взглянул на стоявшего перед ним человека.
– Наглец! Хоть ночью оставь меня в покое.
Он думал, что это тюремщик.
– Государь, узнай же своего слугу... – со слезами в голосе взмолился евнух.
– Моего слугу?.. – повторил царь с горьким смехом. – Где твоя совесть! Сколько времени ты был моим палачом, а теперь вдруг стал слугою?
Посетитель, не в силах более сдерживать свои чувства, кинулся на колени, обнял ноги своего государя и вскричал, обливая кандалы горючими слезами:
– Государь, очнись, взгляни на меня! Я же твой слуга... твой раб... твой верный Драстамат.
– Драстамат?! – воскликнул, оттолкнув его, царь. – Кто из богов возвратил бы мне Драстамата, отважного и верного моего слугу... Прочь от меня, ночное видение, прочь! Я потерял сподвижников... Бог покарал меня – я их никогда не увижу.
– Один из них ждет твоих повелений, государь.
Несчастному узнику казалось, что все, что он видит и слышит, – всего лишь продолжение его сновидения. Только теперь он вгляделся в своего посетителя и спросил, пораженный:
– Кто это?
– Твой слуга Драстамат, государь.
Ошеломленный царь вскочил и бросился к нему.
– Драстамат! Откуда ты? Как тебя пустили сюда?! Боже, какое счастье! Подойди же, Драстамат, подойди, дай обнять тебя!
Главный евнух снова опустился на колени и припал к стопам царя. Тот поднял его своей мощною дланью.
– Эти поцелуи не облегчат моих цепей, дорогой Драстамат. Расскажи лучше, откуда ты, как сюда попал, что делается на свете.
В волнении он сделал несколько шагов по темнице, потом присел па солому. Главный евнух остался стоять, охваченный сомнениями и колебаниями. С чего начать? И что рассказывать? Ему было что поведать своему государю, но известия эти были столь горестны и неутешительны, что он не хотел еще более омрачать сердце царя, и без того полное скорби.
– Что же ты молчишь, Драстамат? – спросил узник, заметив его нерешительность. – Ты думаешь, Аршак столь слаб сердцем, что не выдержит новых ударов? Я и без тебя о многом догадываюсь... Из этого каменного мешка я каждую минуту, каждую секунду вижу, что делается там, в моей Армении. Но скажи, как тебе позволили войти сюда? Это меня поражает.
Главный евнух начал рассказывать. Разлученный со своим государем, он остался с армянской конницей, персы задержали Тизбоне. Вскоре Шапух отправился в поход на кушанов и дошел до их столицы. В составе его войска была и прославленная армянская конница, а с нею и Драстамат. Тамошний царь, тоже Аршакид, вышел со своими силами навстречу Шапуху, и началась кровавая битва. Персы были разбиты, и Шапух пытался спастись бегством, но это ему не удалось: отряд кушанов окружил персидского царя и взял его в плен. Однако Драстамат во главе армянской конницы ударил на кушанов и отбил Шапуха. Вернувшись в Тизбон, царь царей созвал диван, всенародно осыпал укорами своих военачальников и с горечью поставил им в пример отвагу армян.
– Потом, государь, Шапух обратился ко мне и сказал: «О Драстамат! Тебе я обязан жизнью, ты спас меня от позорного плена. Проси же любую награду: славу, почести, власть, богатство. Клянусь священной памятью своих предков: что бы ты ни попросил – получишь». Но я не попросил ни богатства, ни славы, государь. Я попросил, чтобы мне дали право попасть в крепость Ануш и повидать моего государя.
– И тебе позволили?
– Да, государь. Шапух и думать не мог, что я попрошу об этом. Когда я высказал свое желание, он сделал жест, выражающий высшую досаду, и, сожалея о своей клятве, сказал: «Невозможного ты просишь, Драстамат. Законы Персии запрещают не только посещать узников крепости Ануш, но даже упоминать о них. Проси чего-нибудь другого. Мои сокровищницы полны золота и каменьев, сонмы народов и племен покорны моей власти. Проси любую из покоренных стран – ты ее получишь». Я и второй раз попросил того же. Он дал клятву при всех и не мог не исполнить ее.
По мрачному лицу узника скользнула горькая усмешка.
– Давно ли он стал держать свои клятвы? Мне он тоже клялся... тоже многое обещал... и в конце концов обманул. Царским перстнем оттиснул он на соли царский знак вепря и прислал мне, а это – самая священная клятва по законам персидских царей. Пригласил меня к себе, чтобы заключить договор о мире и сердечной дружбе и с миром отправить обратно в мою страну. А вместо этого – вот куда отправил!
Голос его пресекся от волнения. После минутного молчания царь заговорил снова.
– Честь и слава твоей самоотверженной преданности, Драстамат! Ты всегда хранил верность своему царю, и твое теперешнее деяние достойно венчает в моих глазах все те жертвы, которыми ты так много раз подтверждал величие своей души. Хвала и благодарение Всевышнему! Теперь только я поверил, что он не совсем еще отвернулся от меня. Я жаждал увидеть человека из моей страны – и Бог послал мне его!
Драстамату доставили глубокое удовлетворение слова его государя. Он сказал далее, что прибыл в крепость с указом персидского царя, который дает ему право поместить своего государя в условия, подобающие особе царского рода, всячески облегчить его положение и всячески утешить в его горестях.
– Слишком ничтожно было бы такое утешение, Драста-мат, – невесело отозвался царь Аршак. – Мне теперь все равно, спать ли на охапке соломы или на мягчайшем ложе. И не менее безразлично, пью я воду из этого черепка или из золотой чаши. Не лишения, не тяготы тюремной жизни терзают меня. Меня терзает только одно: я здесь, а моя осиротевшая страна стала добычей жестоких врагов...
Последние слова царя так взволновали Драстамата, что он не мог произнести ни слова. Узник продолжал:







