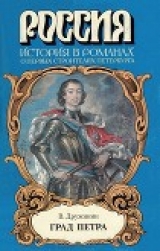
Текст книги "Град Петра"
Автор книги: Владимир Дружинин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 33 страниц)
– Вероятно.
– Не блещет способностями. Подбирали по росту, признайтесь! Что ж, есть резон. Царь не любит коротышек. Итак – посол её величества Витворт! – Дефо пощёлкал по пустой кружке.
– Злой вы человек, – вздохнул Гарлей. – Уж не настолько он глуп.
– А насколько? Ладно, моего табачника я ему, так и быть, доверю. И вот что: посоветуйте обратить внимание на Огильви. Слыхали о нём? Да, шотландец, служил императору. Теперь у царя, ходит в важных генералах. Ему всё равно, чью носить униформу. Москва перекупила его, – сам говорил в Вене, при Иосифе, без всякого стесненья.
– В присутствии вашего знакомого, – лукаво улыбнулся Гарлей.
– Один дипломат, – ответил Дефо коротко. – Желаете знать кто? Извините, запамятовал.
* * *
Конца нет слухам о Петербурге. Текут из парикмахерской, от клиентов, с базара, откуда приносит их Авдотья, русская служанка. Старец один пророчил: проклят сей град. Затопит его по весне, смоет. И поделом. Дома ставят без молитвы, не освящают, церкви нет ни единой. Младенцев там не крестят, покойников не отпевают, сваливают в яму, а как засыплют – царь на том месте с немецкими девками пляшет.
Впрочем, не одному Петербургу – всем градам и весям конец, ибо настали последние времена. О сём извещают знамения. Где икона восплачет, а где колокол зазвонит сам по себе, среди ночи. А над Донским монастырём пролетел огненный шар, едва не сбил кресты.
«О Петербурге рассказывают в Москве всякие ужасы, – пишет Доменико родным. – Суеверие ненавидит просвещение и клевещет на него. Недавно выпал снег и лёг густой пеленой, словно у нас в горах».
Пробудилось детское. Выбежать, впечатать шаги в эту чистоту, сошедшую с небес. Первые шаги... Начать путь о некую даль...
Частица нового города – перед ним на столе. На чертежах форта, который встанет на отмели, там, где никогда ничего не строилось. Поэтому Доменико трудится допоздна, забывая о времени. Разбирая наброски царя, мысленно спорит. Иногда внезапно – не угадать ни день, ни час, – врывается царь.
– То, что вы задумали, ваше величество, – говорит Доменико, – есть корабль, неподвижный корабль.
– И что же? – хмуро спрашивает Пётр и щиплет ус.
– По мне, строение слишком хрупкое. Я привык иметь дело с камнем. Если корабельщику угодно знать мнение фортификатора...
Надо укрепить конструкцию, толще делать стены, перекрытия. Тогда можно ставить орудия калибром крупнее – выдержит. Правда, леса потребуется больше.
– Нарубим, – кивает Пётр. – Велю Кикину... Говорите, говорите, мастер!
Голос Доменико прерывается – его душит радость, внезапная мальчишеская радость. Ему, ему доверился царь, от него – Трезини из Астано! – готов услышать последнее слово.
– Если ваше величество согласится...
– Не надо величества.
Царская рука ложится на плечо Доменико, жмёт сильно и ласково. Не надо величества. Отныне они мастера. Оба, корабельщик и фортификатор.
Странный, странный человек...
По утрам возле дома вызванивает колокольцем, храпит пегая кобылка. Доменико садится в простые сани, накрывается овчиной.
«Царь дал мне ещё одно поручение – преподавать итальянский язык, который почитает весьма нужным. Он с похвалой отзывается о наших знаменитых зодчих, сожалеет, что их трактаты до сих пор не переведены».
В Белом городе, у богатых домов, снег прибран, сметён в кучи. Доменико обгоняет своих школяров, они ломают шапки, кланяются.
Кирпичные боярские хоромы, резное крыльцо, расцвеченное киноварью и позолотой... Семья Нарышкиных не посмела перечить царю-родственнику, впустила в родовые апартаменты учителей-иноверцев, только иконы убраны из класса. Терпит ораву худородных и простолюдинов, топочущих по наборным полам. Просвещение должно быть доступно всем – настаивает, в согласии с царём, пастор Глюк[50]50
Глюк Эрнст (1652 или 1655—1705) – саксонец, проповедник в Лифляндии, в 1702 г. взят в плен и отвезён в Москву; с 1703 г, начальник школы; составитель славяно-латино-греческого словаря, русских учебников по географии и русской грамматике, переводчик лютеранского Катехизиса и т. п.
[Закрыть].
Лютеране считают его еретиком. Доменико затрудняется, к какой религии его отнести. Молитвам он значения не придаёт – спасают, мол, лишь добрые дела.
«Но человек он исключительный. Он преподаёт историю, географию, латынь, французский и немецкий, и это лишь ничтожная часть дисциплин, которые он в себя вместил. Кстати, вот совпадение: он окончил гимназию в том самом Альтенбурге, где я впоследствии служил».
Залучив Доменико в свой мезонин над классами, увешанный клетками, пропахший птичьим помётом, свечным воском, заваленный книгами, манускриптами, Глюк едко предупредил:
– Не будем об Альтенбурге! Логово суеверий, кичливых претензий, скудоумия...
Гимназист мечтал о заморских, экзотических странах. Нести свет дикарям, исправлять людоедов... Изучать медицину, чтобы врачевать этих детей природы.
– Отец прозвал меня лунатиком. А вы? Что погнало вас из благословенных ваших виноградников? Признайтесь, вы тоже лунатик! Что ж, царю Петру нравятся такие, как мы.
Миссионером стать не пришлось. Молодой пастор попросился в Ливонию, на окраину империи. Добровольно отправился в ссылку... Он поселился в бедном, деревянном Мариенбурге, среди латышей.
– Несчастный, придавленный народ... Не понимали меня. Книги, которые я привёз, читать не могли. А на их языке ничего нет.
Он начал с Библии. Переводить решил с древнейших списков. Поехал в Гамбург, к знаменитому лингвисту, знатоку греческого, древнееврейского. Перебивался кое-как уроками, игрой на скрипке, сочинением свадебных виршей. Вернулся в Алуксне, как именуется по-местному Мариенбург. В 1680 году латышская Библия, плод многолетнего труда, была отпечатана. Затем – сборник старинных латышских песен. И песнопения духовные, сочинения собственного, на латышском же.
Вороша груды своих трудов, под щебет встревоженных пернатых, Глюк показывает книгу статей, написанных на языках античного мира и на старославянском. Да, он сдружился и с русскими. С монахами Печерского монастыря, староверами. Восхитило их упорство, их трогательные филиппики против чревоугодия, златолюбия. Взял к себе в дом дряхлого русского священника, с его помощью составил русско-греко-латинский словарь. Увы, погибший в огне...
– Шведы отказались сдать город. Нелепое упрямство... Шереметев штурмовал, наша улица выгорела. Марта, храбрая девочка, из огня выносила книги.
Марта, воспитанница пастора, фаворитка царя. У всей Москвы на устах её приключение. Царь без ума от неё. Марта, из ливонских крестьян, живёт теперь во дворце Меншикова, с девицами Арсеньевыми. Бывает ли она здесь? Что-то мешает спросить. Но Глюк уловил любопытство гостя.
Не забывает старика, заходит. Барышни не обижают её, нет. Девочка умная, умеет себя вести. Пастор и его жена позаботились. Воспитывали наравне с дочерьми. Девочка обучена немецкой грамоте, домоводству, отлично готовит.
Правда ли, что была замужем? Правда. За шведским драгуном, эскадронным трубачом. Брак на одну ночь. Наутро вызвали в строй, и пропал он, убит, должно быть. Какова же она собой, Марта? Верно, красавица, если даже царь...
– Ох итальянцы! – смеётся пастор. – Вас ей не хватало... Его величество убьёт вас.
Не то... Как объяснить? До чего же волнует всё, касающееся царя.
– Власть женщины... – начал Доменико и смешался.
– Пустяки. Вы же знаете царя. Над ним никто не властен. Кроме вседержителя.
Пастор прав. Монарх этот столь своевольно преображает огромное своё государство, будто на всё имеет одобрение свыше. Допустим... Тогда почему...
Скрюченная старуха в деревне, на пути из Москвы. Умирает от голода, одна, без сил, в дымной лачуге...
– Хозяин продал дочь несчастной... Почему царь не запретит? Всемогущий потентат... Но, возможно, есть всё же границы человеческой воле. Что говорит ваш Декарт[51]51
Декарт Рене (1596—1650) – французский философ, физик, математик и физиолог.
[Закрыть]?
В полумраке, между дроздом и канарейкой, – бледное худощавое лицо. Сверлящие глаза из-под шапки чёрных волос, гримаса сарказма. Модный философ, преследуемый церковью... Лишь королева Христина, безбожная и распутная шведка, дала ему приют. «Я мыслю – следовательно, существую», – утверждает Декарт и рекомендует христианам всё подвергать сомнению. Ставит разум превыше веры…
– Воля в разумных пределах свободна, – слышит Доменико.
Он испытывает жуткую и вместе с тем сладостную тягу, погружаясь в философию, несомненно, еретическую. Так что же сулит человеческое разумение? Подаст ли надежду?
– Человек будет постигать натуру, вселенную, самого себя. К силе своих мышц прибавит силы механические. В итоге добьётся благополучия, справедливости.
– Когда? Через сто лет?
– Что же иное вы предлагаете? Его величество, я уверен, тоже осуждает торговлю людьми. У него и без того много противников. Проблема политическая...
Политическая? Значит, философ отступает перед ней, велит ждать. Чем же он поможет сирым, голодным? Своими сомнениями?
* * *
Однажды Доменико застал у Глюка гостью. Женщина показалась не очень молодой. Поклонившись, глянула сверху вниз, с высоты огромного роста, недопустимого для слабого пола. Плечи по-мужски широкие, низкий грудной голос... Доменико почувствовал себя карликом. Вышла, откинув волну тяжёлых медно-русых волос, вернулась с кофейником и чашками. Своя в доме... Пастор молчал, лукаво щурился.
Марта?
Вспыхнула невольная неприязнь. Рождали её странная, невольная ревность, самолюбие и ещё что-то.
Марта ловко, без стука, накрывала на стол, и возник другой образ – Саломеи, с какого-то полотна, тоже рослой, грузной, несущей на блюде не пирог сладкий, а голову Иоанна Крестителя.
Пастор между тем нахваливал свою девочку. Балует старика, каждый раз с лакомством из дворца. Девочка… Такая одним махом обезглавит. А царь без ума от неё.
Двух слов не сказал с ней Доменико за вечер – следил, искал повод в чём-то упрекнуть, но не нашёл. Марта ухаживала за воспитателем трогательно. После кофе подвинула его с креслом – легко, как ребёнка, – ближе к камину, старательно разожгла толстые, сырые сосновые поленья. Уходя, поцеловала руку пастору. С Доменико простилась без улыбки. Глюк извинился, удалился с ней за дверь, на площадку лестницы, и оттуда несколько минут доносилась непонятная речь, отрывистая, с резкими согласными.
– Ликтенис, – произнёс пастор громко. – Ликтенис, – повторил он, входя, – судьба по-латышски. Девочка бегает ко мне за советом. Положение её, знаете... Его величество привязался к ней, но... такая неожиданность... А что я могу? Я говорю: покорись судьбе! Куда вы? И вы бросаете меня... Нет, нет, не отпущу.
Уже щёлкали колотушки ночных сторожей, а пастор не отпускал Доменико. Снял со стены скрипку, играл латышские песни.
– Жалоба невесты. Жених – рыбак, море похоронило его... Любимая песня Марты.
Растрогался, опустил смычок.
– Двадцать семь лет прожито в Ливонии, друг мой.
– Но вам грех жаловаться.
– Да, конечно. Есть новость, слушайте, – и он вскочил, повесил скрипку.
Царь приказал учредить гимназию. Настоящую, по-европейски... Вести учеников дальше, на высоты наук... Пастор уже составил программу. Доменико взял листки. «Сирийский, халдейский» – бросилось в глаза. «Учение Декарта». Не забыты и правила хорошего тона, танцы, верховая езда.
Стопы рукописей в кабинете выросли – Глюк готовит новые учебники для гимназического курса.
– Преподавание я ввожу наглядное. Первичное есть вещь, то, что мы видим, осязаем. Это не моя идея. Это сказал Коменский[52]52
Коменский Ян Амос (1592—1670) – чешский мыслитель-гуманист, педагог.
[Закрыть], учитель учителей. Вот, я перевожу на русский его труд!
«Введение в языки» – значится в заглавии немецкого издания. Поразительно, как он успевает, неутомимый наставник, поклонник разума человеческого!
Насмешливо, чуть презрительно следит за беседой Декарт. Пернатые щебечут оглушительно с обеих сторон портрета, словно поют хвалу. Свысока взирает философ на людские горести. На кого же надеяться? Только на царя.
Пётр не раз посещал школу при Доменико. С Глюком неизменно ласков. Требует отчёта об успехах учеников. Небось не все прилежны.
– Лентяев лупить. Тупиц вон, мин герр! За порог! На глупость дохтура нет. Вон, в солдаты!
Пастор скорбно кивал. Не в его обычае расправляться круто.
– А вы, – царь обратился к Доменико, – примечайте, кто способен к архитектурии. Возьмёте с собой в Петербург.
– Фатер, – вмешался Меншиков, сопровождавший царя, – почто туда? Их Фонтан мой выучит. В Петербурге и без того ртов...
– Ох, отберу я твоего Фонтану, губернатор! В игрушки играете. Вишь, Ивана Великого захотел!
– Милостивец, – взмолился Меншиков. – Для меня нешто... Престиж ведь.
– Шведов престижем отбивать будем?
– В Петербурге Ламбер, – канючил губернатор, – куда ещё Фонтану?
– Ламбер воевать уйдёт, – отрезал царь.
Доменико, встречавший Меншикова до того мельком, теперь разглядывал его взыскательно. Смешно, до чего подражает царю... Нервно подёргивает щекой, вскидывает голову, хотя болезненный тик ему, должно быть, не свойствен. Такие же усы – двумя вытертыми растрёпанными щёточками... Нет, теперь уже не подражание – въелось в плоть.
Царь заторопился, обнял Глюка, сказал, что Марта здорова, просит не беспокоиться. Уходя, шепнул пастору несколько слов, и тот почтительно склонился.
– Послезавтра крестины, – услышал Доменико. – Его величество желает ребёнка от неё. Невероятно... Марта, моя Марта!
Обряд совершился в кругу близких. Марта стала православной Екатериной. Поразительно то, что царь назначил крёстным отцом Алексея, своего сына. С какой целью? Вовсе не щадит несчастного мальчика, весьма чувствительного...
Вскоре довелось увидеть Алексея. В Преображенском, при большом стечении приглашённых, отпраздновали наступление 1704 года. Долговязый, неулыбчивый, очень бледный. Обиду таит, зол на отца...
Царь, казалось, был беззаботно весел. Пил и не пьянел, некоторых важных вельмож понуждал пить, но архитектора щадил. О делах не забывал ни на минуту. Меншикову, который, опустив голову на залитый вином стол, мурлыкал песню, велел собираться в Петербург. И немедля. Тот мигом протрезвел.
– Припасёшь всё для мастера... Чур, чтоб не утоп там!
Доменико выехал десятого января, с отрядом конницы и с обозом продовольствия для города на Неве. Был ясный, морозный день, Москва плавила на солнце золотые купола, полнилась оглушающим скрипом полозьев. А неделю спустя завыли вьюги.
* * *
«Святой Доменико не звал меня ночью. Я спал на новом месте и без сновидений. Значит ли это, что я достиг конца своего пути, начертанного мне? Или сказалось страшное утомление – мы пробивались через завалы снега».
Начался первый день в Петербурге. Доменико опишет его подробно – в дороге не брался за перо, на станциях спешил отогреться, лечь.
«Счастье, что русская печка крепко бережёт тепло. В двух шагах от неё холодно, ветер продувает моё жильё насквозь. Но изба, отведённая мне, – роскошь. Большинство ютится в шалашах. Их можно принять за кучи снега, пока не заметишь вход – узкую щель, затянутую чем попало. Между тем царь называет Петербург своим раем».
Окно, заделанное обломками стекла, светлеет. Ветер посвистывает на их лезвиях, покачивает шпагу из Саксен-Альтенбурга, висящую на ржавом гвозде.
– Я на войне, на войне, – произнёс Доменико вслух, глядя на шпагу.
Денщик принёс в котелке похлёбку – жидкую, с овсяной крупой, с крохотным кусочком солонины. Где минестра синьоры Бьяджи? Где полента?
Семён – так зовут денщика – медлителен, немногословен. Родом из Перми. Это так же далеко, как Астано. О чём он думает, ухаживая за иностранцем?
Вошёл Меншиков. Деловито поздоровался, по-хозяйски осмотрел жилище, вытащил из стены клок пакли. Смачно выругался.
– Эй, солдат! Вон дыр-то у вас! Застудишь мне архитекта, сучий сын. Мастер, ты гоняй его, а то зажиреет! По роже дай!
У крыльца ждали сани.
– Не взыщи, – утешал губернатор. – У нас и генералы этак... Дрожат в пятистенках, как хвост овечий. Ладно, у тебя дрова сухие. Я тебе выбрал берёзовых…
Лишь одно слово незнакомо – «пятистенка». Спросил, обдумав фразу. Оказывается, изба, его изба. Пятая стена, поперечная, отделяет каморку Семёна, которая служит и передней. Резиденция царя подобного же рода, только просторнее.
В сани – город смотреть. Лежат под медвежьими шкурами. Сырой норд-вест обжигает лицо. Кругом шалаши – словно норы, врытые в снег. Под ними угадываются сараи, кладовые, поленницы, маленькие, обведённые хлипкими заборами огороды. Меншиков поднял трость, показал красную крышу.
– Пале-Рояль.
Подмигнул при этом, как будто вызывая на ответный юмор.
– Князь знает французский?
– Чуть-чуть, – бросил Меншиков и, ноготь к ногтю, отмерил эту малость. – А вы? By парле? Давайте мне экзерсис!
Наставительно добавил:
– Без французского нельзя. Плохой шевалье талант.
– Чин-чин, – вырвалось у Доменико. – Говорят в Италии, когда пьют. Похоже...
– А пьют, верно, чуть, – развеселился губернатор. – Вы, например, как курица... Не желаете?
Нашарил флягу, обтянутую кожей, откупорил, протянул. Пришлось отхлебнуть, из вежливости. Губернатор приложился основательно, сославшись на студёную погоду. Вытер усы, откинулся удовлетворённо.
– Чин чином. И у нас так говорят, мон шер. Значит, нормаль.
Потом снова протянул трость, обвёл ею круг, – здесь Городовой остров. Красный дом на берегу – царский. Глаза губернатора при этом насмешливо сузились. Распахнулась площадь. Над ней – церковь Святой троицы и поодаль – низкий, длинный гостиный двор, будто павший ниц перед храмом, за ним избы. Всё новое, в желтизне голой сосны. Высокой, пологой белой волной надвинулась крепость Петра и Павла. Доменико помнил карту, смотрел и узнавал.
Съехали на лёд. Твердыня разворачивалась, отрезанная от острова каналом, провожала жерлами пушек.
Копьём торчала тонкая колокольня. Пропорции нарушены... Но что можно требовать? Что такое этот начатый город среди белой пустыни болот и вод, как не дерзость, захватывающая дух!
– Вы кто, синьор Трезини? – вдруг спросил губернатор.
– Я...
– Из каких вы... Генерал Ламбер у нас, к примеру, маркиз.
Пришлось разочаровать: Трезини не маркиз и, конечно, не граф. Какое имущество у фамилии? Земли, пале? Или палаццо по-итальянски? Нет, никак не палаццо. Дом, ничем не выделяющийся среди прочих сельских. Земли совсем немного – фрукты, виноград для своего хозяйства.
– Чуть-чуть, – прибавил Доменико.
Меншиков отвернулся, ткнул кучера в спину, – погоняй!
«Губернатор, – напишет Доменико, – хочет упражняться со мной во французском. Боюсь, я вложу в его княжеские уста диалект Пьемонта. Он тянется к высшему свету, а я, увы, не принадлежу к нему. Роняет меня в его глазах и то, что я не в состоянии бражничать с ним и не умею бить подчинённых. В характере губернатора сочетаются тщеславие и товарищеская простота. Он деятелен, распорядителен, и преданность его царю безгранична. Хвала Мадонне, он был со мной, когда наши сани заскользили по морю...»
Местами на необъятной равнине тёмные пятна – следы недавней оттепели. Они внушают страх. Ещё страшнее пересекать это пятно: снег стаял или сметён начисто, и, сдаётся, корка тонкая, прозрачная и под ней вода, пучина.
«Но не бойтесь за меня, лёд поразительно прочен».
Остров Котлин – длинная, одетая ельником гряда – безлюден, мрачен. Где-то на берегу гнездо артиллерии, казармы. Ловко врезаны в заросли, неприметны и вблизи. На подступе к суше – снежный бугор, к нему от шляха наезженная колея – неизвестно зачем. Свернули. Нет, не ветром – людьми воздвигнут белый вал. Обозначился проем, из него, путаясь ногами в длинных тулупах, выбежали часовые.
Теперь белая преграда – со всех сторон. Снежная крепость, словно для забавы... Но нет, на плацу, чисто выметенном, защищённом от ветра н от любопытства посторонних, – штабели брёвен и досок. И срубы, бревенчатые срубы, плотно сдвинутые. Их ещё немного...
Вернее – ряжи. Но всё равно срубы. Основа здешнего деревянного зодчества, любого строения. Будь то изба, усадьба боярина, цепь кремлёвских приказов или дворец в Преображенском – филигранный русский барок. Здесь же, на льду, над отмелью, эти ящики, слезящиеся смолой, имеют новое, наверно небывалое назначение. Насыпанные на одну треть камнями, комками мёрзлой земли, соединённые железными скобами, они весной продавят лёд, опустятся на дно. Это фундамент форта и площадка для строителей. Они начнут работу, не дожидаясь таяния...
А если взбунтуется море? Представилось: лёд взломало, толстые ледяные плиты встают дыбом, таранят... и люди бессильны... Правда, царь сам мерил глубину. А фундамент? Достаточно ли крепок и высок? Доменико зажмурил глаза – так явственны льдины, ломающие надстройку. Даже треск послышался... Но то кучер возится с упряжкой, поправляет что-то. Губернатор вылез из саней, запахивает епанчу.
– Але, метр! Променад.
Метра коробит от шутливого тона: льды всё ещё громят форт. Куда делось спокойствие, внушённое в Москве цифирью, чертежами?
А губернатор пуще расстроил:
– Ламбер нашу затею в пух разнёс. Катастроф, понятно? Генерал Ламбер... Говорит, утонем. Скажу критик государю.
Протянул руку Доменико, помог выбраться. Попытался ободрить:
– Критик он горазд кричать. Не пропадём... Тут мелко.
Беспечно постучал каблуком. Синеватая прогалина голого льда притягивала взгляд. Надо привыкнуть... Ступая с невольной опаской, Доменико подошёл к срубам. Размеры он помнил наизусть. Вынул из кармана епанчи ленту с делениями. Погрешности не нашёл. Всё же в этот первый день на льду уверенность не возвратилась.
Что же предлагает Ламбер? Что он имеет против? Ведь проекта не читал. Понаслышке, значит...
Вечером Меншиков повёз архитектора к себе ужинать. Послал солдата за Ламбером – тот отказался, сославшись на нездоровье.
Светлейший устроился с комфортом. Пружинящие стулья, обитые китайским шёлком, по стенам – восточные ковры. На столе дорогая делфтская посуда, вся в синих цветах, лианах, плодах полуденных стран. Ели телячье рагу, запивали венгерским.
– Француз обиделся, – услышал Доменико. – к нам что? У нас царский указ.
«Этот Ламбер строил здешнюю цитадель. Проект её не оригинален, и царь, весьма сведущий в фортификации, исправлял его. Теперь маркиз занят мелкими доделками в цитадели. Он рассчитывал на большее в Петербурге и мнит себя первоклассным архитектором, хотя он в действительности военный инженер, кстати, отличившийся при взятии шведских крепостей. Авантюра – так он называет свою службу здесь – ему, по-видимому, надоела, и он сильно пристрастился к водке».
Встречу с ним губернатор наконец устроил. Маркиз пришёл одетый небрежно, парик его свалялся, воротник камзола несвеж. Плохо вымытыми пальцами брал хлеб, пил много, громко говорил о своих походах под начальством Вобана. Разговора, которого Доменико ждал, не получилось: маркиз ускользал. Дескать, меня не посвятили в эту затею, у Котлина. Только странно: неужели мало батарей на острове, чтобы перекрыть фарватер огнём?
– Мало, мон шер, – сказал Меншиков.
Доменико промолчал. Он чувствовал себя виноватым перед Ламбером. Нелепо, конечно... Но побороть неловкость не мог.
А тот, пьянея, вдруг выкрикнул, опрокинув бутылку:
– Слава Ламбер, слава фамилья Ламбер на поле баталья!
И поглядел на швейцарца победоносно.
Следующее письмо в Астано Доменико написал на Котлине:
«Остров был до войны необитаем, и на нём множество дичи. У нас в изобилии мясо кабанов и лосей. Я часто нахожусь на замерзшем море и уже привык к этому».
Лишь иногда кажется, что ледяная толща не выдерживает, потрескивает под растущей тяжестью. Ряжи подвозят, фундамент ширится. В феврале плотники выложили на нём платформу из толстых досок. До исхода месяца начали сооружать первый круг форта... Работали ночами, вместе со всеми бодрствовал и Доменико. Приучил себя отсыпаться днём.
Через две ночи на третью мчится из города губернатор, с ходу распекает кого-то или балагурит. Сыплет вперёд свою бойкую скороговорку. От архитектора требует отчёт точный: сколько ушло дерева, что в запасе, не было ли побегов, ослушанья, драк, хорошо ли люди накормлены? В отсутствие Меншикова Доменико полный хозяин над сотней работающих. Набраны они из полков, за порядком следят офицеры, но и самому хватает дел – сверить осуществляемое с чертежами, блюсти качество, а то и взять топор, линейку, растолковать.
Что принесёт весна? В снегу – продушины оттепелей. Вот они, знаки судьбы! Сдаётся, лезвия наточенные, грозящие ему, крадущиеся змеи. Окна в морскую безвестность, куда боязно заглянуть. Стоит дать волю воображению – накатывает ужас. Как поведёт себя этот искусственный остров? Нет ли ошибки в расчётах? Да и можно ли всё предусмотреть? Небывалая, сумасшедшая дерзость...
А проталины ширились. Некоторые ряжи осели, две скобы сломались – их заменили. Губернатор чаще карал тростью, но и балагурил звонче – весёлость наигранная, но помогала. Все вопрошали море: победу сулит оно или поражение, позор.
В конце марта, как всегда внезапно, прибыл царь. Работу похвалил, заспешил на верфь. Свершилось без пего. В апреле лёд подался, рухнул, форт благополучно осел, вкоренился в дно.
Царь вернулся в мае, принял форт, способный к бою. Ярусы обшиты досками, внутренние помещения отделаны, орудия поставлены. Назначил на 18 мая торжество – с залпами и фейерверком. Близость шведов на радостях не смущала – пусть смотрят и чешут в недоумении затылки.
Дал имя острову-форту. Кроншлот, ключ российской короны. В указе своём Пётр предписал: «Содержать сию цитадель с божьей помощью, аще случится, хотя до последнего человека...»








