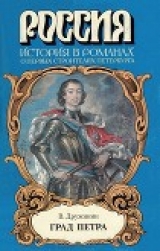
Текст книги "Град Петра"
Автор книги: Владимир Дружинин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 33 страниц)
– Смелость города берёт.
Напоследок едва не поссорились – из-за стрелы. Никодим обзывал Порфирия стоеросом, лохматым лесовиком. Сказано ведь: не сотвори себе кумира!
В дороге был полтора месяца. Голубков нашёл в добром здравии. Андрей Екимыч жалился на ихнего попа. Одного француза, женатого на двоюродной своей сестре, не допускает к исповеди, из церкви гонит вон. А во Франции их обвенчали же... Стало быть, и там меняются порядки, и поп, стало быть, ихний – старовер. Скоро сместят его, понеже ропщут прихожане. Господин архитект надеется тогда справить и свою свадьбу. Порфирий порадовался на дочь и будущего зятя, а потом пропал.
Неделя минула, другая – не постучал, не подал вести. Спрашивать в канцелярии Доменико не решался.
Синявин заговорил первый:
– Помнишь Порфирия-печника? В остроге сидит.
Состоял он в артели, клал печи у барона Шафирова.
Выдал свой же брат, мастеровой. Мужичонка никудышный, из тех, которые с ложкой – первые, а с сошкой – последние. Порфирий пробирал его за леность, за пьянство, за непотребные речи. Тот возьми да и укажи...
Я, говорит, сразу признал, но проверял себя. Это, говорит, беглый человек, зовут не Савелием, а Порфирием. Печника схватили, вздёрнули на дыбу – она живо правду вытягивает.
Со слов его записано:
«Ярославского уезда монастырского села Анкудинова переведённый на вечное житьё к городовому строению в Санкт-Петербург Порфирий Лаврентьев с сыном Сосипатром и с дочерью Лукерьей... И оные его Порфирия сын и дочь в прошлых годах умре».
Отчего лишились живота? Расспросный лист о том молчит, ибо для дела сие несущественно. Писарь, верно, и не спрашивал пытаемого. Мастера – те на учёте особом, а жёны, дети... Мало ли их погубил Питер! Не всё ли равно, болезнью померли или голодом, унесены высокой водой либо замёрзли, пропали в огне, истребившем целую улицу...
«Работал он Порфирий в доме Его величества летнем и в крепости и на кирпичных заводах, а потом захворал и жил месяц в доме своём не у дел и хворый пошёл уходом самовольным в Старую Ладогу и там ночевал, а у кого, того двора и хозяина не помнит».
Точно ли не помнит? Хлестнул по спине кнут, но печник твердил своё. Лежал он в беспамятстве, едва душу богу не отдал, да и давно было...
«От Ладоги правил путь свой до Тихвина, а в Тихвине кормился Христовым именем, понеже работы никакой по болезни своей делать не мог, а отколь он пришёл и какой человек про то не знали».
Сроду он не бывал в Тихвине. Сорвалось с языка... Нищие всюду бродят – безымянные, неразличимые. Что листья, сбитые ветром... Ясно увидел Порфирий себя с протянутой рукой, у паперти храма, в толпе. Начнёшь врать – откуда что берётся...
«А из Тихвина пошёл к Твери и кормился своим ремеслом, делал печи и жил у незнаемых людей и ночевал по разным дворам».
Ужель скитался без всякой цели? Дорога как ни мотает беглого, а приводит же в родные места. Да, направился к Ярославлю. Только в городе показывался редко, чаще в слободах, а ещё рядился на работу в Ростове да в больших торговых сёлах – в Некоузе, Великом, да берегом Волги доходил до Костромы. Названия будто кто на ухо шептал, и Порфирий сыпал их, пока подьячий, утомившись, не положил перо. Вот и ладно... Не обшарит розыск все эти города, деревни, слободы, а коли в Ярославль сунется – придавит купеческая мошна.
Ждут его там... Собираясь в Питер, обещал к зиме вернуться. Из богатеев почти каждый желает иметь новой манеры камины – как у самого царя в хоромах.
«И четыре года из тех мест хаживал летним временем в Санкт-Петербург по всякой год и работал всякую печную и каменную работу у дела Его величества палат и V дела плотин и у дела галдарей – как каменщик вольной».
Видал виды писарь, иссохший над бумагами ярыжка, но воззрился на пытаемого. Чего ради ноги трудил мужик? Четыре раза, да в оба конца, – шутка ли? Ответ у Порфирия готов и на это. В бегах ему худо. Покинул он Питер будучи нездоров, в помутнённом разуме, и впоследствии раскаялся. В столице, милостью государя, умелому человеку по всем статьям выгодней, чем где-либо в губерниях. Вот и ходил он сюда для заработка и намерение имел принести повинную, да не решился.
– Складно поёшь, – сощурился ярыжка. – Соловей-соловушка... А может, ты соловей-разбойник?
Велел огреть кнутом, да посильнее.
«А в разбоях и татьбах он, Порфирий, нигде не бывал и с воровскими людьми не знался».
На том розыск и кончился. Посылать запросы, искать хозяев, нанимавших Порфирия, канительно, хоть и обязывают строгие указы. Вправили ему суставы, окатили водой окровавленную спину и отвели в острог, где надлежит ему быть до приговора. Расспросные листы переданы в Канцелярию строений, и Синявин, показав их Екимычу, сетовал.
– Боюсь, потеряли мы мастера, – сказал Ульян с болью. – Теперь он взаправду чахнет. Не столько от битья... Душой он извёлся, я чузо... А что я могу? Закон лютый. Был бы царь сейчас, поплакались бы мы ему, а что толку? Его закон, порожденье его, а не переступит. Насчёт этого – адамант.
Просили губернатора о милости – обещал взять к себе. Но батоги, как положено. Но изведать их Порфирию не пришлось. Избавила смерть, сошедшая к нему в душную, залитую болотной жижей острожную яму.
* * *
Дом Бутурлина, «князя-папы», узнаваем издали фигурой Бахуса на крыше – пузатого, обвитого виноградной лозой. Хозяин пить здоров: если валится с трона на всешутейнейшем соборе, то последним. Но сегодня не будет ни машкер, ни обедни потешной – сбор назначен иного рода, необычного.
Картон, прибитый у крыльца, уведомляет, что «ассамблея-слово французское, которое на русском языке одним словом выразить невозможно, но обстоятельно сказать: вольное, в котором доме собрание или съезд делается не только для забавы, но и для дела».
Афиша кочует от одного особняка к другому – именитые, денежные новую несут повинность, созывая гостей.
С утра явился к Бутурлину Антон Девьер, проверил, пригодны ли комнаты, сказал, что пришлёт вахмистра – записывать входящих, а то с кого спрашивать в случае какого безобразия? Глава недавно учреждённой полиции, он помахивал нагрудным знаком на цепочке, едва не тыкал в нос, и Бутурлин недовольно жмурился. Ишь похваляется, матрос безродный! Сыт царскими милостями, или мало? Отдал ведь Меншиков сестру за него, отдал... Поди, в князья вылезет!
Слыхано ли – гостей переписывать!
Однако – может, и резонно – принимать велено как знатных, так и купечество, даже приказных и старших мастеров. Само собой, и судовых капитанов. Что ж, добро пожаловать? Хозяин не скуп, боярское свои имя не опозорит. Открыты, чисто прибраны четыре каморы, припасены напитки, мясные и рыбные закуски, наняты музыканты. Расставлены стольцы для курильщиков, для игроков в шахматы. Бутурлин огрызнулся, когда полицмейстер изрёк повелительно:
– Карты извольте спрятать!
Кому говорит, молокосос? Да о том всему Питеру известно: государь карточного азарта не терпит.
Питерцы – ранние пташки. Пробило три – заскрипели саки, повалили, напустив мороза в сени, военные. Час-другой спустя – чиновники, они кончают службу позднее. Выпростался из медвежьей полости толстяк Шафиров, выволок, словно котёнка, юного, щуплого дипломата-француза. Новичок в России, он озирался задорно и поминутно кланялся в пояс, чем насмешил изрядно. Бутурлин, с отвращением помогая полицейскому, спрашивал у незнакомых фамилии.
Пробило четыре – уже заняты все кресла, сквозь табачный дым мерцают ордена, шитьё жюстакоров. Генералитет и министры чуть не в полном составе – будут царь и царица. Их не ждут, чтобы сесть за еду или пуститься в пляс, также не велено на ассамблее встречать у порога и провожать.
Шафиров заговорил с хозяином, брошенный француз растерялся, потом подбежал к Леблону. Передал привет от посла Делави и затараторил:
– Я читал донесение в Париж. О, патрон превозносит вас до небес!
– Так высоко? – процедил генерал-архитектор иронически. Он был не в духе.
– Ваш проект гениален, по его мнению... Да, гениален – буквально, слово чести! Не верите? Клянусь вам... Вы превратите Петербург в нечто сногсшибательное.
– Чушь! – выпалил Леблон. – Собачья чушь!
Бедный юноша стоял некоторое время раскрыв рот.
Поблизости, на угловом диване, расположились зодчие. Генерал-архитектор отошёл разозлённый. Доменико заметил и сделал знак приглашающий. Версалец отвернулся и остановил лакея, разносившего водку. Мимо, вскинув голову в огромном парике, прошагал Растрелли, тоже в гордом одиночестве. Вражда соперников ещё не остыла.
Шевалье снова опешил – в клубах густевшего дыма возник царь, как всегда, стремительный. Он кивал, ведя за руку Екатерину, и лишь гул голосов раздался в ответ, но, к удивлению новичка, никто не вскочил, не отвесил реверанса. Пригнулись лишь языки свечей. От тяжёлой парчи, ниспадавшей с крутых бёдер царицы, обдало ветром. Шевалье протиснулся к Леблону.
– Какая женщина!
– Эта женщина, друг мой, собьёт вас мизинцем. Ступайте к молодёжи!
Сжалившись, проводил его в залу, где пели скрипки и щёлкали офицерские каблуки. Наконец отвязался мальчишка... Леблон направился в буфетную и присоединился к бражникам, чего до сих пор с ним не случалось. Доменико, почуяв неладное, отыскал его и пытался увести.
«Генерал-архитектор в довольно грубой форме попросил оставить его в покое. Взъерошенный, побледневший, подавленный, он напугал меня, и я посоветовал ему уйти домой. В таком печальном состоянии можно натворить глупостей. К сожалению, он не послушался».
Водка сулила храбрость, Леблон морщился и пил. Ужасная гадость! Но он должен говорить с царём. Хватит молчать! Ему подвинули икру, сёмгу, кто-то краснолицый возгласил здравицу, уставившись мутными глазами.
– Я гениален, – ответил он невпопад по-французски и расхохотался.
Дурак мальчишка, сплетник в таком возрасте, сплетник... А этот бездельник Делави, набивающий свои доклады любовными историями, скандалами, всевозможной чепухой... «Гениально, гениально...» Чего доброго, повторит подобный же болтун в парижском салоне... Гипербола бесит Леблона и льстиво щекочет. А злость ширится, втягивает краснолицего, щебечущих девиц, разогретых танцем, пробегающих в сени остудить телеса, осоловелого Бутурлина, бредущего среди гостей. Злость и на царя, промелькнувшего в обнимку с голландским коммерсантом.
– Гнусные буржуа, – выдавливает Леблон. – Барышники... В высшем обществе... У нас – никогда!
Он не видит коллег, но и они в петле его злости – даже Трезини, этот святой швейцарец, всеобщий друг, ангельская кротость... Верно, жалеют его – генерал-архитектора. Титул, лишённый смысла, нелепый, как тюрбан на голове русского гарсона. По сути – насмешка... Генерал-архитектор устал ругаться, устал, хотя и усвоил здешний скабрёзный лексикон. Бесполезно... Ему отдали в распоряжение столицу и тотчас отняли, и он – словно Санчо Панса, у которого отбирают лучшие блюда, не дав и прикоснуться. Неужели доверился Дон-Кихоту? Весь первый год в России корпел впустую... Генеральный план лежит в царской библиотеке. Землю новосёлам раздают по плану Трезини, на Васильевском и повсюду. По плану Трезини, Трезини...
Старался наделить Петербург архитектурой самой совершенной, дал образец – свой парижский отель Клермон. Переделал по воле его величества, окна сузил, но всё равно строят больше по фасону Трезини, русский вельможа предпочитает своё, дедовское, московское, – высокое крыльцо, взламывающее рисунок фасада, а вместо фронтона мезонин, свидетельство скупости владельца, не осилившего целый второй этаж. Его величество, противник старого, равнодушен. Самодержец, владыка этой богатейшей страны... Где же власть его?
Отнят Петербург у генерал-архитектора, отнят. Губернатор потирает руки. Слава отцу небесному, есть средство отомстить злодею. Уже сейчас небось ноет завистливое сердце выскочки, дворец Черкасского[123]123
Черкасский А. М. — князь, в 1715—1720 гг. управляющий Санкт-Петербургской городской канцелярией.
[Закрыть] растёт. Три этажа, щедро распахнутый подъезд, грандиозный двухсветный зал. Для гостей анфилада парадных комнат, для семьи разбивка на апартаменты, – его, Леблона, сочинение. И на той же набережной, невдалеке от Кошимена...
Спасибо князю Черкасскому, нашёлся ценитель. Конечно, хоромы эти – ничтожная частица того, о чём мечталось, плохое утешенье, но что ж, сладость отмщенья скрашивает любую потерю! Генерал-архитектор невзначай произносит вслух афоризм кардинала Ришелье, знаменитого хитреца, и с кем-то чокается. Удалось бы довершить дворец... Не оказался бы богатый заказчик на виселице либо в изгнании...
Сосед налил ещё рюмку, Леблон задумался, машинально жевал мочёные яблоки, одно за другим. Хмель проходил, убывала и решимость. Вторглись заботы будничные – завтра рано вставать. В Петергофе надо быть непременно, царь подстёгивает... Леблон спохватился. Чтобы не отступать, выпил ещё. Музыка в зале умолкла, Пётр вышел с гурьбой сановников. Он завлёк их танцевать, они шатались, обмахивались платками, вытирали потные лбы и шеи. Леблон поднялся, но царь повернул в сторону, к голландцам. Там сдвинулись кружки с пивом, загудела неторопливая, деловитая речь.
– Марсель... Барселона...
Купец, зычно ронявший названия гаваней, судов, тоже враждебен, его розовое темя и сизые патлы противны. Пошлый торгаш... Царь поглощён какими-то фрахтами, барышами...
Леблон нагнетал в себе бунт, выжидал. Пётр прохаживался между столами в настроении отличном. Не умея хранить добрую весть про себя, он оповещал друзей о выгодной сделке – русские товары отправятся весной в страны Средиземного моря. Генерал-архитектор преградил ему путь и чуть не ткнул блохоловкой, которую постоянно теребил. Заговорил фальцетом, задыхаясь:
– Ваше величество... Есть человек, способный прославить ваше имя в веках...
Брови царя взметнулись.
– Кто же?
– Человек, признанный в Европе.... Он унижен, он изгнан из Петербурга... Покойный король Людовик...
– Постойте, мосье! Кто же?
Теперь Леблон расслышал вопрос. Лицо Петра дёргалось, но версалец видел только пуговицы кафтана, расстёгнутого на груди. Вымолвил упрямо:
– Ваш слуга.
– При чём же король? Вы нам служите, мосье...
В тишине, обступившей их, сдавленные смешки. Бунтарь ощутил страх. Да, к чему Людовик? Слетело непроизвольно... Почему смеются? Думают, струсил?
– Вам, ваше вёл... Но ваши бояре...
Смешки умолкли.
– Бояре? Какие бояре?
В поле зрения версальца возник царский кулак. Леблон не отшатнулся. Будь что будет... Делави передаст в Париж. Но удара не последовало.
Чья-то рука, белая и пухлая, просунулась откуда-то, легла на красное сукно манжеты.
«Царица спасла положение, – записал Доменико, – а то Леблон испытал бы колоссальную мощь кулака его величества. Столь гневная его реакция некоторых удивила. Я объясняю её тем, что парижанин, ранее докучавший царю, затронул струны чрезвычайно чувствительные. По городу сразу же разнеслись слухи: генерал-архитектор жесток избит. Терпевшие от его колкостей злорадствуют, я же искренне за него страдаю. По-видимому, он скоро уедет».
Рок судил иначе.
* * *
Эпидемии оспы шествуют по Европе вереницей, невозбранно. В конце зимы 1719 года чёрная смерть, медициной не разгаданная, вторглась в Петербург, скосила сотни людей. Леблон стал одной из первых её жертв – 30 марта, через два месяца после столкновения в ассамблее.
Он умер опальным.
Супруга просила денег на похороны, Меншиков отнёсся холодно: выдал, но в счёт жалованья. Царь был в отлучке, никто из сановников на погребении не присутствовал.
Доменико и его домашних болезнь обошла. Мария зажгла лампаду и помолилась за упокой души.
– Его не оспа заела, – сказала она. – Тоска извела.
Пришёл царь проведать: здоровы ли? Тревожился – Екимыч был и есть главный зодчий.
– Скорблю, государь, – молвил Доменико, – не имею таланта, равного угасшему.
– Не имеешь? Полно тебе! Веди в музей свой!
Модели зданий, замышляемых и строящихся, уже не теснятся по углам, по лавкам, расставлены на столах в большой комнате. Царь часто изволит бывать.
Тесно и тут. Собор Петра и Павла пора вынести в сарай и содержать там для памяти. Смотрители взяли абшид, оба шпиля отражаются в Неве – фок-мачта и грот-мачта. На звоннице собирают часы-куранты.
Возрождается в камне Александро-Невская лавра, сооружение мемориальное и тем особо важное для царя – героев своих надобно знать и чтить. К модели он придирчив, хотел второе здание-корабль над Невой, но передумал. Высоким шпилем, флигелями, распахнутыми под прямым углом, лавра сродни Адмиралтейству, стены, расчленённые пилястрами, лишены нарочитой церковности. Стиль ныне всеобщий и для особняка, и для дворца, и для дома божьего. Разместить должно храмы, семинарию, монашескую обитель, однако ничего нет похожего на привычный русскому глазу монастырь, опоясанный стенами, грозящий противнику издали боевыми башнями. Нужды в них нет, а большим бородам пилюля горькая.
Теперь наказ архитектору – делать центр столицы. Першпектива, прорубленная сквозь лесные заросли, к лавре застраивается, встаёт каменный дом Ноймана – царского портного, замучившего Доменико вздорными претензиями. Пётр скользнул взглядом по модели равнодушно – не видит он главной улицы, не видит трёх лучей от Адмиралтейства и его вышки, прочерченных уже не токмо на плане, а на земле, жизнью самой. Сердце Петербурга на острове, у моря, – и баста! Но зодчему не всё ясно. Где центральная площадь? Леблон рисовал её в середине Васильевского, царь предпочёл стрелку, у воды, рядом с цитаделью. Считать ли решенье окончательным?
– Французские затеи забудем, – сказал царь, хотя зодчий и не упоминал о них.
Коллегии переводятся с Троицкой площади, из мазанки в хоромы каменные, которые доверены таланту Екимыча. В части сенатской – тронный зал. Да, сие неизменно... Не в этом ли суть расхождения с Леблоном?
В центре Парижа – король, его Пале-Рояль. В центре Петербурга – правительство России. Самому царю достаточно старых, обжитых дворцов – Летнего и Зимнего. Отелей средней руки, по мерке парижской. Он будет ездить на Васильевский – там его служба.
Что же накропал Екимыч? Доменико подаёт листы – как повелел его величество, коллегии к Неве торцом, понеже на реке из-за великого судоходства шумно, чиновные будут отвлекаться от неотложных своих дел. Да и негде уже вытягивать по набережной длинное здание – стараниями зодчего Маттарнови, прибывшего из Италии, начата Кунсткамера, а против неё, у Невки, Гостиный двор, покамест на чертеже Трезини.
– В Европе есть ли подобное, а, мастер?
Нет, Доменико не знает, коллегии превзойдут, пожалуй, по длине всё, воздвигнутое Людовиком, цесарем и прочими потентатами, а уж петербургское строение и подавно. Двенадцать зданий в одном, слитно, примыкающие стенами, краями крыш, единый фасад. Доменико прикидывает по-разному, задача – избежать монотонности, найти ритм пилястров динамичный, оконные проёмы не слишком широкие, но, боронясь от холода, и не сузить их чересчур, до прищура, дабы не тонули в тяжёлой толщине стен. Сколь возможно уменьшить эту тяжесть. Рассчитать в гармонии с целым контуры, объем и опоры арок первого этажа – разбег галереи непрерывен, во всю его длину.
Этажей два. Сквозной коридор, по задней стороне, на втором, соединяет коллегии. Указания подробные даны царём и насчёт внутренней планировки.
– Кирпичом не разгораживай! Как ведать наперёд? Надобно если – камору больше, аль меньше...
Деревянную стенку сломать недолго. Из малого кабинета получится зала, дабы заседать многолюдно, с чиновными из губерний. Да мало ли какая надобность...
Государь торопился, но пробыл два часа у Доменико – городовое дело поглощает. И нет постройки, к которой бы он не приложил руку, нет проекта, его не касающегося. Дворцы и церкви, казармы и госпитали, конюшни, голубятни, бани, цейхгаузы, сооружения портовые, мастерские...
Тут бы, пользуясь моментом, испросить милости для себя. Ульян Синявин покоя не даёт – блаженный, мол, ты. Андрей. Старый, а всё подполковник. Порой Доменико и самому обидно: жалованье в пять раз меньше, чем было у Леблона. Тысяча в год... Тысяча – сумма солидная, в доме достаток, Мария не жалуется. Она понимает... Толкать государя незачем.
Градус полковника – дворянский, сулит владенье вотчиной, крепостными. Чужеземец, хоть и с гербом, но званьем ниже, прав таких не имеет. Тем лучше... И разве не сказал однажды царь на приёме в Летнем саду, публично: за то и любит архитектора Трезини, что он ничего не просит.
Записав эти слова в своей тетради, Доменико подчеркнул их и прибавил:
«Я не желаю почестей, делающих человека рабовладельцем. Совесть не позволяет мне запятнать себя этим грехом, и, полагаю, царь не станет принуждать меня. Неужели он не осуждает в глубине души то, что в его государстве полагают естественным и незыблемым?»
* * *
«Рим-то плешивеет, говорю, люди куриознее становятся к деньгам, нежели к мраморам... Ещё прошлого года торговал труп, рисунок который при сем прилагаю. Фабола – когда Психа влюбилася в сонного Купиду, которого весьма хорошо зделали».
Ох Кологривов! Психея ведь! По-собачьи обозвал нимфу. Царь смеялся, читая письмо. Эка невидаль – влюбилась... В чём же мораль? Позвал Екатерину. Сняли с полки «Овидиевы превращения».
Нимфа заподозрила Купидона в коварстве. Склонилась над ним испытующе, и он очнулся, впал в сильный гнев. Вследствие этого поссорились. Мораль фаболы невелика, но, коли работа искусная, полутора тысяч ефимков не жаль. Красота возвышает души.
Екатерина, поглядев на рисунок, одобрила покупку и сказала:
– Любовь всегда беспокойна.
Царь усмехнулся.
– И нам покоя не даст. Часовых поставим. Наскочит какой скудоумный, да топором. Голые на ложе – соблазн ведь дуракам, соблазн...
Красивы, спору нет, итальянские девки, с коих резаны скульптуры. Любуйся, но пойми аллегорию – вон, под сенью листвы Справедливость, Милосердие, Благородство! Сняли с корабля, привезли в сад старика поселянина – и его не погнушался ваятель избрать моделью. Бедняк, в рубище убогом, тащит овцу на базар. По осанке, по чертам лица видать – человек отважный и честный. Жил в Древнем Риме, первый гость оттуда. 15 галерею его, под крышу, от дождя и снега сберечь – обошёлся недёшево.
Внушить дуракам: срама нет в человеческом теле, есть натура, а бывает она пригожей и уродливой. Сколь она многообразна, убедись, вошедши в Кунсткамеру! Платы служители не берут, угощают водкой либо кофеем – любопытствуй! Если был ты в прошлом году, – навести нынче: из губерний постоянно шлют всякие редкости, красоту и уродство. Золотые изделия, найденные в кургане, телёнка о двух головах, уральский камень предивного узора.
Всё – натура...
Кологривов понимает. Откуда у него талант разбираться в художествах? Учился-то вприглядку, а вот поди ж! В прошлом годе нанял архитекта Микетти[124]124
Микетти Никколо – итальянский архитектор, с 1718 г. работавший в Петербурге.
[Закрыть], зная лишь его рисунки, ибо сей муж иного ничего показать не мог. Исправлял какой-то приют монастырский, прожектировал фонтан и сочинил хитрое обращение воды, но конкурса с другими зодчими не выдержал. Так что в Риме, по сути, был подмастерьем и только в Питере вышел в мастера. Начал службу у Леблона в Петергофе, а нынче сей Никколо в Ревеле, имеет построить дворец для её величества.
Дворец на морском берегу, в штиле итальянском, парк прянем разбивают французский регулярный, фундаменты выложены – поспешает Никколо, старается. Прожектом своим угодил царице. Но вот серчает она. Неисповедимо женское сердце. Утром, едва отдышалась после объятий супруга, опять канючит:
– Битте! Отдашь Венус?
Занадобилась ей статуя! Нет уж, коли удастся вызволить богиню, в Летнем саду ей место. Не простая ведь вещь...
– На что тебе, матушка! – раздражается Пётр. – С собой, что ли, равнять?
Обиделась:
– Полно тебе, цукер мой... Маша, да не наша.
Сорвалось неосторожно, отчего Екатерина отодвинулась на ложе резко. Среди фрейлин её блистает красотой Мария Гамильтон, дочь обрусевшего шотландца, Машка-синеглазка. К мужчинам прилипчива, и царь наверняка завёл с нею амуры.
А Венус найдена в Риме случайно – житель одни копал огород и наткнулся. Кологривов прослышал и сторговал. Статуя античная – скульптор, нанятый починить её, клятвенно подтвердил.
«Как могу хоронюся от известного охотника», – сообщал Кологривов. Сделка тайная, скрывать надо от губернатора Фальконьери – ведь вывоз подобных редкостей папой запрещён. Конфуз может выйти...
Следующее известие огорчило. Пронюхал-таки охотник, Венус отобрана, продавец сидит в тюрьме. К ней теперь и приблизиться нельзя – стоит Венус в Капитолийском саду под охраной. Папа велел проверить, подлинно ли она из старого греческого мрамора, и её пробили. бедную, долотом в трёх местах. Тем ранен и Кологривов.
Пишет – лучше ему умереть, чем выпустить Венус из рук после стольких хлопот.
Больно и Петру. Заварилась каша! Ловок Кологривов, но одному не расхлебать. Писать в Венецию Рагузинскому – дипломат опытный, пусть незамедлительно едет в Рим.
Три месяца длился торг. Царь подарит папе мощи святой Бригитты, доставшиеся русским войскам при взятии Ревеля. Неужели откажется его святейшество принять? В обмен на Венеру, на языческую нагую богиню?
Нет, отказаться не смог...
Царь указал маршрут: морем везти до Ливорно, далее на мулах до Инсбрука, оттуда Дунаем до Вены, где надобно сделать карету на пружинах, в Кракове перегрузить на речное судно... Так, двигаясь с «великим береженьем», вооружённая охрана доставила статую в Петербург.
Богине любви и красоты торжественный оказали политес. Поместили в галерее Летнего сада, в ряду изваяний особо ценных и – мало того! – поставили часовых.
Белой дьяволицей прозвали её суесловцы. Ворчат, плюют, а глаз не отвести. Одежду скинула, вся как есть нагая – похоже, намерена искупаться. Озираючись на кого-то, властно и бесстыдно похваляясь прелестями обоими, ступает осторожно к воде... Царь не стесняется при людях провести рукой по её телу, одобрить сложение, соразмерность членов, натуру, запечатлённую художеством.
* * *
В апреле Доменико сыграл свадьбу. Венчал толстый, горластый, медноволосый баварец, присланный на место старого педанта, сражённого оспой. Новобрачной подмигнул плотоядно. Мария Петровна – значится в церковной книге. Навеки кануло в небытие прежнее её имя.
«Каждый из нас, – сообщил зодчий в Астано дочери и зятю, – остался при своей вере. Перемена религии практикуется здесь редко, так как его величество расценивает это как отступничество. Покажите письмо вашему падре, он убедится в моём благонравии – союз мой с Марией теперь освящён».
Получат благословенье, приедут...
Посажёным отцом был царь. Преподнёс редкий фрукт – ананас, выращенный в оранжерее, и портрет свой в серебряной рамке.
– Похож я? – спрашивал всех и отвечал себе громогласно, заглушая голоса: – Похож, похож... Наш искусник, наш, российский.
Лик царя выхвачен светом из полумрака. Так он смотрит на солдата, на мастера – с улыбкой доброй, чуть ироничной, снисходя к человеческим слабостям. Глаза испытующие, слегка косят на что-то, вдруг замеченное. Миг один – и сменится царская милость на гнев.
– Писал меня Натье в Париже... Не я – француз припомаженный, и в доспехах. Голландец писал...
У тех – самодержец в застылом самодовольстве, у русского – запечатлён на ходу, в поспешании. Этикет по боку – повседневный кафтан, цвет зелёный, Преображенский, позумент по краю ворота, никаких регалий. Тем разительнее похожесть, глубокая, душевная. Доменико хвалит с чувством – одарён богато этот Иван Никитин[125]125
Никитин Иван Максимович (ок. 1688—1741) – русский живописец, один из создателей русского реалистического портрета.
[Закрыть]. Слышно, учится с братом во Флоренции. Не заучился бы...
– Постаралась ихняя матка, – возглашал Пётр. – Оба живописцы. А ты, красавица, – и он налил вина Марии, – что же? Кого нам родишь?
Адмирал Крюйс, шамкая беззубым ртом, потребовал моряка. Ульян Синявин сказал, что на Выборгской стороне есть старуха – пощупает беременным живот и определит, мальчик будет или девочка.
– То безделица, – отозвался царь. – Заложить бы в чрево моряка, к примеру, или художника. Декохт бы такой дать бабе... Вот славно!
Посмеялись.
– Малер есть у герр Трезини, – выговорил Браунштейн на своём русско-немецком.
По стене развешаны произведения девятилетнего Пьетро – отец с матерью, порхающие над ними ангелы длиннокрылые, вроде стрекоз, буйный фейерверк, штрихами красными и синими, снопами звёзд.
Не хватает, очень не хватает Земцова. Старший гезель в Москве: послан на год – ведать каменным строением и починками в Кремле и Китай-городе. Оперился уже, звания архитектора не имеет, но достоин вполне. Пустота после него – на семейном торжестве и в работах.
Целый месяц после свадьбы пахло пирогами – потчевали визитёров. Мария дичиться перестала, с гостями расторопна, выучилась манерам. Танцует с мужем, открыв ящик с заводной шарманкой. Пора вести подполковницу в свет. Собрались на ассамблею, Мария давилась от смеха, взбивая причёску по моде – каланчой, втискивая себя в новое, немыслимо дорогое платье в обтяжку, не продохнёшь. И вдруг посуровела, сорвала с себя всё.
– Не пойду.
Растревожила мужа: что за причина? Неможется?
– Нет, – шепнула поникнув. – Отца вспомнила.
Доменико убеждал, упрашивал. Рад был бы Порфирий, того желал, для того и отдал дочь, чтобы высвободилась из подлого сословия. Что придумала?
– Ему печаль, – сказала она, словно о живом. – Я там алле-турне, а он...
В застенке, под кнутом, – это привиделось ей? Всегда намёками, туго впускает в сокровенное, не умеет выразить...
– Не пойду, нечего мне там...
Он нежно обнял её, снял губами слезу. Больше на настаивал.
* * *
Худо без Земцова. Зодчих прибыло, но кто заменит его – родного человека? Ученики подрастают – и до свиданья, отбывают в Италию, в Голландию для продолжения курса. Нанятые за границей – без малого все за городом, на постройках парадных. Приходят за советом. Сегодня Микетти. Забежит на минуту – займёт вечер.
– Разрывается сердце, маэстро! Тяжких мук стоило мне... Наглость моя превосходит всякие границы.
Верно, в пути готовил вступление.
– Ваше пастырское участие...
Сложил ладони, будто послушник перед епископом. Хрупкий, тщедушный римлянин – зябко ему и странно. С прошлой осени на царской службе, от изумленья не оправился – доверие выпало нежданное. Кем он был в папской столице? Ремонт богадельни, мелкие переделки в часовнях, в аббатствах... Участвовал в конкурсе на фонтан Треви, способ подачи воды из норовистого ручья нашли удачным. Агенту Кологривову понравились рисунки подмастерья. Экзамен на мастера – в Ревеле. И какой! Дворец для императрицы...
Талантлив Микетти... Доказал первыми же набросками, и Доменико, противясь внутренне, одобрил их – несомненно, будут угодны. А бедняга так боялся... У царя был свой замысел, сходный с петергофским; Микетти позволил себе вольности и чуть не упал в обморок, докладывая его величеству. Государь утвердил, и с тех пор маэстро Трезини – благодетель и мудрый провидец.








