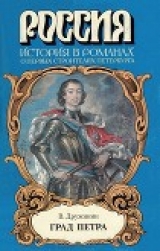
Текст книги "Град Петра"
Автор книги: Владимир Дружинин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 33 страниц)
Заступиться всё же попробовал.
– Он обязан был знать местность, – сказал генерал-архитектор. – Просто же, как бонжур.
Не просто, однако. Чтобы исследовать почву, нужны люди, инструменты. Того и другого недостаток.
– Надо требовать! – негодовал Леблон.
«Догадывается ли он, сколько требований ухнуло в колодец, как говорят в наших краях? Такая же судьба постигла многие приказы губернатора и даже царя – иначе Петербург был бы сегодня почти весь каменный и замощённый. Конечно, Леблон не прогонит немца, но заставит попотеть».
– Кто он, этот Браунштейн? – шумел Леблон. – Откуда взялся?
Скрыть Доменико не мог.
– Чертёжник, приехал с Шлютером.
– Горе! Кругом дилетанты...
«Генерал-архитектор бранится как извозчик, когда канцелярия чего-нибудь недодаёт ему. В Версале поставляли быстрее. Летит жаловаться к губернатору. Хвастался мне – сам нашёл где-то груду кирпича, заросшую травой. Вообразил, что сумеет вмиг навести порядок.
Весьма невоздержан на язык, и многие на него обижены».
Лихорадку внёс француз. Потомок ощутит её в заметках Доменико, хотя тот силился наблюдать события спокойно:
«Леблон вольно обращается с проектами его величества, уверяя, будто действует от его имени. Мог ли царь довериться до такой степени? Загородные дворцы Леблону не нравятся. У него свои проекты. Он пишет царю, но почта за границу тащится бесконечно, и генерал-архитектор бесится, начинает добавлять и переделывать на свой риск. Он показал мне свою промеморию относительно Петергофа».
Дворец тамошний – двухэтажное здание на выступе берега, с тремя ризалитами, сходное с резиденцией зимней в городе. Браунштейн идеями небогат, зато начертанное его величеством осуществляет скрупулёзно.
Письмо, которое читал Доменико, гласит:
«Палаты Петергофа зело малы для съезда двора, если его величество изволит препроводить там несколькие дни. Также нет там заднего двора для экипажей, и того ради мнится мне, что весьма надлежит сделать ещё двои палат и два двора задние: один для придворных его величества и экипажей, другой для приезжающих».
Мало пристроить флигели – следует поднять центральную часть. В ней зал – он будет двусветным. Лестница, ведущая в зал, узка, неказиста, балкон тесен, «с трудом можно стоять двум персонам». Через месяц царю будет послан подробный план – «для достижения полного совершенства».
Осмотрев каскады, Леблон нашёл, что они непрочны и проигрывают из-за отсутствия водомётов. Предложил ещё один водный поток. Грот, врезанный в откос под дворцом, необлицован.
В Стрельне ещё и фундамент не положен – только деревья сажают. Растрелли готовит модель, которую Леблон забраковал наперёд. О своём проекте царю сообщает:
«Сей чертёж будет иметь некоторую рознь с тем, как в Пирмонте объявил, понеже положение места к некоторым переменам меня принуждает».
Доменико помогает генерал-архитектору выбирать подобающие выражения. Многословные политесы отвергает.
– Царю всегда некогда, мосье. Берите быка за рога, с первой же строки.
Версалец умеет не только распоряжаться, но и слушать советы. Доменико польщён: он вызвал симпатию знаменитого мастера. Разговаривают по-свойски, без чинов.
– Не стесняйтесь докладывать царю. Губернатор ничего серьёзного не решит.
– О, хотите анекдот? Про Бонтана... Старший комнатный дворянин короля... На всё один ответ. Который час? Спрошу его величества. Накажи меня бог, не выдумано! Однако неужели принц всегда был осторожен?
– Не всегда.
– Так я и думал. Ведь царь ценит людей, имеющих своё мнение. Редкое качество правителя. Фавориты Людовика, по крайней мере в последние его десятилетия, вопиющая посредственность. Жаль, если к этому идёт и у вас. Когда карьера делается лестью, немым послушанием, государство дряхлеет.
Доменико помолчал. Что сказать о Меншикове? Сердечности не возникало между ними. Почему? Разница в чинах или что-то ещё?
– Странно, я ведь плохо знаю князя, – протянул зодчий стыдливо.
– Вы? – Леблон подавился смехом. – Ах да, вы витаете над нами, крылатый небожитель!
А в памяти зодчего мелькало: Меншиков у Котлина, на льду, когда опускали ряжи Кроншлота, Меншиков на взмыленной лошади, когда наступал Крониорт...
– Мне кажется, с тех пор как он сел в кресло... Седло ему полезнее.
Леблон опять прыснул.
– Манера выражаться у вас очаровательная. Друг мой, он не упускает пользы. Её высчитали, мон шер! Пользы на миллионы, У Долгоруких мне сказали по секрету...
Он вращается в петербургском свете. Сыплет разными потешными историями, ловко танцует, хотя далеко не молод, прививает среди знати моду на бильярд. Красивая, похожая на цыганку жена генерал-архитектора затевает развлечения на открытом воздухе. В саду, при доме именитого, взлетает утыканная перьями пробка. Слова «ракетка», «волан» не сходят с дамских уст, как и другие, из лексикона швейного. Жан Батист судит наряды мужские, Мария Маргарита – женские. Доменико ни в коей мере не завидует этому успеху.
– Я не считал его денег. Слухи разноречивы... Истину от клеветы отделить трудно, у него, наверно, есть враги.
– Ещё бы! А вы сомневаетесь, святой Доменико? Я пытаюсь определить, в какой точке параболы находится наш Кошимен. Сановник достигает зенита, затем падение... По-моему, зенит уже позади. Раскрылись аферы сногсшибательные. Долгорукий взял с меня клятву не болтать, а то бы... Ну, вам неинтересно, витайте над нами, витайте! Да, зенит позади. Я носом чую...
Так вот что придаёт ему отваги... Но князь покамест не сброшен с губернаторского кресла. Послания царю проходят через Меншикова. Доменико деликатно напомнил.
– Прекрасно, – и Леблон хлопнул себя по коленам.
У него нет секретов. Правду он будет говорить громко – царь хочет этого.
«Генерал-архитектор полагает, – написал Доменико, – что эпоха могущества князя на исходе. Царь вернётся из-за границы и нанесёт ему последний удар. Я не столь осведомлён, куда уж нам с Машей в высшее общество! Боюсь, не вступил бы парижанин в интриги – роль не для художника. Нет, он весь захвачен кипучей своей службой. Грозит перестроить Петербург, но как – пока неизвестно. От любопытных он отделывается шутками. Даже мне ответил невнятно».
* * *
Леблон бывает в доме у зодчего. Марию крайне потешает, целуя ей руку.
К ученикам Доменико версалец внимателен, рисует им новые французские отели, развивает свой принцип: прочность, удобство, красота. Расспрашивал Земцова.
– Молодой мосье окончил гимназию? В Москве?
Там читали философию, что совсем невероятно. Вмиг из запасов француза – анекдот про Декарта.
– Мудрец изобрёл куклу, совсем как живую. Возил с собой в багаже, в ящике... Она вопила, колотилась, капитан корабля взломал ящик, ужаснулся и выкинул её за борт. Исчадие ада... Таковы невежды, мосье!
Доменико часто сопровождает начальника. Швейцарца уважают, он поддержит в спорах с мастерами, с подрядчиками и переведёт лучше, чем погруженный в Телемака, опьянённый изящным слогом романа Ершов.
– Я для здешних бедствие, Тамерлан, – смеётся Леблон. – Разве не так, мон шер? Объясните им, что я исполняю волю царя. Что я видел его... Вам поверят.
В Петергофе француз охрип, командуя. Работные роют канаву, чтобы убрать воду, затопившую подвалы, слить в море. Трещины в стенах скрепляют железными тяжами.
Браунштейн наступает Леблону на пятки, ловит на лету приказания. Взглядом выпрашивает хоть какой-нибудь знак снисхождения, сочувствия. Но тщетно... Сердце Доменико болит за немца. Версалец похаживает, постукивает тростью с миной трагической.
Ступени каскадов не везде прочны. Трость Леблона свирепо вонзается в прорехи. Кроме того, слишком всё монотонно. Струи должны играть, резвиться. Нужны водометы. Ковш, принимающий оба каскада, должен быть не прямоугольным, а круглым – в гармонии с антуражем. Следует, пожалуй, добавить один каскад. Да, определённо следует... А почему остановилась отделка грота? Браунштейн доложил, бледнея, что нет материала. Заказан в Германии.
– Что? – взорвался Леблон. – В России нет ракушек, нет цветных камешков? Вы с ума сошли! Ищите здесь же! Немедленно!
Готов во всём обвинить несчастного. Виноватых много. Доменико начал объяснять.
– Вы ангел, мон шер! – оборвал Жан Батист. – Тут авгиевы конюшни. Я вычищу – боги свидетели!
Он взмахнул тростью, обвёл нижний парк. Насаждения ещё не разрослись, ветер сдувает жёлтую листву, и статуи откровенно наги.
– Пора подумать о живописи, – и Леблон обернулся к дворцу. – Плафоны, плафоны... К моему прискорбию, у Пирмонте мы коснулись этого предмета лишь вскользь. Деяния Людовика отражены в Версале на двадцати семи полотнах. Король на закладке крепости, король на позициях... Возможно, и царь пожелает иметь галерею славы. Кликнем моего Каравака, он справится не хуже Лебрена.
– Двадцать семь картин, – улыбнулся Доменико. – Пожалуй, чрезмерно. Царь не против кисти, но... Он предпочитает манеру аллегорическую.
– Это благородно. Людовик был тщеславен безумно. «Чужая слава сокращает мою собственную». Я не вру, подлинное его изречение.
– Царь мыслит иначе.
Прежде всех других богов водружены над каскадом Нептун и Амфитрита – морские владыки, вступившие в союз с Петром. Представляют здесь мощь российского флота. На стенке каскада рельефом – подвиги Персея. Побеждает морского змея, то есть Швецию, освобождает Андромеду – понимай, Интрига. В образе витязя Пётр в слитности с отечеством.
Наглец Фаэтон влез в колесницу Гелиоса – солнечного бога, осмелился управлять ею и, опалённый жаром, упал в реку Эридан и погиб. Скульптура – в память о Полтаве. «Вся неприятельская армия Фаэтонов конец восприяла», – сказал царь о великой виктории.
Уже более двадцати изваяний расставлено в «нижнем огороде» – по выбору Петра, в назидание посетителю.
Красота и поучение...
* * *
Конники генерала Вейде рыскали попусту. Веселовский молчал долго. Лишь в январе подал весть: обнаружен-де след Алексея во Франкфурте-на-Одере, ведёт к Вене.
Так и есть, сбежал... Беда тяжелейшая, преступление в России небывалое, позор на царский дом.
Худо начался 1717 год.
Броситься сей же миг из Амстердама, собственными руками схватить сына-изменника... Ненавистна комната, выходящая окнами на тихий, припорошённый снегом канал, душат стены, пропитанное потом одеяло. Арескин говорит – ажитация нервов опасная. Отмеривает успокоительное. Екатерина в сотый раз повторяет:
– Гнев есть начало безумия.
Императору вручён запрос: не имеет ли сведений об Алексее, скрывшемся неизвестно куда? Ответ недоумённый – мол, ведать не ведаем. Чего хочет Карл Шестой? Силой, что ли, отбивать Алёшку?
По каналу медленно проплывают суда, колют тонкий ледок, звенящий стеклянно. Время будто застыло. Мнится – в окнах решётки тюремные, на ногах цепи. Проклятое, отвратительное бессилие...
– Мямлит Веселовский. Твёрдо надо с цесарем... Ох, слуги мои! Без меня ровно младенцы.
Отвлекают обычно, проливают бальзам письма из Петербурга. Ныне там не всё ладно. Великие ссоры были... Алексашка будто бы примирил Леблона с итальянцем. Врёт небось... Художники – народ обидчивый.
– А француз бравый, Катеринушка. Хает наше строение, так ведь дельно хает.
Губернатору, чувствуется, неудобен. Во все щели нос тычет. Свои пять тысяч отрабатывает. Советы губернатору, претензии... Так и надо! Судит неряшество наше.
– У Алексашки морда кислая. Отсюда вижу... Боюсь, не съели бы там моего француза.
Доклады генерал-архитектора Меншиков препровождает в Амстердам – иногда с причитаниями. Мол, рад бы удовлетворить, да нету того-сего, не достать, не обвыкли делать. А, впрочем, царскому величеству виднее. На его усмотрение...
Но в родном парадизе нет мелочей, всё важно. Прав Леблон – древесины губят прорву. Топорами вытёсывают из бревна две доски, только две. Если диаметр его восемнадцать дюймов... Генерал-архитектор не погнушался сосчитать: половина добра – в стружку. Бесспорно, без пил не обойтись. Надобно закупать у немцев. И ставить пильные мельницы на сплавных реках, как предлагает француз. Чтобы те дерева по Неве не гнать, не мочить излишне.
Запахом русской сосны веет от строк Леблона. И вроде не лёд на канале голландском, топоры звенят в Петербурге.
Мастер-то – на все руки! Сумел поднять «Нарву» – корабль о пятидесяти четырёх пушках, затонувший у Котлина, на глубине восьми сажен. Каково!
Почитай, с каждой почтой вторгается совет Леблона, а то и чертёж. Засыпает прожектами. Одни – порождение ума трезвого, другие ошеломляют.
– Зачудил он, Катеринушка. Царём Мидасом надо стать...
Чародея того, превращавшего всё, к чему ни прикасался, в золото, Пётр поминает нередко. Один Петергоф, если послушать француза, миллионы съест.
Схема, данная Леблону в Пирмонте, сохранена – план симметричен, ось его пересекает центр дворца, из передних окон зала перспектива каскадов, канала, уходящего к заливу, из задних – верхний огород. Зал пускай будет выше, во всю высоту здания, в Европе небывалые! Но строить флигели, прокладывать новые аллеи мудреными лучами, водные кунштюки множить...
Нет, придётся обождать.
Миллионы подай и на Стрельну. Вон что пишет!
«Я рассуждал, что не всегда можно иметь гулянье в садах за ненастными днями и надобно сидеть в палатах и находить тамо увеселения».
Для того дворец сильно вытянут, начерчена оранжерея, где можно гулять зимой, а за ней зал комедий, зал музыкальный и ещё залы со всякими играми, комната для бильярда, библиотека и галерея, которую надо обставить разными куриозами, а в конце её церковь. Покои царя и царицы в среднем корпусе расширены, а в другом флигеле – двадцать восемь апартаментов для придворных. В каждом – спальня, два кабинета, лакейская.
«Чертёж сада походит на чертёж, что я имел честь поднести Вашему императорскому величеству в Пирмонте и который был угоден Вам».
Изобразил реку, запертую плотиной, четыре пруда, потоки от них в «замок воды», а оттуда на каскады. В сём замке, сочинённом весьма искусно, зал египетский – в нём боги той древней земли, окружённые пляской вод. Каскады же завершает ротонда храма, и там, окружённая золочёными колоннами, мраморная дева – Россия в царских одеждах. На куполе – трубящая Слава, а по сторонам сего языческого храма, в парке, – мраморные символы российских морей и рек.
В Пирмонте виделось так – Леблон прав. Оба воспарили в мечтаниях. Однако не разорять же казну ради престижа.
С той же почтой – цидула Меншикова. Ноет губернатор, жалуется на француза. «Намерен окошки и двери переломать». Что ж, в некоторых случаях следует. В резоны архитектурные не вступает. Одна погудка у него – затянет Леблон работы, переделками своими «учинит остановку в окончании строений». Боится Алексашка.
Робок сделался, сучий сын, в последние годы. Ему лишь бы избежать монаршего гнева.
Петергоф велено было окончить в будущем году. Но царь не настаивает на сроках, в ответах его – суть дела и забота об экономии средств.
«И понеже по Леблоновым чертежам во всех палатных строениях, а особливо в петербургских домах окна зело велики, а шпанцы меж ними малы, чего для ему объявите, чтоб в жилых палатах конечно окна менши делал, а в залах как хочет, понеже у нас не французский климат».
Нижние окна здании француз хочет прорезать арочно. округлить – Петру это не нравится. Делать как наверху, прямоугольные.
В Петергофе «воду проводить и плотину делать по Леблонову проекту». «Малый грот, перед ним прудки и около решётки делать по старому проекту, который я дал Браунштейну». «В Монплезире дороги, фонтаны в лесу без меня не делать».
Говорит главный зодчий Петербурга.
* * *
Данилыч проснулся с криком. В колодец столкнули его, и он падает, падает в чёрную пучину...
Дарья поднесла к губам снадобье от нервов, назначенное доктором. Выпил, а что толку? Кошмары чуть не каждую ночь. Встанешь – слабость в ногах и головокружение. В груди ровно кто шилом колет. Медицина тут бессильна. Обступили напасти, и конца им нет. Скорей бы царь приехал: семь бед – один ответ.
Алексей, слышно, переведён из Вены в замок Эренберг, содержится под крепким караулом. Данилыч шарил по карте – в складках Тирольских гор нашёл сие потайное место. Что же будет? Чего ждать от цесаря? О новой войне помыслить страшно, однако нет-нет да и потянет из Петербурга: снова на коня, под знамёна.
Тяжёлое бремя – Петербург. Есть у Данилыча заветная думка – о Курляндии. Сместить бы герцогиню Анну... От царя зависит. А губернаторство – велика ли в нём радость? Сколько в России губерний, столько и губернаторов, и звание это, с тех пор как учреждён правительствующий сенат, весьма умалилось. И если царь отнимет милость...
Уже третий год Данилыч под следствием. Считает его доходы лютый враг Васька Долгорукий, и счёт растёт. До алтына, до денежки подбивает, аспид, суммы, взятые из казны, и дознается, на что истрачено. И не дай бог, обнаружатся ещё подкупы на Украине, угодья, прирезанные межевщиками к бывшим владениям Мазепы, кои отданы государем ему, Меншикову! Васька, наглец, спрашивает: нешто мало тебе, князь, прибылей законных? С винокурен, с хрустального завода, с соляного прииска у Тотьмы, с рыбных промыслов на Волге и на Белом море... Всё ведь углядел, сыч глазастым... На закон напирает... Голицын, Толстые, Долгорукие – спесь боярская – давно зубы точат.
Опасается Данилыч и других соперников, худородных, но ещё более расторопных. Вошёл в фавор Ягужинский[109]109
Ягужинский Павел Иванович (1683—1736) – граф, русский государственный деятель и дипломат; с 1722 г. генерал прокурор, с 1726 г. посол в Польше, с 1735 г. кабинет-министр.
[Закрыть], сын литовского церковного органиста. Постоянно при царской особе кабинет-секретарь Макаров[110]110
Макаров Алексей Васильевич (1672—1740) – кабинет-секретарь Петра I, составитель «Гистории Свейской войны».
[Закрыть], из писцов вологодских или дьячков; вьётся вокруг его величества Девьер и обласкан до того, что возмечтал породниться с фамилией Меншиковых. А рода он иудейского. Нет, светлейший постарается уберечь свою сестру от такого брака.
Всё в руках царских. Коли сменит милость на гнев, то ни в чём не оправдаться – приплетёт и Алексея. Скажет, плохо смотрел. А Петербург – каков он покажется после заграницы? Хоть бы городовое-то дело представить в аккурате!
Тут ещё Леблон...
Полчаса читал секретарь вслух, спотыкаясь в мудрёных словесах, «Общие замечания о нерегулярном и худом сочинении, которое практикуется в строениях, повседневно производимых в Петербурге». Угостил француз... Придрался к тому бревну возле церкви, из которого плотники тесали доски, и ровно вожжа под хвост – крушит с тех пор русское неряшество неугомонно. Насчёт досок – справедливо, зря древесина уходит. Не ракушки для гротов – пилы нужно покупать у немцев.
Прореха за прорехой, по пунктам... Дырявый, шаткий парадиз выставлен перед государем. Итог плачевный – неучи мы, ни сноровки у нас, ни порядка. Ужаснётся Пётр Алексеич. Неизбежно падёт вина на губернатора – не за то, так за другое.
Из недр бездонной своей памяти Данилыч извлекает любой из пунктов жестокого перечня, любую жалобу генерал-архитектора.
«...Ежели требую чертежи, мне не дают и говорят, что нет готовых, хотя это неправда, а ежели прикажу что делать – не делают, если я спрашиваю объяснений о деле, которое я не могу знать, будучи новым человеком в этой стране, – мне отказывают».
Переругался он с зодчими – потому и отказывают. Вон даже Пино, гезель его и подмастерье, челом бьёт: невмоготу, вишь, выносить насмешки Леблона. А в канцелярии чертёж, поди, затерялся. Скоро да споро, как вы привыкли во Франции, у нас не получается, господин генерал-архитектор!
Ох, голова трещит от него!
Со всякой мелочью – к губернатору... Во Франции, вишь, подобает ныне отделывать палаты дубом. Изволь раздобыть! В Адмиралтействе лежат обрезки, для кораблей негодные, Леблон стучится туда, а моряки глухи. Губернатор и рад бы приказать, да не имеет права.
Отпихнёшь француза – царь спросит... Данилыч между двух огней. Отослав письмо государю, он долго повторяет сказанное в уме, – не наглупил ли?
«Леблон присылкою чертежей умедлил...»
Не успевает он, сам признает, что забот у него – свыше сил человеческих, хотя использует без остатка дни и ночи. А царь торопит, и Данилыч кидается в Петергоф, в Стрельну, корит генерал-архитектора за упущения подчас злорадно.
«О Леблоне, как наперёд сего упоминал, и так и ныне подтверждаю, что бог весть какой от него будет плод, ибо более всё завтраками кормит...»
Заявил, боронясь заранее от упрёков царя. Потом раскаивался. Слишком резко, пожалуй.
«...Правда, что человек искусной и умной, и я истинно немало с воли его не сымаю, но вовсе ему волю даю».
Приходят ответы царя. Из того, что предлагает француз, одобрено не всё. Однако по письмам одно впечатление, а как вернётся к натуре, взглянет иначе. Многое велит отложить до своего прибытия. Поэтому Данилыч остерегается высказать собственное мнение. Готовится к встрече с его величеством, как с суровому экзамену, чаще проверяет генерал-архитектора, диктует ему послания – пространные, въедливые, страниц по десять, по двадцать.
Не хватает Леблону материалов, людей? Виноват сам, понеже поздно сказал, сколько потребно и к какому сроку. Сам должен следить, чтобы мастеровые не гуляли. Канал в Петергофе не завершён, а ведь работные туда были наряжены, а также копры привезены с Котлина.
«Полагаемся на ваше искусное и тщательное радение, что к его царского величества в щастливом приезде исправлено будет».
Чертежи и рисунки француза Данилыч листает мельком – царю мнение губернатора ни к чему. Вчера засургучен генеральный план Петербурга, сегодня он на пути в Амстердам. Запомнилось – овал укреплений, шахматная клетка кварталов, лучи каналов и першпектив.
Всё в царской воле.
За обедом светлейший изрядно выпил. Освежился бы в саду, но дул северный ветер. И без того поясницу ломит. Накинув тёплый халат, побрёл в тихую прохладу парадного зала.
Слепящий свет лился в окна. Весенняя Нева пенилась под солнцем, золотые волны играли на потолке, ещё белом, ещё нетронутом кистью живописца. Пятна кирпичной пыли и штукатурки испестрили наборный пол и полотно, укутавшее бюст светлейшего, – творение Растрелли. Переделки и здесь, по идее неугомонного Леблона, по новейшей французской моде.
Шеренга зеркал протянется по стене, что против окон, дабы множить сияние солнца, посещающего залу, либо огни свечей. Три зеркала уже вставлены. Убранство дополнят портреты, гербы, портьеры и беспременно шведские знамёна, трофеи славных баталий.
Данилыч шагнул к зеркалу. Он увидел лицо постаревшее, помятое, беспокойное. Во что превратился фельдмаршал, герой Калиша, воспетый пиитами? Тогда он имел своё слово, командирское слово, решал, ни на кого не оглядываясь. А теперь вертится мелким бесом: того бы не рассердить, этого не обидеть...
Приблизился фельдмаршал и, загораясь злостью, дыша в стекло перегаром, ударил кулаком в противную, затуманившуюся рожу губернатора.
Посыпались осколки.
* * *
Скользят по каналу суда, шествуют через царский кабинет смутные тени голландских мачт, флагов. Влезть бы на борт купецкого парусника – и домой. Узреть воочию затеи Леблона, рассудить его с Алексашкой...
Нет, не время.
Петербург – задача вторая, первая же – достижение мира. А посему иной вояж предстоит – в Париж.
По старым договорам, Франция – алеат Швеции. Правда, оружия не обнажила, но снабжает ежегодно деньгами. Настал момент вмешаться, убедить регента – Филиппа Орлеанского, что бессмысленны эти траты. Профита[111]111
Профит – прибыль, барыш, выгода (фр.).
[Закрыть] больше от дружбы с Россией.
Куракин не напрасно потчевал в Гааге французского посла – добыл-таки приглашение, вопреки проискам англичан. Жаль только, ехать одному, без супруги. Не хочет Катерина терпеть косые взгляды тамошнего двора – из европских самого надменного. Бывшая метресса, из простых, родившая до брака... Куракин советует не настаивать – ради чаемой для отечества выгоды. Иначе плевать бы на их этикеты...
Об изменнике думать поменьше...
Запрятать горе поглубже, дабы явно было всем – крепок русский монарх, не опасен ему беглец, схоронившийся в Австрии. Цесарь признал наконец: приютил принца, не мог отказать ему в гостеприимстве. Куда как учтив... Бережёт русского наследника отечески, дабы не впал во вражеские руки.
Не наследник он. И не сын вовсе. Дезертир по имени Алексей. Подлежит суду и должен быть выдан. А цесарь мёд источает. Заключил гостя в объятия, о выдаче – ни гугу.
Вытащим паршивца...
А пока – готовиться в путь. Макаров принёс из походной канцелярии чертежи и карты. Надо показать французам Россию и особо – столицу.
Что писали о Петербурге немцы в прежние годы, что снято было на план, то устарело. Растёт Петербург яко Геракл, который, ещё будучи в колыбели, задушил ядовитую змею. Убедитесь наглядно, регент и присные, – утвердились мы на берегах Невы, на исконной нашей земле прочно.
Взять с собой листы Алексея Зубова[112]112
Зубов Алексей Фёдорович (1682 – после 1744) – русский гравёр, мастер документального горного пейзажа и батального жанра; главное произведение – большая панорама Петербурга (1716).
[Закрыть]. Сей искусник ничуть не уступает иностранным, режет ли он на меди корабли в море, битву у мыса Гангут или панораму петербургских набережных. Галеру изобразил посередине Невы – до того точно, моряк не придерётся. К шпилям города мачты военных судов зело под стать – в единый строй вступают и защиту столицы знаменуют.
Марта 24 числа с Амстердамом простились. Мир сему дому, приятной сей Голландии! Двигаться надлежит с остановками, не пропуская ничего примечательного, да и погода не даёт поспешать – пало затишье, паруса яхты рнеят тряпицами. Не дошли до Антверпена, как нагнала питерская почта.
Толстый пакет от Леблона, обещанный генеральный план, – очень кстати. К нему приписка: за скорым отъездом курьера не успел он, генерал-архитектор, нанести существующий вид Санкт-Петербурга, повторил фиксацию, полученную от господина Трезини, и чертил на ней.
План покрыл пол каюты и кровать. Пётр снял башмаки, прошёл в носках по идеальному городу, потом суетился на колени, ибо не поверил глазам.
Странная открылась столица...
Кликнул Екатерину, ближних людей. Босые ноги царицы, огромные, застыли на синеве взморья – государь приказал не двигаться. Больше никого не впустил – Макаров, Шафиров, Куракин заглядывали в дверь попеременно, дивились на Леблонов Петербург, куда зовёт их жить знаменитый версальский мастер, любимец сами о Людовика. Притащился, охая, и толстый поп-духовник, с похмелья осоловелый.
Первое, что поражало, – это пояс укреплений, охвативший город, – толстое, ребристое ожерелье, выкрашенное в жёлтый цвет, и голубая каёмка крепостного рва. Кое-где он разветвляется – прожилками меж каменных хребтов. Цитадель Петра и Павла, впаянная в толщу сей исполинской защиты, обнаружилась не вдруг. Была в середине, а здесь на отшибе. В пределах города – край Выборгской стороны, острова Адмиралтейский, Городовой, Аптекарский и Васильевский.
– Город Солнца, – просипел с усмешкой Куракин, вечно простуженный.
Муж начитанный, он знаком с сочинением Кампанеллы. Утопический град сего блаженного итальянца заключён в кольцо бастионов и куртин. Явно и Леблон, прожектируя, имел в мечтах круг – вселенский, полный таинственного смысла зодиакальный круг, но Петербург противился – форма получилась несколько овальной.
«Шлюзы», – начертано рукой Леблона. Шлюзы на Неве? Безумие! Миллион просадить надо – а пользы что? Впереди сей перемычки – «батареи», орудия на трёх поплавках. Пётр тыкал тростью, изумлялся.
– Нагородил француз. Меня на задворки выставил, а? Ну, разбойник!
Летний дом царя – за стенами города. Так же и храм Александра Невского. Невозмутимый Макаров щурился, поводил приплюснутым носом, будто принюхивался. Шафиров шумно возмущался. Куракин, дипломат бывалый, вставил:
– Леблон на свой аршин меряет. На парижский.
Резиденцию в Летнем саду считает охотничьим замком – не более того. Зато предлагает самодержцу обитать и править государством в центре столицы. Обширная прямоугольная площадь распахнута в глубине Васильевского, на ней – громадный чертог его величества, перед окнами бассейн, цветники, монумент.
Отсюда, яко лучи от солнца, идут каналы – першпективы. Манера французская, каковой и аллеи парков подчиняются, – монарх смотрит во все стороны, а подданные, где бы ни находились, обращают взоры к королю и благоговеют. Четыре главных луча Леблон завершает у церквей. И есть ещё площади. Близ моря – «место вооружительное», достаточное для смотра войску, там «большая башня», видимо служащая маяком, «столб триумфальный» и «штатуя его величества пешая из металла». Конную версалец поместил на Городовом острове. Почести эти привели Петра в смущение, а затем лицо его стало серьёзным. Макаров читал вслух объяснение, приложенное к плану, избавлял от необходимости нагибаться, разбирать пометки.
Площадь возле Невы, левее усадьбы Меншикова, – место учительное, здесь «Академия для всяких кунштов и ремёсел». В каждом квартале – школа. Отведены пространства для гуляния, для игр и упражнений, дабы удержать молодых людей от непотребства.
Кварталов на одном Васильевском восемь, каналами обведены, каналами разрезаны. Сетка, что на плане Трезини, перекрыта – не различить. Воды-то в городе! Куда Амстердаму, куда Венеции! Расстарался искусник – воды, почитай, не меньше чем суши. Однако и колодцы рыть указывает: сколько жилищ в городе – столько и колодцев. Ставит по улицам фонари. Ремесленникам, кои великий стук производят, улицы особые. Рынки – около пристаней. Бойни за стенами города, а также свалки, огороды, выпасы скота. Слов нет – регулярность без изъяна, рачительная. Но вот курьёз – подлый народ из города выселен. Как разуметь? Куракин полистал текст французский.
– Леблон пишет: каналья... Сиречь низшее обывательство – голь перекатная. Кто на грязной работе, кто вразнос торгует, от хозяина. Странники, нищие...
Царь расхохотался.
– Стало быть, и меня причислил. И меня – вон, за ворота! Экое горе-злосчастье...
Потом удалил всех и долгое время над градом регулярным, идеальным размышлял.
Вскоре Меншикову отписано:
«Велеть ныне строить домы по берегу против 1-го чертежа, который мы в бытность пашу в Петербурге подписали, только надобно оставлять места, где выводить в реку каналы против нынешнего Леблонова чертежа».
* * *
Только и всего? Данилыч уставился в бумагу, словно ждал, что из белой пустоты выступит что-то ещё.
Есть у француза разумное, есть и лишнее. Палаты посреди острова, может, и понравятся царю. Налюбуется в заграницах, как короли да герцоги живут...
Нелепость заведомая – цепь фортификаций. На что такой забор? На сто лет осады? В деле военном Данилыч чувствует себя на коне прочно. В один голос твердит вместе с царём – оборона сильнейшая есть грудь солдата. Крепость исход войны не определяет – от поражения не укроешься в ней, виктории не добудешь. Она в чистом поле достаётся – в честной баталии. Сие есть стратегия царя и его, полководца Меншикова, испытанная не раз.
Леблон не замедлил прибыть. Полезно бывает его, настырного, поквасить в передней – хоть полчасочка. Версалец, ёрзая на сиденье, мучился. Радостное возбуждение не остывало – только что был у посла Франции, господина де Лави. Показывал свой генеральный план.








