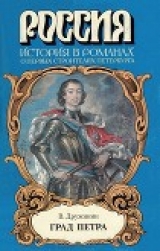
Текст книги "Град Петра"
Автор книги: Владимир Дружинин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)
– На войне как на войне, – сказал Леблон офицеру, глядевшему с немым участием.
Кроватей досталось не всем. Племянница Катрин и горничная устроились на узлах с одеждой. Оба лакея – на раскатанном ковре. На войне как на войне. Леблон не бывал под ружьём, но разве жизнь не была сражением? С превратностями судьбы, с интриганами, с надменностью вельмож и капризами короля...
Резчик Пино с подмастерьями, литейщик Соваж, машинист Суалем, краснодеревщик Мишель поселились внизу и в пристройке. Инструменты, краски, рулоны бумаги, холсты сложили в сарае. Леблон, встав утром рано, обошёл усадьбу. Сносно... Сарай годится под мастерскую – надо соорудить печь и получше заделать щели.
Знакомый офицер повёз Леблона к губернатору. Ненастье таяло, бледное солнце озарило реку, необычайно широкую. Кровавилась кирпичная кладка цитадели, незавершённого храма, в лесах окутанного плотно.
Спустились в лодку. Нева стала как будто ещё шире. Безразличная к солнцу, она катила свинцовые волны. От страха, от резких порывов ветра кинуло в дрожь. Леблон обернулся к офицеру, жестами изобразил наплавную переправу, вопросительно поднял брови. Тот покачал головой.
– Государь... Нихт...
Ткнул пальцем в сторону. Там ощетинилась, сушила два яруса вёсел галера. Ну, разумеется, первенство здесь принадлежит судоходству.
Покачиваясь, близился княжеский дворец. Колонны у входа – толстые обрубки... Карниз, конечно, нагрузят статуями. Извержение богатства...
Во дворце пахло казармой. Леблона ввели в кабинет. Портреты царя и царицы, неумелые, маленькая, робкая иконка в углу, блеск канделябров, стенных подсвечников с отражателями... Блестел и человек, шагнувший из-за стола, – орденами, позументом на зелёном жюстакоре.
Принц Кошимен...
Довольно высок ростом. Длинное большелобое лицо, глаза навыкате, смеющиеся. Жёсткие, колючие усы.
– Бонжур, мосье Леблон!
Протянул руку. Откуда-то выбежал щуплый юноша, почти мальчик. Застыл, раскрыв рот, приготовился переводить.
– Ну что, дорогой господин? Варвары мы, верно? Не стесняйтесь, ругайте!
Усмешка зыбкая – разгорается и меркнет.
– Варвар тот, мой принц, кто коснеет в невежестве. У вас происходит обратное.
Ответ понравился. В глазах – откровенная весёлость. «Это выражение, свойственное ему, – сказал себе Леблон, – он стал красивее». А вслух, полушутя, объявил:
– Но ругаться я буду.
– И покрепче, прошу вас! До Парижа нам ведь далековато, а?
– Париж вовсе не идеал города, мой принц.
– Что ж, да поможет нам Юпитер.
Губернатор ущипнул свой ус и засмеялся. Потом спросил, довольны ли приезжие жильём, угодно ли господину потерпеть. Дом ему сколотят, какой закажет.
Сегодня же пригонят выезд и гребное судно с парусом. Какие есть претензии? Секретарь запишет... Леблон отвечал, ободрённый лёгким, дружеским топом, и в то же время чувствовал – Меншиков пристально оглядывает его.
Мастер приоделся к аудиенции. Пёстрый камзол, а поверх – сюртук, последняя мода. Гладкий, пуговицы до конца подола, а не до уровня карманов.
– Дозвольте!
Принц ухватил борт, вывернул подбитое мехом сукно.
– Тёплое кстати...
Кто же он, Кошимен, о котором так занятно повествует книжка?
При дворе надо быть психологом, отличать искренность от фальши. Скверно, если предстоит лавировать между царём и фаворитом.
– Променад, мосье, – и принц раскинул руки. Словно по мановению волшебной палочки появился плащ – переводчик натянул его на повелителя и застегнул.
Сошли с заднего крыльца, под сень деревьев. Аллея упиралась в большое каменное строение – с декором попроще, чем у принца. Там маршалк его двора Соловьёв. Ближе креке – собственная церковь его сиятельства. Показывая свои владения, он горделиво откидывал голову, ждал похвалы.
– Недурно, – сказал Леблон сдержанно.
Церковь мазанковая, однозальная, обрамлена округлыми арками, чисто итальянскими. Уже ветшает... Секция прогнившей балюстрады лежит на земле, плотники вытёсывают свежую. Леблон остановился.
– Доски, мой принц? Топорами? Сколько щепы! Вот это, извините меня, варварство.
Проговорил резко, испытывал. Обидится вельможа... Нет, понурился, соболезнует. Может быть, мишура, деньги, титулы не погубили сподвижника царя.
– Россия слишком богата, – продолжал мастер, смягчившись. – Землёй, лесом, мехами, всякой натурой. Оттого и не умеет экономить. Необходимо научиться.
– Правда ваша, – отозвался губернатор. – Бон мельницы машут, – он указал на вздымавшиеся за садом лопасти. – Так пилы-то немецкие, дорогие...
Боль неподдельная была в этих словах.
* * *
– Все строения ругает, – продиктовал Данилыч секретарю и задумался.
Расстроится государь... Его там, в Дании, союзники огорчают – и вот пилюля из парадиза. Однако на то и наняли француза. Писал же из Пирмонта, что сей мастер прямая диковинка.
Замучил сегодня. Променад отмахали до пределов Петербурга. Сперва по Васильевскому, с набережной, колеся по ухабам и топям, выбрались на першпективу. Француз сверил просеку с чертежом, остался доволен. Вуй, вуй, резон, этак и надо проложить главный канал, его величество совершенно прав. Ещё бы не прав! А что построек нет – тем лучше, руки развязаны. Башня насмешила генерал-архитектора. Деревянная? Пусть постоит пока, будет каменная – маяк и вместе с тем монумент в конце першпективы, у моря, во славу его величества.
На той же линии, на середине острова, будет и главная площадь Петербурга. Леблон распалился, клохтал ликующе, нахваливая сию презнатную площадь и дворец государя – натурально, своё изделие. Соскакивал с экипажа, садился на пенёк, после дождя не обсохший, горячечно рисовал в тетради. Ох торопыга! С царём вроде пара... Глядя на мокрый зад француза, Данилыч вчуже ощутил холодок в той же части тела. Что ещё надумает мастер-диковинка? Ладно, першпективу одобрил. Привык губернатор, выходя на поперечную аллею сада своего, созерцать бастионы крепости, рдеющие за домишками стрелки, и растущую колокольню. А в другой стороне – маячная вышка. Хоромы царские заслонят её... Ну, не беда! Ещё неизвестно, захочет ли государь переехать из Летнего сада.
Вернулись к княжескому дворцу. Отсюда променад по воде. Пристали у Троицкой, Леблон сбежал на берег и носился, словно нахлёстанный. Облил презрением двухэтажные мазанки – Коллегии. Данилыч разъяснил: то верховные канцелярии, прожект господина Трезини, по рисунку его величества. Имеет их быть шесть, все в один посад, манером русским. Готовы военная коллегия, посольская, а первая слева – царская аудиенц-камора. В ней тронный зал.
– Трон? В мазанке? О боже!
Почти напротив – Сенат, тоже в мазанке. Француз не уставал возмущаться:
– Строите на слом. Нелепость!
Поморщился, увидев на набережной дом Шафирова[98]98
Шафиров Пётр Павлович (1669—1739) – государственный деятель, дипломат, сподвижник Петра I.
[Закрыть]. Видный дипломат России – и в деревянном... Данилыч показал штабели кирпича – министр-де богат, утрёт нос соседям. Но вряд ли перешибёт губернатора Сибири.
К нему светлейший ревнует. Гагарин пытается затмить его. Хоромина повыше шафировской, четыре этажа, зал двухсветный, по стенам лепные затеи.
Дальше вон – канцлер Головкин, Данилыч называл имена вельмож, построившихся на свой кошт и нрав, лицом к Неве, к Большой Невке. – Зотов, Бутурлин, Чернышёв[99]99
Бутурлин Иван Иванович (1661—1738) – участник азовских походов Петра I, сражений под Нарвой и других, генерал от инфантерии.
Чернышёв Пётр Григорьевич (1672—1745) – граф, военный деятель петровского времени, генерал-майор; проводил первую народную перепись.
[Закрыть]... Француз слушал фамилии, чины внимательно, помечал в тетрадке. Головкина понаслышке знал. Отель простоват, ни намёка на художество. «Ещё бы! – откликнулся князь мысленно. – Скупердяй же канцлер! Хорошего вина, бургонского али ренского, не выставит, удавится».
Переправились на другой берег. Вышли у амбара, где льют пушки. Смешно французу – шпиль над бревенчатым срубом. Много чести! Пошли вправо, к Летнему саду. Тут лишь один дом каменный – покойной царевны Натальи, при нём театр, богадельня и изба, куда тайком сдают младенцев, рождённых незаконно. Дом царицы Марфы… Пришлось растолковать – Марфа Матвеевна, вдова Фёдора Алексеевича, брата царя. Леблон аккуратно записал. Спросил, где отель наследника.
– Мазанка, – огорчил Данилыч.
– Вы представите меня его высочеству?
– Увы, невозможно, – ответил князь, встретив настойчивый взгляд француза. – Инфант болеет.
– Дома, – сказал француз, – однообразны. И чрезвычайно длинные. Что – тоже русская традиция?
Данилыч подтвердил:
– Позади каждого, как мосье, вероятно, заметил, конюшня, коровник, баня и прочие службы, кусты ягодные растут, овощи. Это ведь в немецких землях – должно, и во Франции – хозяйству тесно, жители жмутся друг к другу.
Леблон кивал, спешил в Летний сад. Данилыч вступил в ворота с содроганьем. И здесь примется разносить, егоза!
Француз застыл как вкопанный. В саду гуляли купчики в чёрных кафтанах.
– Его величество разрешает?
Уголок монарха, эрмитаж его. Место ли для простых горожан, для грубых буржуа? Зрелище после Версаля дикое. Купцы шли, громко беседуя, скрипя сапогами. На генерал-архитектора пахнуло дёгтем. Он озирался: где же резиденция славного монарха? Найдя её за оградой дерев, в углу сада, умилился:
– Эрмитаж, эрмитаж... Бесконечно трогательно... Строил голландец?
– Нет, господин Трезини.
– Вездесущий, – фыркнул Леблон.
Любопытствовал, почему нет тюльпанов. В голландском-то саду... Зато полно обыкновенной мяты. Данилыч ответил – его величество предпочитает цветы ароматные. С детства своего... Да, русская традиция.
В Голландии дом хозяина ютится в укрытии, в стороне от главной аллеи, – как здесь. В Версале, наоборот, дворец в центре, сияющий отовсюду, и дорожки от него яко солнечные лучи. Это различие Данилыч усвоил давно, а в последние дни, готовясь к приезду Леблона, в сих познаниях укрепился. Книгу Леблона штудировал. Сады – конёк его и, всеконечно, насаждать будет манеру французскую. Неужто же царь даст извести свой вертоград, любезный сердцу?
С усмешкой снисходительной взирал версалец на цветники, нарезанные квадратами, по-голландски, на статуи – пока ещё редкие, подивился фонтану, бившему высоко. Прошагали сад до конца, вышли к Зимнему царскому дворцу. Леблон оглядел, снисходительно бросил:
– Милая миниатюра.
Это – насчёт Зимнего. Похвалил наконец Екимыча. Но дворец – громко сказано. Царь отдаст одному из чиновников, когда переедет. Куда? В уме у Леблона резиденция куда презентабельнее.
Гребцы подогнали ладью. Подхваченная течением, ока промчала мимо луга, миновала Почтовый двор – большой двухэтажный куб. Леблон крякнул, досадливо узнав, что там гостиница, ресторация, приёмный зал для разных торжеств и каморы, куда нарочные из городов сдают корреспонденцию. Все вместе! Его величество постоянно соприкасается с простым людом. Курьёзно!
Далее рядок каменных господских здании и распахнутая ширь Адмиралтейства. Ладья повернула, понадобились вёсла. Укачало француза, скорее накормить…
Посадил за свой княжеский стол, угостил презнатно – авось подобреет гость!
Всё ругает француз, всё ругает... Завязла в мозгу Данилыча первая фраза донесения. Утомлённый променадом, бессилен её заглушить. Маячит в полыхании свечей усмешка француза, его кафтан, заляпанный болотной жижей. Не пожалел сюртука. Словно из траншемента вылез – и в атаку...
Бой разгорится неминуемо. Первый Растрелли зарычит. Бесится итальянец. Трудный был с ним разговор, не уступает он Стрельну, грозится уехать. Не чаял над собой начальника. Графа на цепь не посадишь.
Ох батюшка Пётр Алексеич, пошто покинул!
* * *
Порфирий собрался в Ярославль. Звал с собой дочь. Надо же пристроить девку... Но поди сладь с ней! Откликалась лениво, с травинкой в губах.
– Не надо мне...
Ох и злит же эта травинка! Как втемяшишь в башку, что в Питере свадьбу не играть. Поп ведь в книгу пишет. А допреж того проверка, кто они да откуда – жених с невестой. Пишет при поручителях... Нет уж, бочком да в сторону! В Ярославле вряд ли кто скажет, что невеста – дочь беглого, сестра дезертира, галерника. Купцы-покровители, дан бог им здоровья, любой рот замкнут – хоть посадскому, хоть подьячему...
– А мне-то что!
Тьфу, кобыла упрямая! Отец надрывается, недоест, недоспит – копит деньги на приданое, и вот вместо благодарности... Побил однажды – местью было молчание дочери. Наведывался по воскресеньям, с месяц улещал калачом и пряником. Зря, слова не вынал. А ведь ради неё же, дуры, отпросился сюда, ночует в шалашах – в Петергофе, в Стрельне, где камины наилучшие велено делать. И дрожит за шкуру свою – билет отпускной на чужое имя. Вдруг кто признает...
Мария, помытарив отца, заговорила. Порфирий воспрянул, начал про Ярославль, про женихов, коих уже присмотрел, – смирные, непьющие, а уж работники... В год не меньше пяти рублен им цена. И тут девка выпалила – замуж пойдёт за Екимыча, архитекта.
Порфирий понял по-своему. Захлебнулся воздухом, долго не мог отдышаться. Потом сжал кулаки.
– Повалил тебя?
Первая мысль – обманута девка. Человек он хороший, Екимыч, но ведь господин. Насулил невесть чего...
– Он по чести просит... Дитё без матки, цельный день не евши... Дитё ведь, не лопух.
– Няньки нет?
Осёкся, поймав себя на том, что мелет чепуху, сбитый с толку, а узнать надо другое. До няньки ли? Провались она!
– Есть... Старая...
– Так повалил, ай нет?
– Пойдём к нему! Пойдём, спросишь.
– Чего? – заорал Порфирий, снова ошарашенный. – Что болтаешь? Я те вот...
– Пойдём! Обручимся при тебе – хошь? Он просит тебя.
– Кто?
Андрей Екимыч, начальник? Пробилось в мозг не сразу. Забористо, длинно выругался, в смятении чувств. Захохотал. Ну, что брешет, чисто помешанная! Дочь следила за отцом из-под полуопущенных ресниц будто равнодушно. Поняла – родительское проклятие ей не грозит. Порфирий провёл ладонью по лбу.
– Постой!.. Постой!..
– Стою я, – бросила дерзко, осмелев совсем.
– Ну так на колени! Молись, чтоб по-твоему... Господи! Мать честная!
Сам сел на лавку, позабыл молиться. Да неужто правда... Лушка – госпожа... Екимыч в дом зовёт, не баловство, значит... Госпожа, госпожа... Чудо из чудес! Тут радость окатила Порфирия. Если так, – спасенье для девки, а может, и для него... Ну, уж её-то на допрос не потянут. Лупить да жечь не будут из-за дурного родства. Екимыч – начальник, самому государю друг.
Обрученье состоялось. Порфирий благословил, дал поцеловать свой нательный крест дочери и господину, хоть церкви и разные. Всё одно христиане. Господин архитект согласился, православного креста не отклонил. Сказал, что всем сердцем желает сочетаться с Марией законным браком, но придётся обождать. Увы, долее шести недель, назначенных русским обычаем. Он, Екимыч, католик и церковный староста, а поп у них зловредный, с русской не обвенчает... Царь дозволяет такие браки – так поп артачится, крапивное семя, уломать надо.
Девка сняла своё серебряное колечко, надела золотое, толстое. Порфирий блаженно пьянел. Сказал, что в Ярославле есть умный мужик, глаголет – обряды хорошо бы отменить, разделяют они христиан. Резон ведь! В том ли суть, как младенца окунать в купель, два раза или три? Похочет невеста в католики – он, Порфирий, не против. Муж – иголка, жена – нитка. А ссориться с тем попом не след. Шум произойдёт. Знает ли господин, что по невесте да по её отцу и брату верёвка плачет?
Знает Екимыч...
«Мой будущий тесть оказался человеком весьма широких взглядов и предоставил нам тактику поведения в наших сложных обстоятельствах, – глухо поведал Доменико заветной тетради. – Некоторые новые мысли, далеко не ортодоксальные, просочились в простонародье, к счастью для меня. Слава святому Христофору! Мне снился недавно его источник...»
Поток пенился в расщелине, на склоне Монте Роза. Сан-Кристофоро, патрон тех, кто в странствии, в поиске, вызвал воду из недр, ударив по скале своим посохом. Легенда… Доменико нашёл место на ощупь, в полумраке, лёг на холодный камень, чтобы опустить руку, зачерпнуть горстью. Он выполнил ритуал, коему послушны все, покидающие Астано. Ледяная влага, пойманная у самого родника, сводила челюсти. Как раз в эту минуту в селении прокричал петух, и Доменико спустился весёлый. Сегодня кажется – союз с любимой ему был предопределён.
«Драгоценная особа возвратилась ко мне, и если всевышний внемлет моим мольбам и простит, то навсегда. Мадонна! Не с тем же испытывала нас судьба, чтобы разлучить! Мы обручены. Потомки мои, не бойтесь никаких напастей, если вам ниспослана любовь! Древние мудрецы недаром учили – боги благоприятствуют любящим».
Мария принесла узелок – трогательный узелок со всеми своими пожитками. Развязала – в нём оказались кроме рубах подсолнухи для Пьетро, любимое его лакомство. Мальчишка повис на ней.
О прибытии Леблона Доменико узнал накануне. Парижская знаменитость, новый вершитель городовых дел… Земцов, зашедший поздравить – он уже квартирует отдельно, – обеспокоен. А Доменико, не чующий ног под собой, поднятый на седьмое небо, не ощущает угрозы. Она стучится где-то едва слышно, в другую дверь... Мария слушала беседу мужчин и сказала потом:
– Отнимут чего у тебя?
Невозмутимо, с травинкой в уголке губ. Доменико рассмеялся, обнял её. В самом деле, что могут отнять? Крепость, храм Петра и Павла? Воздвигнутое из камня прочно принадлежит не ему, Петербургу, столице русской…
* * *
В крепости отделали новую кардегардию, и Доменико выгородил там комнату, раздобыл столы, шкафы для чертежей и замки с секретом. Фортеция со дня основания не воевала, но сие не значит, что нет в городе какого-либо молчальника, прощупывающего оборону. Глянув в окно, Доменико мог видеть колокольню в громоздкой одежде лесов, мельтешащие фигуры каменщиков. По утрам Земцов, старший гезель, раздавал работу младшим: Ивану Козлову, Никите Назимову, Ивану Клюрову и прочим. Им рассчитывать, чертить набело детали зданий, порученных Михаилу: казармы, порохового склада, бани, портомойни. Есть теперь и вклад его собственный в цитадель. Не сняты с него и кунштюки для Летнего сада – без конца сочиняет беседки, фонтаны, воротца, скамейки, гроты.
Смех берёт Доменико – Земцов смотрит на него с жалостью. Сердиться нечего, ведь эмоции у него самые дружеские. Обидели учителя. Служил учитель верой и правдой, градуса выше полковничьего не достиг. Государь не упрекнул ни в чём. И вот ходить теперь учителю, истинному строителю Петербурга, в подчинённых. Леблон, ещё не ступив сюда ногой, возведён в генерал-архитекторы. Жалованье отвалили... Всё это Михаил, отослав младших, высказывал.
– Я повышения не просил, – отвечал Доменико. – Умнее оттого не стану. Забыл Декарта? В чём блаженство? В разуме, ведущем к цели.
Стиснув зубы, он сдержал волнение, когда явился переводчик, широко распахнул дверь и крикнул подобострастно, юным петушиным голоском:
– Господин генерал-архитектор!
Нахлынувшая жара заставила Леблона снять сюртук – сенсацию в вельможном Петербурге. Зато камзол его серебрился весь сказочными шитыми зарослями по груди и рукавам.
– Вы учились во Франции? – спросил он, кивнув в ответ на поклон и обтирая платком лоб.
– Нет, в Риме.
– Не подумал бы... – и Леблон свалился в кресло.
– Почему?
Вялое движение руки было ответом. Доменико понял. Но что мог разглядеть француз, проходя, кроме портала? Кажется, одобрил.
– Вы давно в России?
– Тринадцать лет.
– О-ля-ля! Климат выносите? Зимой тут можно дышать?
Доменико сказал, что можно.
– Его царское величество, – сообщил Леблон торжественно, – отзывался о вас прекрасно.
– Рад слышать... Спасибо!
А сам-то он... Его мнение? Доменико собирался спросить прямо, но вдруг сдавило гортань, охватила робость. Заговорил Леблон.
– Рим... Ах Рим!.. Все дороги... Да, когда-то вели к нему... Фантастико! Милый шевалье, – обратился он к переводчику, – вы нам не нужны! О Рим, аморе мио! Ступайте, милый, займитесь пока... Этот мальчик переводит Фенелона[100]100
Фенелон Франсуа де Салиньяк де Ла Мот (1651—1715) – французский писатель; главные произведения – «Приключения Телемаха, сына Улисса» (1699) и «Диалоги мёртвых» (1700—1718).
[Закрыть]. Ужас, как запоздали русские!
– Им было не до романов, – заметил Доменико.
– Его величество погоняет Россию этим...
Сечёт рукой воздух.
– Кнут, мосье, кнут! Просто, как бонжур... Как здравствуйте...
Рука сухая, с синими жилами, почти старческая. Отбрасывает Доменико в юность. Он – гезель перед наставником. Рука говорит о Париже, где заложен светоч всех художеств, где выдающийся француз увенчан лаврами. О написанных книгах...
То, что Леблон генерал, начальник, – как-то забылось. В Астано, в вольнолюбивом Астано, уважают возраст, опыт, талант. Авторы книг – люди исключительные, редчайшие, среди знакомых Доменико не было ни одного. Голосом, от волнения ломким, голосом гезеля он спешит сказать – труды мастера читал. Трактат о садах, дополнения к Давилье, к его курсу архитектуры... Да, в царской библиотеке. Жаль, Версаля не видел, но о тамошних трудах мастера наслышан. Не окажет ли он любезность...
Доменико поспешно, неуклюже снимает с полки альбом, роняет Леблону на колени, просит прощенья. Что же внёс мастер в королевские интерьеры? К сожалению, художники остаются безымянными.
– Неважно, дорогой мой, – слышит Доменико. – Совершенно неважно. Всё равно короли – наши подданные. Не удивляйтесь, дорогой мой, мы монархи красоты. Вот мои залы...
Именно они, новейшие по отделке, нравятся Доменико. Величавы без высокомерия, без тяжёлой помпезности, жизнерадостны, но ничего слащавого. Декор ясен, симметричен, в основе его – прямые линии, прямые углы, в соответствии с широкими окнами. Цветочный орнамент на ветвях-линиях лёгкий, весенний, будто не успевший разрастись.
Мастер принял восторги как должное.
– Видите, небольшие шалости я допускаю. Интерьер – это интим. Выплёскивать роскошь наружу теперь не любят. И в самом деле – моветон... Надо различать. Строгий фасад – это иллюзия власти, а всё внутри – власть иллюзий, самоуслаждение. Так говорят в Париже. При Людовике искусство стали обсуждать серьёзно.
– Я не был в Париже, – вздохнул Доменико удручённо.
– Париж, Париж... Что здесь воображают? Мы тоже тонем в грязи. Нас полмиллиона – представляете месиво? Русские чище, они моются в бане. Спасительное изобретение...
Продолжал с улыбкой саркастической. Уморительно – барышник, который скупится на портшез, восседает на спине у своего слуги, едет верхом. Уздечку бы ещё... А строения? Сплошь дворцы? Нет, деревянных домов и мазанок больше, чем в Петербурге. Правда, богатства хватило бы на десять столиц, но и нищеты тоже... И здесь голодают, но раздобыть дерева для обогрева гораздо легче. О, королевские прихоти дорого стоили народу. Ну, и война, конечно... Версаль так поразил французов, что родилась легенда. Конь Людовика на прогулке запнулся и ни с места... Кто-то посоветовал копать, извлекли короб с драгоценностями.
– Ленотр[101]101
Ленотр Андре (1613—1700) – французский архитектор, планировщик парков; распланировал парки Фонтенбло, Шантийи, Сен-Клу и ансамбль Версаля с огромным парком.
[Закрыть], незабвенный Ленотр подал Людовику проект парка и приговаривал: «Я разорю вас, сир». Король только смеялся. Ну, а его величество царя разорить ещё труднее – верно ведь? Впрочем, вы и не стараетесь.
Остановил взгляд на макете храма Петра и Павла, сказал, что архитектура скромная, в хорошем вкусе.
– Я фортификатор, – вырвалось у Доменико.
Тут же осадил гезеля, возродившегося в нём. Похоже – мольба о снисхождении. Выслушав похвалу, боялся поверить.
Леблон повторил:
– Да, работа удачная, портал, например, хоть в Париж. Колонны у входа, волюты, обрамляющие второй ярус, – эти плавные изгибы, две волны...
– Волны? – Доменико не думал об этом. Глаз декоратора...
– Да, лижут борт. Это же корабль – его величество говорил мне. Его страсть. Две мачты, но задняя, по-моему, лишняя. Вы согласны? Не устоит, обещаю вам. Купол для равновесия, купол. Шпилей здесь... Я насчитал двадцать семь. Невероятно!
В крепости, доложил Доменико, из шести бастионов каменных уже пять, заканчивают шестой, последний. Кладка парадных ворот готова, декор неполон, дело за резчиком.
– Знаю, – услышал зодчий. – Пришлю вам Пино.
Подал образцы жилых домов. Леблон полистал. Недурно. Господин Трезини верен своему стилю – та же простота объёмов, лаконизм отделки. Северная строгость. Простолюдин прекрасно устроен – на бумаге... Много ли таких счастливцев? Большинство пока в лачугах. А бояре...
– Отель простоват, по нашим меркам. Скромность украшает, его величество следует этому правилу. Бояре ваши – не очень...
Ирония тотчас сменилась выражением почтительным – Доменико выложил прожекты Петергофа, Стрельны. Собственные его величества рисунки, схемы.
– Две загородные резиденции... Русский Версаль, русский Сен-Жермен, – и Леблон уронил добродушный смешок. – Сажень – это семь футов, а аршин?.. Без вас я слеп, бесценный мой мосье! Сам бог свёл меня с вами.
Спросил, где охотничий замок царя. Нет его? Решительно посулил выстроить.
– Царь не любит охоту, – сказал Доменико, вдруг ощутив досаду.
– Потентаты воюют или травят лисиц. Это просто, как бонжур. Гости царя, наконец... Друг мой, вы слишком застенчивы! Надо напоминать... Говорю же вам, мы монархи мира, имя которому красота. Мы угождаем, дарим венценосцу престиж, умирающий вместе с ним. Красота же бессмертна. Держите голову выше, шевалье!
Затем кинулся выспрашивать. Слышно, царь обожает рвать зубы, практикует хирургию, спровадил на тот свет не одного пациента. Правда ли? А наследник? Точно ли он болен? Говорят, замкнулся во враждебности отцу. Так ли хороша собой любовница Алексиса, как болтают? А царица Екатерина – правда ди, что она из низов, равно как губернатор? Дорого ли ей искусство? Короли дерутся, а их супруги обставляют дворцы – так ведь бывало в истории. На Луаре есть замок четырёх королев – они нанимали художников, одна за другой, двести лет.
Доменико смущался, мямлил. Ефросинью он не видел. Вкусы царя и царицы, видимо, совпадают. Краснел, сознавая наивность свою перед Леблоном, питомцем лукавого и блестящего французского двора.
– Хватит, – бросил Леблон. – Займёмся завтра.
Странное чувство возникло у Доменико. Оно вытеснило Трезини-гезеля. Что-то вроде ревности... Виноват самоуверенный тон француза.
«Неужели я стал настолько русским! – написал зодчий. – Господин Леблон поживёт у нас и убедится: не всё воск в его руках. Царь, при всём его внимании к советам иностранцев, не станет ни французом, ни голландцем».
* * *
Девятого августа рано утром денщики губернатора будили архитекторов, скликали в канцелярию строений на консилию. Будут представлены господину Леблону – в одиннадцать, в час адмиральский, как ударит пушка в цитадели.
Данилыч надел к сему случаю кавалерское, с орденами и шпагой. Епанчу, садясь в кресло, тотчас откинул – жара не спадала, под низким потолком было душно. Стеснял и камзол белого штофа с узором, верхние две пуговицы светлейший расстегнул. Леблон, в кресле рядом, оглянулся и сделал то же.
Приглашённые расположились на стульях, на скамьях, на столах. За окном истошно мычала корова, Данилыч велел секретарь прогнать. Начал перечислять заслуги Леблона. После каждой фразы ждал, пощипывая ус, – бубнили переводчики, немецкий и французский. Обтёр взмокшую шею.
– Ныне вот изволил к нам... Дабы мы восприяли... глас мудрейшего среди нас...
Головы – в париках и простоволосые – то колыхались, то замирали. Кто-то фыркнул. Данилыч выпутался из панегирика и резче дёрнул свой ус. Кто посмел? Браунштейн сгорбился в тени – верно, он. Солнце освещало лицо Устинова[102]102
Устинов Иван – русский архитектор, завершивший образование в Голландии.
[Закрыть], широкое как блин, – этот в недоумении. Мудрено ли, годами не вылезал из Шлиссельбурга!
– Чаем мы с государем... Художества на сих островах возродятся, яко птица Феникс из пепла...
Пепел-то при чём? Не пожарище... Жара мутит рассудок. Данилыч припас речения из книг об архитектуре – губернатор, мол, не вовсе профан. Попу азбуку не читают!
– Его царское величество повелеть изволил... Назначил господина генерал-архитектора начальником и дал все полномочия...
Дальше пошло как по писаному. Необъятная память Данилыча вобрала приказ слово в слово.
– Нанят господин Иван Батист Леблон на пять лет... Обязуется он делать чертежи, управлять и велеть строить фортификации, мосты, береговые пристани и иное, которое строят в воде, также церкви, палаты, публичные места, забавные домы, партикулярные домы, сады или иные какие дела и строения, которые его царское величество повелит ему строить и править.
Понятно ли? Дурно делалось от жары и от тягучей переклички переводчиков.
– Стало быть, слушаться во всём, – подвёл итог Данилыч. – Во всём, касаемо строительного художества.
Поднялся Леблон. Камзол его расстегнут шире, из-под него выпросталось нечто на цепочке, золотое. Доменико, сидевший близко, улыбнулся. Блохоловка... В Германии носили только дамы. Леблон выбросил вперёд руку, по-императорски.
– Я прибыл к вам в качестве посла французской цивилизации, – произнёс он веско.
Политесы в адрес царя, светлейшего князя – и снова о высокой миссии Франции, о его персоне. Пять лет – срок небольшой, от всех присутствующих зависит сделать его плодотворным. Хотя бы заложить основы Петербурга, основы его развития...
– В настоящем виде это, конечно, не столица. Это даже не город. Скопление временных зданий, возведённых дурно, некрасиво. Господин Трезини начал хорошо, он дал Петербургу цитадель и дом всевышнего. Но пределы города неизвестны, не укреплены. Я спросил господина Трезини, есть ли общий план. Он мог показать мне только планировку Васильевского острова.
Он, Леблон, составит схему застройки. Не сразу... Лично от него великий монарх требует сперва Петергоф и Стрельну. Места роскошные, выбор его величества блистательный. Господин Браунштейн, несмотря на молодость, оказался зрелым мастером. Но где он возьмёт воду, чтобы питать фонтаны, каскады? Вода, господа! Её много, слишком много, но вы не справляетесь с ней.
Утомлённый разносом, Леблон сел, сказав милостиво, что желал бы послушать коллег. Смотрел поверх голос, играл блохоловкой. Французы – резчик Пино, машинист Суалем, литейщик Соваж – толкали друг друга в бок, озирались с вызовом в надежде на развлечение. Что-то упало. Растрелли, кряхтя и бормоча итальянские ругательства, искал свою трость. Подобрал и застучал ею.
– Милостивый князь! – прохрипел он. – Прошу защиты, слёзно прошу...
Рыхлые щёки багровели. Большая голова кавалера вздёрнута, рука выставлена и словно сжимает шпагу. Весь в позиции для дуэли. Кругом шептались – некоторые впервые увидели Растрелли. Доменико встречался с ним мельком: высокомерный флорентинец не удосужился завязать знакомство, а зодчий не напрашивался.
– Милосердия, сиятельный князь! Я нищ, я унижен... Доверие его величества... дорогое, как воздух, как солнце... За что я лишён его?
Итальянец чуть не плакал. А трость его, вонзаясь в пол, негодовала будто сама по себе. «Разразилось, – подумал Данилыч. – Надо проявить твёрдость».
– Что, Стрельна? Погудка про белого бычка.








