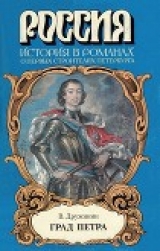
Текст книги "Град Петра"
Автор книги: Владимир Дружинин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 33 страниц)
Царевич тем временем наслаждался свободой. О доме старался не думать. Карлсбад улыбался ему, хотя улочки, свернувшиеся в расщелине, дремали в тени чуть не до полудня. Горная речка Тепла звенела ласково, водная пыль Шпруделя в жаркий день освежала. Нервы присмирели. Делал моцион по крутым дорожкам – маршрутом неизменным, по пути отдыхал в ресторации, всегда одной и той же. К миловидной хозяйке-чешке обращался по-польски, заказывал кофе либо шоколад, сдобную булочку, марципан. До сладкого охотник, но не обжора, талеры отсчитывает скуповато. С виду дворянин невысокого полёта – скромный коричневый камзол, шпага на потёртом ремешке, без украшений. Парика не носит – тяжёлые, жирные чёрные волосы лежат плотно, ветер не треплет.
Из Вены, по просьбе русского посла, прислана для его высочества охрана. Люди императора не назойливы, держатся на почтительном расстоянии. Иногда старший – в чине капитана – настигает принца на укромной тропе, вступает в разговор...
Лечащей водой Алексей начал пренебрегать. Бывает на концертах, на гуляньях. Часто тратится на книги. Лавочники величают благодетелем, приберегают новинки.
«Прелести Италии», с гравюрами... Как не купить! Прекрасная сия страна, к тому же подвластная цесарю. В некотором смысле родственник... И принца тянет в поток венецианского карнавала, к небывалым утехам. Распаляют воображение сказки Шехерезады из «Тысячи и одной ночи», любовные стихи из «Сборника древних авторов», в немецком переводе.
Пищу для размышлений даёт трактат Агриппы[86]86
Агриппа Марк Випсаний (ок. 63—12 гг. до н. э.) – римский полководец и государственный деятель; известен также постройками в Риме (водопровод, термы, Пантеон и др.).
[Закрыть] «Ненадёжность и тщета всех искусств и наук», а также «Обвиняющие письма» Мошероша[87]87
Мошерош Иоанн Михаил (1601—1669) – немецкий сатирик, его главное произведение —13 «Видений».
[Закрыть] – сатирика язвительного.
Лжец хвастает, вор благоденствует,
Мудрый молчит, а честный бедствует.
Увы, так устроен мир. Сочинитель, пожалуй, прав, говоря: «Уклад жизни не следует слишком реформировать». Творец не вернёт человека в эдем, не избавит от страданий.
«Неудачные браки», трактат Генриха Мюллера... Томик в восьмушку, в глянцевой белой свиной коже, прямо влип в руку и приковал на несколько вечеров. Бросало в жар от суровых слов Мюллера: «Горе тому, кто покривил душой, стоя перед алтарём. Произнёс «да» неискренне... Он клятвопреступник. Грешны и родители, понуждающие к браку. Основа счастья в браке – любовь благочестивых, добрых супругов. Не заменят её пи богатство, ни титул». Мюллер, умнейший Мюллер отстраняет Шарлотту, подводит Ефросинью, сердечного друга. Будто видит её, описывая достоинства отличной супруги.
Чаще всего Алексей открывает «Церковные анналы» Барония[88]88
Бароний Цезарь (1538—1607) – историк римско-католической церкви, кардинал, библиотекарь в Ватикане; известен и как автор сочинения по русской истории.
[Закрыть]. Штудирует книгу, делает выписки. Во всех странах Европы известна сия хроника, и для многих она – развлечение.
«843 год. При дворе Византии возымела власть дурная женщина. Она появлялась при всех голая...»
Алексей зажмурился. Верно, дьявольски хороша собой...
«...Опозорила императора, клеветала на патриарха Мефодия, но в конце концов была заключена в тюрьму».
Так и надо... Страница перевёрнута, однако обольстительная куртизанка не исчезла. Она сбрасывает тюремную хламиду. Теперь она – Вальдрада, метресса императора Лотаря. Из-за неё он преследовал жену. Был пристыжен папой и покаялся, но неискренне и умер от болезни.
И царя бог наказывает, отнимает здоровье. А обличать бесполезно – не раскается.
«Граф Эрбен во Франции взял другую жену при жизни первой, чем вызвал возмущение народа...»
Этот публично повинился. Но потерял совесть.
«Папа Паскаль запретил королю Генриху английскому вмешиваться в церковные дела».
Правильно сделал. На царя где управа? Глава католиков многое может...
«Леопольд, герцог австрийский, был отлучён от церкви. Он посмеялся над этим, и его страну постигло наводнение Дуная, унёсшее десять тысяч человек, затем моровая язва, и сам он погиб, упав с лошади».
Поделом ему... Царя кто отлучит? А надо бы...
«Император византийский Михаил развлекался, издеваясь над священными предметами, приказал своему шуту Теофилу изображать патриарха и шествовать в сопровождении толпы гуляк в шутовских одеждах».
Вот это точь-в-точь про царя.
«За это господь отнял расположение к Михаилу, и он был убит во время попойки своим камердинером».
Кара не минует нечестивых. Книжка Барония разбухла от закладок. Выписки из неё – в заветной тетрадке, хранимой особо.
Пачку книг объёмистую завязывает лавочник. Несёт Иван, шагая за повелителем след в след. Иван Фёдоров, брат Ефросиньи, слуга преданнейший – любых трубецких, любых нарышкиных он дороже. Будущий дворянин при дворе будущего царя...
Стенная полка в комнате уже заполнена книгами. Стопы их под иконой, в красном углу. Корешки коричневые телячьей кожи, сально-белые – свиной. Атласы в лист и крошечные томики в шестнадцатую долю листа, оттиснутые в Лейпциге, Дрездене, Кракове, Варшаве. Книги веселящие и научающие. А нужнее всего наследнику престола те, которые укрепляют злость.
Удивительно, как они цепки в памяти, «Анналы»! Небольшой коричневый томик, двадцатое, а может быть, сотое издание сего средоточия непотребства... Он не сходит со стола, он в центре комнаты, чтение вошло в привычку, как утреннее «Отче наш». Говорят, бумага всё терпит, но кажется, она пропиталась пороком. По ночам они возникают – дурные женщины, там названные. Женщины, из-за которых канули в геенну императоры, короли, храбрые рыцари, женщины, навлёкшие наводнения, пожары, войны...
Есть же книги колдовские – это, вероятно, одна из них. Её следовало бы разорвать, сжечь. Иначе не перестанут кружиться эти сосуды греха, эти дщери Эрота.
Иван намекнул как-то – знает он весёлый дом в переулке, с красным фонарём. Алексей брезгливо дёрнул плечом.
– Что за девки? Грязны небось!
Подумаешь, вальдрады... Ну их! Дай бог сил воздержаться! Ради любви нужно и ради злости. Копить в себе злость, остаться судьёй – праведным и беспощадным!
* * *
Для Доменико лето было тягостное. Он сильно уставал, ноги тяжелели и словно вязли в трясине. Отдыха не искал, но служба редко доставляла радость.
В июле умер Шлютер – незабвенный друг. Поехал на Котлин и, осматривая царский дом, назначенный к перестройке, переутомился, должно быть, постигла апоплексия. Как не хватает его...
Незримо присутствует он у камина, у рельефа своего в Летнем дворце. Ласкает дельфинью морду, щурится.
– Жива твоя Марихен. Гуляет с кем-нибудь...
Хохочет, видя, как вспыхнул Доменико. Ревность – это лучше, чем похоронная грусть.
– Ну, замуж вышла. За офицера, за гвардейца... Уж если она так хороша, как ты малюешь.
Не церемонится, бьёт по больному месту.
Побаловался мальчик, н довольно. Печник застукал бы вас – убил бы обоих.
Странная, освежающая боль от оглушающего баса, от громового смеха. Похож на Зевса – даже в рабочей рубахе. На Зевса, которого не успел вылепить. Многого не успел...
Как дорог он, Андреас Шлютер, да почиет он в мире, седой сатир! Резкая его прямота была благом.
Бумаги усопшего привезли в канцелярию к Синявину, Доменико приехал смотреть. Шлютер накопил целый ящик планов, рисунков – сцены из Овидиевых превращений для Летнего дворца, фасады Монплезира, разбивка цветников, парковых насаждений, аллей. Ларец, обитый серебром, содержал денежные документы и тетрадь в сафьяновой обложке. Тут другая материя...
«Его светлость высокорожденный граф Гессен Касселя настоящим заверяет, что машина, сконструированная магистром Иоганном Эрнстом Генрихом Орфнреусом...»
Отпечатанное в типографии свидетельство, отменные похвалы... Механизм, если верить ландграфу, действовал в его замке Вайсенштайн без всякого обмана, сам по себе, без всякого вмешательства внешних сил. Недурно, если это правда...
«Его светлость изучил перпетуум-мобиле снаружи и внутри и не видит причины, по какой оно должно остановиться, – разве только из-за износа движущихся частей».
Всё же остановилось. Через одиннадцать месяцев, – так сказал Шлютер. Срок немалый... Нет, дело не в износе. Изобретатель в чём-то ошибся, и Шлютер пытался выяснить. На листках, испещрённых формулами, набросками, делал примечания. «Шлифовать» – и три восклицательных знака, в брызгах чернил, чуть не врезанные ликующим пером. И стрелка от них, к оси колеса. «Трение, трение» – с одним восклицательным, менее бурно. Колесо вращается, оно толстое, скорее цилиндр, и вот маятники. Их два, один опускается, другой поднимается в это время. Один из них крупнее и, очевидно, тяжелее... Больше ничего понять нельзя, и Шлютер сам не разобрался до конца.
«Разломать бы его» – и опять три восклицательных знака. Тонкие, вытянутые рукой слабеющей, с отчаянием. Пометки на полях читаются легко, а рассуждения неразборчивы. Фразы отрывисты, учёные термины в сокращениях. Узорчатый прозрачный занавес, за которым неистовствует живой Шлютер, бьётся над загадкой. Допрашивает Орфиреуса, яростно поднимает кулаки, обдаёт пивным духом…
Похоже, только ландграфу довелось заглянуть внутрь, если он не врёт. В тетради нет ни одного рисунка, изображающего машину в разрезе. Скрытничают... Шлютер подумал о том же, проставив через всю страницу – «100 000 злотых! Славный куш!»
И дальше – поиски собственного решения. Колесо и грузы, свисающие с него... Рассчитаны так, что на одной стороне тяжесть больше. Человеческая рука... Стрелки указывают – она должна дать ход вечной машине. Один оборот – и сила тяжести погонит её безостановочно...
Главный враг – трение. «Чёртово трение!» Шлютер разражается иногда бранью гданьского грузчика. Одолел ли он? Вероятно, нет. На последней странице, недописанной, знаки вопроса.
Царь был опечален кончиной весьма. Приняв тетрадь от архитекта, произнёс скорбно:
– Не повезло Петербургу.
Склонившись, помолчал – будто не тетрадь, а тело знаменитого мастера держал. Вытер пальцы о кафтан и бережно, с уважением к учёности, начал листать. Увлёкся, не заметил Скляева, подбежавшего с каким-то делом. Потом, захлопнув тетрадь, разочарованно:
– Покупайте, значит... Покупайте кота в мешке... Хитёр он, Орфирей.
– А мы хитрей, – вставил Скляев, не разобравшись.
Пётр увидел его и поморщился:
– Смешки тебе...
– Сомневаюсь, кто хитрее – магистр или ландграф, – сказал Доменико, желая облегчить атмосферу.
– А мы кто? – спросил царь жёстко. – Котята слепые. Кого пошлю к Орфирею? Тебя, что ли?
Схватил корабела за редкие вихры, рванул к себе. Тот застонал:
– Невежды кругом... Худо, Андрей Екимыч! Деревня мы... А послать бы надо...
– Деревня мы и есть, – протянул Скляев, почёсывая голову. – Кикина отправь – может, скумекает.
– Скумекает, – передразнил царь, наливаясь досадой. – У Кикина вся наука – галстук завязать по-французски. Тоже мне академикус! Этому вон как быстро научаются – салоны да бонтоны... А ну как есть оно, перпетуум? Спытать бы...
– Сто тысяч, – напомнил Доменико.
– Миллионов не жалко, – отрезал царь. – Поставим машину вот здесь... Большую сделаем, да не одну...
Ночной морозец – первый в сентябре – покрыл сединой адмиралтейский двор. Утро ещё не согнало его. Зримые лишь Петру, тронулись, заработали вечные двигатели, черпая в себе титаническую свою мощь.
– Ты, Екимыч, о златом веке тоскуешь. Иде же ни рабства, ни бедности... Зачем раб тогда? Перпетуум, знай, куёт. А, Екимыч?
Земля под ногами вздрагивала – невдалеке, в кузнице, ухала тяжёлая кувалда, сипло дышали мехи. Адмиралтейство трудилось лихорадочно: близится зима, а на стапелях два линейных корабля. Заканчивать, не мешкая ни часу...
Архитекту запомнилось это утро. Он описал встречу с царём и прибавил:
«Мой друг, возможно, был гением и унёс с собой великое творение, наиболее благодетельное из порождений человеческого мозга. Это второй удар судьбы в нынешнем году. Ничего нет трагичнее, чем потеря близкого существа».
Тетрадь Шлютера вложена в ларец, заперта и хранится свято, среди документов секретнейших. Чертежи, планы, рисунки, касающиеся Петергофа, Летнего сада и дворца, одобрены царём – дело за искусным их воплощением.
«Нам не дано воскресить художника телесно, но продлить земную жизнь его духа мы обязаны. Мадонна...»
Доменико зачеркнул последнее слово. Допустимо полагать – призывал помощь мадонны и устыдился. Грешен ведь, недостоин... Католик, староста церкви – и прелюбодей, к тому же нераскаявшийся.
Любовь отнята, он наказан. Но прощён ли?
* * *
Усадьба Гарлея от Лондона недалеко. Прокатиться – одно удовольствие. Вековые липы, вызолоченные осенью, смыкаются над дорогой, пугливая серна, отпрянув, исчезает в чаще парка, в дневных его сумерках. Хозяин умоляет не пугать животных, и Дефо едет медленно. Вбирает всеми фибрами тишину – редкий нектар для непоседы, для неугомонного писаки.
Белые колонны подъезда, зелёная ливрея привратника. Он кланяется, и лицо писаки каменеет, сдерживая злорадство. Невольное, хотя узы многолетние связывают его с бывшим государственным секретарём.
Когда он был у власти, Дефо впускали в министерство через чёрный ход. Джонатан Свифт, его заклятый враг, входил в парадные двери. Ещё бы, он в чести у высших, не опозорен торговой казнью, избегал борьбы и сберёг респектабельность. Впрочем, обижаться нелепо. Таков этикет, удобный истинным джентльменам.
Привратник указал калитку – его благородие в саду, кормит птиц. Дефо сделал несколько шагов по аллее и встал. Трогательно... Сановник сидел с протянутой ладонью, синицы вихрем кружились над ним. Что-то униженное было в этой позе. Бедняга! Колесо фортуны повернулось чересчур резко после смерти королевы Анны.
Дефо тоже в опале. Но он не бросит друга в беде, выведет на чистую воду клеветников, завистников. «История белого посоха» сдана в печать. Гарлей виновен только в том, что не пресмыкался перед теми, кто лез наверх, топча других. Что ж, Англия узнает истину.
Синицы метнулись прочь. Недовольно обернулся. Рука застыла в воздухе, рука нищего…
– А, это вы!
Он почти счастлив. Он ждёт с часу на час – за ним придут стражники.
– Болингброк[89]89
Болингброк Генри С. Джон (1678—1751) – лорд, английский государственный деятель, руководитель партии тори.
[Закрыть] шлёт вам свои симпатии.
Гарлей стряхнул с ладони зёрна.
– Плевал я на него.
– Не скажите... Он вовсе не намерен гноить вас в Тауэре. Если и сядете, то на недельку. Собакам надо же кинуть кость. Кстати, Тауэр – почтенное заведение. Царь Пётр отозвался лестно...
– Помолчите, ради Христа!
– В Тауэре побывало много честных людей – вот вам отзыв царя. Не машите на меня! Я к вам не лясы точить. Нужен ваш совет.
– Кому нужен?
– Мне, вам, Болингброку... Королю Георгу[90]90
Георг I (1660—1727) – король великобританский, курфюрст ганноверский, союзник шведского короля Карла XII.
[Закрыть], наконец, ему докладывали про табачника.
Изгнанник оживился. А что он вообразил? Короли сменяются – секретная служба незыблема. Не так-то просто назначить ей других управителей.
– Что же с табачником?
– Здоров, но скучает. Царь показывает новые корабли гостям, страшно гордится. Бояться ему некого. Шпионы киснут от безделья. Всё, что нужно дипломатам, известно и так. Я насчёт чертёжника...
– Рвётся домой?
– Вы угадали. Браво! Карл в Швеции, вот в чём причина. Зовёт под своё знамя... Галлюцинации у парня. Табачник пишет – сладу с ним нет, становится опасен. Англию возненавидел. Глуп ведь... Отлично, я развеселил вас!
В самом деле смешно. Воевал, десять лет плена отбыл, а в политике младенец. Лёгкий флирт Георга с царём принял всерьёз. Слепому же ясна тактика двухголового...
Кличка, пущенная Дефо, у всех на устах. Новый король – мишень для насмешек. Курфюрст Ганновера не очень-то смыслит, как себя вести. Носитель двух корон по-английски едва мямлит, радеет прежде всего о своём княжестве и норовит расширить – за счёт соседей. От того-то царь для Георга – родной брат и союзник. Авось поможет урвать кусок спорной земли. Момент, что и говорить, благоприятный.
– Петра не обманет, – заключил Дефо. – Но мы отвлеклись. Моё мнение – с чертёжником пора проститься. Этот приступ патриотизма навредит нам... А Кикин не источник информации. Кикин, бывший глава Адмиралтейства, я же говорил вам... Пойман на воровстве, однако не на себя пеняет, а на царя, как это принято у господ с такими привычками. Состоит при дворе наследника. Решайте, ваша честь! Отпускаем шведа?
– Да, конечно... Интересно, Кикин знает, кого кормит?
Дефо смутился.
– Я спрашивал табачника. Неизвестно... Швед молчит. Он вообще не болтлив, надо отдать ему должное. Два-три слова в день и то много. Скандинавский характер.
Обычно выручала выдумка, поддерживала ореол всеведения. Тут писака почему-то не нашёлся.
– Погодите! – встрепенулся Гарлей. – Отправлять тоже рискованно. Пленный ведь...
– Табачник спокоен. Парень ловкий. Немым прикинется... На всё готов, лишь бы восвояси к обожаемому монарху. На таких Карл и держится. В Стокгольме собирались заключить мир, когда чёрт принёс его из Турции.
Во всяком случае, мир на севере не за горами. Дефо убеждён в этом. Море свободно, торговые суда под защитой русских. Знакомый шкипер, который принимает груз сукна и табака, доставит депешу быстро – двух недель не минет. Ветры в эту пору преимущественно западные.
* * *
«...Понеже здесь каменное строение зело медленно строится от того что каменщиков и прочих художников того дела иметь трудно и за довольную цену, того ради запрещается во всём Государстве на несколько лет (пока здесь удовольствуются строением) всякое каменное строение».
Указ, задуманный ещё весной, в октябре подписан. Морская кампания завершена с победами, и теперь всё внимание царя – Петербургу.
Дорога, красная от кирпичного лома, пролегла от заводских печей к цитадели. Сыплется добро из прохудившихся телег, возчики хлещут лошадей – оглядываться, подбирать недосуг. Царь велит поспешать. Сваливают на плацу, бьют кирпич – красная от него земля, красные взмывают облака. Бранится Андрей Екимыч, кулачком машет – чуть не половина матерьяла в отбросах. Разоренье! Кулачок-то как у мальчика и никому не страшен – ругается только господин архитект, да звонко этак и непонятно – заслушаешься. Иной мужичонка, новенький в столице, крестится.
Деревенщина ведь... Распотешил один такой – шарахнулся от кирпича.
– Печать-то... Вона!
Почудился знак антихриста. А кому же неведомо, чья то литера? Господина архитекта... Его печать на кирпичах, он задал размеры.
Доменико не смеялся. Сколько усилий надобно, чтобы просветить эти детские умы! Тем и царь озабочен. Однако приказано прежде всего возводить колокольню. Скорей бы подняться, увидеть свой парадиз с небывалой высоты, а богослужение в соборе Петра и Павла, слово пастырское – потом...
Трусцой бегут работные с носилками, рвут лапти на кирпичной щебёнке. Весь плац вымощен ею. Тают груды свезённого материала, растут стены собора, новые казармы, бастионы – в каменном панцире возрождается страж столицы. Всё короче земляная часть укреплений. Пушки на гребне, над бурыми вихрами травы – будто забитые.
Кронверк за протокой тоже земляной покамест. Стерегут его лениво, размыт, расплылся кротовой кучен. Солдат горсточка. Всякий день к воде спускаются бабы, полощут одежонку, голосят под самой фортецией – военные не против. Зубоскалят с женским полом, а то и к себе затащат.
Там и увидел её Доменико. Мелькнула вдруг на той стороне, в галдящей стае, в пестроте платков. Он выхватил её, прижал взглядом к чёрному, осыпавшемуся откосу. Женщина развязала платок, подняла руки и накинула снова, потуже собрав волосы. Замедленно, с негой, с неосознанной спокойной грацией. Её жест... Он махнул ей рукой. Заметила? Кажется, да. Нагнулась резко, будто устыдилась и прячет лицо. Полощет серую ткань, полощет долго, упрямо взбивает воду своей тряпкой.
Мост недалеко. Но лодка ближе, привязана к столбику, в трёх шагах... Узел сопротивлялся. Доменико тыкал веслом в берег, в донный ил – тяжёлая посудина застряла. Мизерикордиа! Через мост быстрее… А она убежит. Эта мысль привела его в отчаяние. Но нет... Когда он подплыл к берегу, она стояла одна – без улыбки узнавания, привета, будто замерзшая на холодном ноябрьском ветру. Соседки её отшили. Ждёт...
Вылез неловко, прежде времени, ухнул до колен. Цепкую, густую стужу не ощутил. Сейчас она скажет... Он потребует правды. Она с другим, разумеется... Что ж, пусть будет счастлива! Но зачем скрывалась? Услышать признание, непременно услышать – и уйти...
Она не шелохнулась. И вдруг безвольно, не поднимая глаз, двинулась навстречу. Надломилась, боднула лбом в его грудь.
– Застынешь, – произнесла она жалостливо и спутала, смела в забвенье всё, что он надумал. Радостный озноб сотрясал его тело.
Волшебные есть слова – подобны лучу, ворвавшемуся в сумрак. Свежую кровь вливают.
– Я вчерась тебя видела.
И ещё:
– Горюшко ты моё...
И спохватилась, позвала к себе обсушиться. Опасаться некого. Бобылка вот, сирота при живом отце. В Ярославле он, у купца.
– Паскудница я... Обещала ведь... Не стерпела, прости, матерь божья! Ну, на что я тебе?
– Кому обещала?
– Иконе казанской.
Они шли рядом – архитект в офицерском кафтане, со шпагой, и девка с корзиной белья. Служанка плелась бы позади господина. Прохожие не оглядывались. Привольный город – Петербург. Греховный город...
– На што я тебе? – повторила она твёрже, с мольбой. – Жена дома. Я святой деве сказала: гляну разок на него, губителя моего, и умру.
Но жены не было, когда дом так страшно, внезапно опустел. Почему? Сойку принесло. Очумелый он, но брат всё же... Пробирался на Дон, к казакам, схватили его, драли кнутом, вернули в Питер – и на галеру. Служил бы уж, коли так... Так нет, удрал с галеры. Лежал на печке, носа не казал на улицу. Пришлось кормить его, стеречь да благословить в дорогу. Опять на Дон...
Потому и обречён был Доменико страдать. Надлежало ему, царскому любимцу, быть в неведении. И всем окрест, кроме вдовы Аграфены, хозяйки дома. Стало быть, никто не крикнет «слово и дело государя», не упечёт в застенок. А Сойка, если и попадётся, зубы себе изотрёт в крошево, не выдаст. Он такой...
Аграфена – вдова такелажника, детей нет. Шьют варежки, тем и живятся. Скудно небось... Доменико предложил денег, Мария замотала головой.
– Ртов-то у тебя...
Он уверял, что хватит жалованья на семью, на гезелей, на родных в Астано.
– Нет уж, на хлеба не сяду к тебе.
Доменико снял мокрые башмаки. Ступая по обрезкам сукна, бараньих шкур, холста, следовал за Марией в её комнату, в её мир, так долго от него отрезанный. Кровать, накрытая мешковиной, целомудренно узкая, бочонок в углу, сильный запах укропа...
Час спустя он погрузил руки в рассол и вытащил солёный огурец. С наслаждением глотал прохладные куски. Окно было затянуто пузырём; здания за ним, деревья и люди расплывались в рыжих сумерках. Очень хорошо... Он защищён, укрыт здесь, и дом этот – его творение. Доменико засмеялся, разбудил Марию, сладко уснувшую. Мог ли он вообразить! Да, жилище для бедных...
Он богач теперь, каких не бывало на свете. Жаль, что отец Кайо этого не поймёт. Доменико вздохнул, представив себе носатого француза, свирепого коротышку, брызгающего слюной с кафедры, немытые, чёрные от свечной копоти ручищи, которыми он грозит Неисправным прихожанам. Видел бы он старосту своей церкви, примерного в благочестии...
«Дорогая мне особа дала мне бесспорные, восхитительные доказательства самоотверженной любви. Сердце её, рождённой в простом звании, преисполнено высочайшего благородства. Отвергнув её чувства из боязни греха, я совершу грех более тяжкий, окажусь повинен в предательстве, в неблагодарности. Царь понял бы меня. Его русский бог добрее, чем бог отца Кайо, злого мучителя петербургских католиков».
Потомки обнаружат эти строки среди записей, сделанных для себя. Имя дорогой особы Доменико пока не называет.
* * *
Уезжать из Карлсбада не хотелось. Протекло шесть месяцев беспечального житья – срок лечения, указанный медиками, окончен. А пребывать за границей без острой надобности зазорно.
– Большие бороды и так рычат, поди, – ронял царевич. – Ославят протопопы, подхватят попы, да дьяконы, да дьячки. Отвратят народ от меня по дикости.
Иван Фёдоров утешал:
– С чего бы? Пошли ты их суке в зад!
Ему тоже жаль покидать уютную гостиницу, утренний кофе с горячими ватрушками, ласковое чешское обхожденье. Тащись на зиму глядя! Уже отбиты поклоны перед иконой, испрошено спасение от морозов, от разбойников, от болезни. Отмолились и сквернословят взапуски камердинер и наследник престола, располагаясь в возке. Затоплена железная жаровня, подвешенная к потолку. Красное вино под подушками, светлое и водка – на холодце, в кофре под запятками, вместе с книгами, с подарками Афросьюшке.
Миновали ратушу. Трубачи сыграли вдогонку заунывное, прощальное.
Полдня отгонял Алексей мысли о родителе, о его столице. Петербург размывался в памяти. Возник в декабре на исходе дня, чужой, заснеженный. Мнилось – похоронен в сугробах отцовский парадиз. Морщась гадливо, вошёл во дворец-мазанку. Полы рассохлись, скрипели, пахло угаром. Шарлотта подняла к нему бледное лицо с робким ожиданием. Оспины роились в отблеске свечей, но он вдруг размяк, поцеловал с нежностью.
Она-то чем виновата?
За обедом его высочество с удовольствием говорил по-немецки. Вышучивал лекарей и горькую водицу, хвалил порядки у императора – честность насаждает и благонравие. Злыдня Фрисландская и та улыбалась Алексею растроганно.
Смакуя ликёры, засиделись. Меншиков расщедрился – уделил французских. Царевич сыпал венскими анекдотами. Лейб-медикус Шарлотты заметил, что лечение принцу на пользу – поздоровел явно. Забылся эскулап, вызвал досаду.
– Внешность обманчива, майн герр.
Карлсбад врачует желудок и нервы – против чахотки вода бессильна. Алексей потрогал щёки, лоб – ведь у чахоточных вечером поднимается жар. Обречённо вздохнул. Царю сообщили, что его высочество выражает сыновнюю преданность и рад был бы лицезреть батюшку. В курорте получил лишь малое облегчение, домой поспешал сверх мочи и разболелся.
– Ленью он хворает, – сказал Пётр.
И губернатор почтён уведомленьем. Ему решпект и благодарность за шартрез, за бенедиктин.
С пачкой счетов выскочил из саней Кикин. Однако забот довольно и кроме денежных. Цифирь полежит. Казначей накинулся тревожно:
– Скорый же ты... Не чаял я... Волки, что ли, гнались?
– Скучал, поди? – усмехнулся Алексей и посмотрел в упор, испытующе.
– Ой, сглазишь! – смутился Кикин притворно. – Так кто тебя гнал? Я думал, ты в Париже.
– Туда не звали.
– Как же так? Разве не имел анонса от них? Обещались быть у тебя.
– Никто не жаловал.
– Я же писал тебе, – всполошился Кикин. – Своего дела не забывай! Читал ты? Читал или нет?
– Помню. Что за дело?
– Ехать во Францию. Посол мне слово дал – примут с полным плезиром. Яснее я не мог писать. Не догадался ты... Запамятовал наш разговор.
– Мало ли мы о чём болтали.
– А я радел тебе... Напрасно ты... Король великодушен, там только птичьего молока нет. Версаль, сады-винограды... Эх, проморгал ты свой шанс.
– Сады-винограды, – передразнивал Алексей. – Король могу-уч, уж точно. Пятый годок королю.
– Да я про регента...
– Проку-то... Пустое ты городишь. Регент шатается, скинут его завтра. У меня поближе дворы есть.
Последнюю фразу произнёс многозначительно. Конечно, венский двор ближе, цесарь – свояк. Кикин расстроился. Уж он ли не усерден в услужении, он ли не бережёт наследника! И вот награда – простого спасибо не услышал. Насмешничает... Про цесаря не сказал прямо – это особенно обидно. За что же этак-то, намёками? За что? Вон каков стал с карлсбадской водички! Мозги замутила... Своих уж не признает.
И тут осенило: никак абшид ему! Отстранил же Игнатьева – скулит он в Москве, слёзные шлёт цидулы. Внуши, мол, ходатайствуй! Да где же? Самому, вишь, тошно. Видать, русские друзья не угодны, новые завелись. Вон как повело с цесарской водички.
Кикин сполз со стула, всхлипнул, пал на колени. Пополз к Алексею, сделал земной поклон – дедовским обычаем. Коснувшись пола лбом, заелозил по коврику, похныкал. Средство крайнее...
– Батюшка... Милостивец... Свет очей наших... Сердце болит за тебя... Я живот кладу.
Онёры, запрещённые государем строжайше. Прежде они достигали цели. Кикин ощутил носок башмака. Царевич не отвечал. Носок двинулся и поддел подбородок, вынудил встать.
– Холоп твой... Раб твой ничтожный...
Причитал Кикин механически, расходуя заученное с детства. Сбил с колен пыль.
– Садись-ка, – приказал Алексей и потянулся к бумагам. – Дипломатию мы оставим.
Пробежал столбец чисел. Приходы из вотчин – рубли, копейки, алтыны. Спросил, отданы ли деньги в Суздаль.
– Это первым долгом, – оживился Кикин. – Не сумлевайся. Матушку твою видел.
Осёкся. Сношения с Евдокией не ему поручены. Царица в добром здравии, Иван Большой Афанасьев вручил письмо от неё. На миг исчез Кикин – зазвучала материнская речь. Сыну о ней не тужить, уповать на будущее. Обитель не стесняет ничем, келья не тюрьма ведь, к святыням путь не заказан. Встречают с почётом.
– За новгородскими деревнями недоимка, – докладывал Кикин. – Бурмистру батогов всыпали, так, верно, забегает. В Воскресенском церковь починили и колокола повесили, молятся за тебя.
Вогнал царевича в сон. Уехал, не дождавшись ласкового слова. Стало быть, в дипломатию не лезть. Казначей, балансы сводить... Что ж, и та ладно. На кого иного надеяться? Кто вызволит из униженья, кто спасёт престиж кикинского рода, если не он? Один свет в окошке.
Алексей перевёл дух, когда звякнули колокольцы и тронулись с места громоздкие сани – золочёная карета, водружённая на полозья. Цену Кикину понимал. Холоп он и есть, умишка заячьего. У родителя несколько лет, до Ниеншанца ходил в квартирмейстерах, а по сути – в лакеях. Попечение имеет о титуле да о своём кошельке. Адмиралтейство обворовал. Родитель чересчур доверял ему, потом зарёкся. Что касается сфер политических – сущий младенец. Сады-винограды... Ишь, Версаль на блюде! Бражничает с посольскими и набирает заслуг себе. Услужлив, да глуп – поощрять его не следует. Убавить надобно прыть.
Снимет раздражение Фроська.
В каморку свою вернулась накануне, всю ночь прибирала на половине царевича – чистила подсвечники, ручки дверные, рамы зеркал, выводила клопов, перемыла посуду в поставце, купила анисовой водки – его любимой. Палила листочки флёр де лаванд. И постель надушила.
– Ну его к бесу, Кикина, – сказал Алексей, входя. – Царю не везёт на помощников и мне тоже. Невежды, олухи...
Успокоила в момент. Раздела как маленького, отогрела горячим телом. Он блаженно задремал, потом вскочил. Поздно! Эту ночь – супруге. Фроська потянулась, поцеловала в плечо, вяло полюбопытствовала:
– А выдюжишь?
Лёг к Шарлотте обессиленный и тотчас заснул.
* * *
Зима, на редкость снежная, запорошила Россию. Москва под белой полостью притаилась, гадая: когда же присягать Алексею? Бродячие монахи, юроды, кликуши ладили – нечестивцу Петру век укорочен, казнят его огневица и трясовица. Видимо-невидимо скучилось шалого люда.








