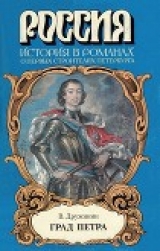
Текст книги "Град Петра"
Автор книги: Владимир Дружинин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 33 страниц)
– Дитя?
В кресле гурьбой теснились куклы – нарядные, в шелках и бархатах, волосы разным манером, гладкие, взбитые, пузырём, чалмой турецкой, башенкой. Мария Маргарита засмеялась. Нет, не ждёт ребёнка, – куклы из Парижа, выписаны для петербургских особ: очень желают они знать моду и причёски.
– И французскому учите их! – сказал царь.
Вдруг подался вперёд. Мадам вскрикнула – царь схватил её за нос и выдавил ногтями угорь. Потом вытер обе руки об кафтан, кивнул задумчиво и отбыл. Пройдут годы, Мария Маргарита будет рассказывать об этом внукам.
Леблон в Петергофе безвылазно. Так и надо... Пётр собрался туда до рассвета. Залив шумел и пенился, ветер с норда, попутный, подгонял «Лизетту» – личное судно царя, названное в честь его любимой собачки. Послушен родной штурвал, не отвык хозяин.
Шаркнули сходни, коснувшись свежих досок пристани. Леблон встретил радостно. Заговорить сразу о генеральном чертеже не посмел, хотя вопрос жёг гортань. Кашлял, ловил концы длинного шарфа, кутался.
– Не жалею сил, ваше величество.
Облицована дамба, чернеет канал – грубокой бороздой, сквозь парк. Слева Монплезир, будто сдвинутый к морю лавиной зелени, тронутой осенним багрянцем. Маленький голландский домик вытянул в стороны, по гребню берега, лёгкие крытые галереи – престиж обязывает. Пусть не по климату эти щедрые проёмы и холодный мраморный пол – строение ведь летнее. Царь доволен, а Леблон шагает понуро. Он только наблюдал за работами, проект его суверен отклонил, одобрение относится к Браунштейну.
Пошли по бровке канала к дворцу. Статуй в нижнем парке стало больше. Царь сказал, что скоро пожалуют Адам и Ева, заказанные в Венеции ваятелю Бонацце, искуснику славнейшему.
– Рагузинский[120]120
Рагузинский Савва – русский резидент в Венеции, занимавшийся по поручению Петра I подысканием и отправкой в Петербург произведений скульптуры.
[Закрыть] пишет, в вашем Версале мало таких, скульптур есть.
Сколько возможно натыкать? Про себя Леблон считает – скульптур и без того излишек. Во вкусе римских патрициев...
Пётр удивился бы, услышав это. Да, соперничая с Версалем, он привлёк и художества Италии, более нарядные, а в основе выбора кроется то, в чём труднее признаться вслух, – цветистый убор палат и церквей Москвы, среди которых царь вырос. Потому-то порой недостаточна мода французская, тянет увеселить её лихим завитком, хохочущей лепной мордой – маскароном. Особенно в сооружениях парадных...
Фонтаны, чёрная борозда канала ждали воды. Открылся грот, врезанный в откос, пять арочных входов под громадой дворца. Завершены и ступени каскада – работные обрамляют кирпичную кладку, лепят к стенкам туф и шершавые, жилистые морские раковины.
Тут ободрился и Леблон – по его чертежу достроен дворец. Расширен подъезд, и соответственно лестница. Балкон удлинённый, по всему центральному ризалиту. Внутри гудели, чадили железные печки. Мастера, французы и русские, забрызганные раствором, лупили глаза на царя, ухмыляясь с лесов по-скоморошьи, дела не прекращали. Белили стены над лестницей. Леблон показал эскизы, и вновь поднималось в нём сладкое предвкушение торжества. Без сомнения, царь вернулся очарованный Францией, а посему к прожектам своего генерал-архитектора будет благосклонен.
Двусветный зал ещё гол, но гобеленов из Парижа не ждёт – русские ткачи мастерят шпалеры на библейские сюжеты и штоф. Где ляжет цветочный узор штофа, там развесят картины – море заплещется на них, вздуются паруса.
Из зала смотрели на верхний парк. Молодые деревца расплывались за слезящимися стёклами. Роют бассейн, он просится туда, смягчить симметрию квадратных газонов. Сир подтверждает? Леблон извлёк из бювара рисунок, но царь помнит – водное зеркало с изогнутыми краями, с фонтанами весьма уместно. Зима близко, – закончат ли? Леблон обещал, пожаловался на помехи. О, если бы здесь управляли строениями по-парижски! Там сюринтендант, при нём помощники, один ведает каменщиками, другой плотниками и так далее.
– Отчего не прикажет сир? – воскликнул версалец, осмелев.
– Приказать просто, – усмехнулся Пётр. – А каков путь, мосье, от приказа к исполнению оного? Высокие горы на том пути, как говорят голландцы.
– Вашей воле нет преград, – возразил француз, воодушевляясь. – О, клянусь вам, сир, Версаль позавидует Петергофу, как равно Париж.
Царь принял вызов.
– Насчёт города обмыслить надо... Вы требуете от нас, мосье, расходов непомерных. Бастионами обнести, каналов этакую прорву копать...
Переводчик только рот раскрыл – Леблон на лице монарха уловил ответ и побледнел.
– Что же, сир? – пролепетал он. – Всё зачеркнуть?
– Зачем же всё?
Уязвлённый гонор послышался царю, возобладавший над рассудком и приличием. Обида королевского любимца... Пётр сдерживал гнев – не след лишать надежды знаменитого мастера, чей генеральный план известен в Париже. И ведь кроме нелепиц и полезное предлагает.
– Обмыслить надо, мосье, – повторил царь успокоительно и перевёл речь на Петергоф, главный предмет стараний генерал-архитектора. Милостиво советовался, где поместить Адама и Еву. Достойны ведь почёта... Так фонтаны им посвятить, водой орошать каждого из первочеловеков!
Рагузинский не теряет времени в Венеции. Купец и дипломат, мореход и агент по любым поручениям, явным и секретным, он оказался и преважным ценителем кунштов. Человек, владеющий кроме родного сербского ещё дюжиной языков, он поладит и с капризным скульптором, и с капитаном корабля. Туго соглашаются моряки брать ломкий груз на монаршее имя.
В Рим поедет Кологривов – мужичок хоть не шибко учёный, но башковитый. Составить ему инструкцию... А статуи водрузить по всему каскаду и с умом: сюда, на подножие столь видное, самые политичные. Дабы узрели в них гости коварство Карла и справедливость державы российской, могущество её на море и на земле, позор предательству...
И снова – мысль о сыне.
Алексей в дороге. День судный, день суровый для отца и сына близок.
* * *
Три с половиной месяца длился горестный путь. Сперва дали крюк – пересекли Италию поперёк, до Бари, где хранятся мощи святого Николая.
– Приложусь на счастье, – твердил царевич. – Чудотворец замолвит за меня.
Чем бы дитя ни тешилось... Потом он захварывал – притворно и всерьёз. В Вене хотел проститься с императором. Отговорили. Краткая ночёвка – и ходу.
Чем ближе к дому, тем страшнее. Не раз повторялись в уме слова Ефросиньи:
«Другой бы что сделал... Поспел бы в Москву прежде царя, да ударил бы в колокол, самый громкий. Ох, где тебе!»
А почему другой? С досады бесновался, колотил ногами в стенку возка. Авось ещё не поздно! Унявшись, ласкал себя мечтой – возможно, Лопухин возбудит Москву, или духовные... С хоругвями выйдут, с хлебом-солью.
Писал с дороги Ефросинье:
«Я, на твой платочек глядя, веселюся... Сделай себе тёплое одеяло, холодно, а печей в Италии нет. Береги себя и маленького...»
Мучимый беспокойством за неё и за наследника – наверняка будет мальчик. – Алексей наставлял Ивана Фёдорова, Афанасьева, обращался и прямо к слугам:
«Молодцы! Будьте к жене моей почтительны...»
Воистину жена, хоть и не венчанная. Родитель позволяет жениться, жить в деревне.
«Маменька, друг мой! По рецепту доктурову вели лекарство сделать в Венеции, а рецепт возьми к себе опять. А буде в Венеции не умеют, так же как в Болонин, то в немецкой земле в каком-нибудь большом городе вели оное лекарство сделать, чтобы тебе в дороге без лекарства не быть».
Советовал купить хорошую коляску, чтобы меньше трясло. «А где захочешь отдыхай, по скольку дней хочешь. Не смотри на расход денежный: хотя и много издержишь, мне твоё здоровье лучше всего».
Отвечает Ефросинья столь же нежно, своей рукой, грамотна не хуже Алексея. Отчитывается в тратах – купила в Венеции тринадцать локтей материи и золочёный крест из камня, коралловые серьги.
«В Неаполе доктор велел на восьмом месяце кровь пускать. Так надо ли? Сколько унцов?»
У Алексея есть немецкая книга об уходе за беременными – штудирует досконально. Наказывал созерцать всё красивое, дабы ребёнок родился прекрасный лицом и нравом. Но в Венеции – «оперы и комедии не застала, только ездила с Петром Иванычем и с Иваном Фёдоровым в церковь музыки слушать».
Приближались роды. В Берлине Толстой нанял дом, где «никто про нас не ведает и не знает». Подоспела повивальная бабка, нанятая царевичем в Гданьске. «Оная бабка сказала посмотря на меня, что далее в пути быть мне весьма невозможно...» Навестил посол Головкин – «по виду человек он неласковой».
Просит лисий мех – на зимнюю дорогу, после родов. Затем лакомств – «икры паюсной чёрной, икры зернистой, сёмги солёной и копчёной и вялой рыбы. Ещё изволишь и малое число сняточков белозерских и круп грешневых».
Где разрешилась, что стало с младенцем – не сообщают ни письма, ни протоколы розыска.
Алексей уже в Москве, царь дожидался его. 3 февраля 1718 года беглец в присутствии сенаторов, высших пастырей церкви, генералов пал ниц перед отцом, принёс повинную.
По свидетельству очевидца, царь, «подняв несчастного сына своего, распростёртого у его ног, спросил, что имеет он сказать. Царевич отвечал, что он умоляет о прощении и о даровании ему жизни.
На это царь возразил ему: «Я тебе дарую, о чём ты просишь, но ты потерял всякую надежду наследовать престолом нашим и должен отречься от него торжественным актом за своею подписью».
Царевич изъявил согласие. После того царь сказал: «Зачем не внял ты моим предостережениям, и кто мог советовать тебе бежать?» При этом вопросе царевич приблизился к царю и говорил ему что-то на ухо. Тогда они оба удалились в смежную залу, и полагают, что там царевич назвал своих сообщников».
* * *
Кикина разбудили ночью. Выбежал в сени в исподнем и столкнулся с Меншиковым. За ним стояли стражники, один из них звякнул цепью.
– Ты? Камрата своего?..
– Был камрат, да сплыл, – ответил Данилыч.
– Дал бы сроку... Денёк хоть...
– Прости, не могу.
Подумывал Кикин бежать – был предупреждён, что дела оборачиваются плохо, царевича возвращают. Но за границу уже не пустят, а в отечестве найдут.
– Ладно... Сам-то чистый?
Данилыч усмехнулся:
– За своё я отвечу. Не твоя печаль.
Правда, Кикин имел интерес к коммерции, которую вёл губернатор. Друг друга покрывали, о ценах, о курсе на амстердамской бирже, о манёврах конкурентов и фискалов обоюдно извещали. Но долг Меншикова казне сосчитан. Неважно, если Кикин болтовнёй малость добавит.
– Царевич тебя не пожалел, – сказал Данилыч. – И ты не жалей! Пошто с недоумком связался?
Видя компаньона, закованного в кандалы, ощутил жалость. Проводил к саням, перекрестил. Жена и дети плакали, хватали светлейшего за шубу, месили коленями снег. Велел запереть домочадцев в спальне, прошёл в кабинет Кикина. Остался в палатах главного Алексеева сообщника до утра, вычернил пальцы о бумаги.
«А – 15, Б – 18, В – 19, Р – 22...» Столбики цифр и букв, цифирная азбука, – орудие тайной переписки, для розыска драгоценное. Тотчас, вослед Кикину, отправить в Москву. Семью преступника переселить и держать под надзором, имуществу учинить подробный реестр.
В средней зале четыре зеркала в чёрных рамах, стол лаковый с выдвижными ящиками, шкаф ореховый. В спальне два зеркала, стол и два подсвечника серебряных, два китайских столика, кровать английская с занавесью, перина, наволочка камчатая, шлафроки...
Меха – 9 росомах, 5 барсов, 9 рысей, 4 песца голубых, 26 соболей, 2 черно-бурых лисы, 3 горностая... Чемодан чёрный кожаный, ковёр турецкий, балдахины камчатые... Рюмки, чашечки, блюдца, кофейные мельницы, мыла разные – 34 штуки в шкатулке... 10 табакерок золотых, янтарных, хрустальных, 22 книги, в том числе «История иерусалимская», «География» на немецком языке. На стенах портреты Алексея, Меншикова, царицы Екатерины.
Портрет Петра отсутствовал.
В погребе бочка венгерского вина, 42 бутылки итальянского, 41 французского, ведра водок – травяной, можжевеловой и прочих. Мясного – 58 окороков, 110 гусей замороженных, 50 уток, 150 кур, 40 индеек.
В сарае – 5 карет, 6 колясок, 4 саней. Живность – 3 коровы, 5 свиней, много птицы.
В каморке кучера описали штаны козлиные, васильковый суконный кафтан, епанчу, сермяжный кафтан. У денщиков – лазоревые кафтаны, у швеи – баранью шубу, 12 рубах, 3 простыни, скатерть, 5 передников, бархатную шапку...
Слуги сказали, что Кикин был в последнее время неспокоен, деньги прятал. Несколько дней назад передал сундук с дорогими вещами на сохранение знакомым.
Царь пожелал увидеть бывшего камрата. Как только его привезли в Москву, посетил в остроге.
– Ты же умный человек. Почему восстал против меня?
В ответ услышал:
– Умному с тобой тесно.
Казнили Кикина способом жесточайшим. Его положили на колесо, и палач, поворачивая, отрубал руки, ноги – не спеша, с передышками, чтобы злодей долее помучился. В толпе, обступившей лобное место, был Алексей – ему приказали смотреть. Силился придать себе мину безучастную, даже осуждающую. Под конец, когда голову Кикина надели на кол, забился в припадке, упал на руки служителей.
Людей, названных царевичем, допрашивали с пристрастием – он же считал, что беду пронесло, родителя удалось обмануть. Думает, что сын искал протекции цесаря, боясь монашеской кельи. Пускай думает... Афросьюшка, друг сердечный, одна знает истину. Постриженье не грозит, дозволено жениться и жить на покое, в пажитях сельских, в чаянии благих перемен. Правда, распубликован манифест об отречении царского сына от престола, но нет такой хартии, которую гистория не могла бы перечеркнуть.
Ни кнут, ни железо оков не коснулись его. В марте царь с Екатериной, сановники двинулись в Петербург – последовал и Алексей, в отдельном возке, под охраной конных гвардейцев. Эскорт или конвой? Нахлынули мрачные мысли. Вспоминал кончину Кикина, невольно ощупывал себя.
Друзей нет более, только Афросьюшка... Вынимал нательный крест и, держа перед собой, молился – о здравии рабы божьей Ефросиньи и младенца, о благополучном прибытии. Да минуют их болезни, татьбы, всякие несчастья в пути.
* * *
Доменико писал:
«Сын царя заключён в крепость. Таким образом, моё творение служит тюрьмой, и принц оказался её узником. Он изменник и наказание терпит справедливое. О, если бы правители всегда карали подлых и миловали благородных! Но всё равно – назначение фортеции иное. Я строил её для защиты города, тюремные решётки, надзиратели – насмешка над нею. Увы, такова судьба тысяч укреплений. Говорят, зловещую роль в деле царевича сыграла его любовница».
Был апрель, Ефросинья приближалась к Петербургу, радуясь солнцу, весенним проталинам. Слышно, Алексей жив, на свободе. Вдали показались и ураганом налетели всадники.
Зелёные гвардейские мундиры. От губернатора... Неужто почётный эскорт? Подбоченилась, стрельнула глазами в офицера. Тот сухо кивнул и слова не вымолвил, невежа.
– Его высочество здоров ли?
Грубиян промолчал и крикнул кучеру, чтобы погонял. Захолонуло на душе... Велела везти прямо к царевичу.
– Приказано к его светлости...
Кони, отмахав вёрст пять, остановились. Не в городе – в задней каморке постоялого двора принял Меншиков. Поклонился, величая пресветлой царевной, но при этом то сыпал мелким смешком, то хмурился. Откуда-то дуло, две толстые сальные свечи – будто в церкви над покойником – жирно оплывали. Предложил водки для сугреву, Ефросинья отказалась.
– Алексей где?
Спросила отрывисто, насколько хватило дыхания, – тревожный полумрак душил се.
– С чего это ты? Ничего не сделали, матушка моя... Ничегошеньки... Пальцем не тронули...
– Так вези к нему!
Дерзость отчаяния говорила в ней. Зачем заманили сюда? Узнать правду, скорее узнать правду... Как он смеет издеваться? Алексей последним писаньем, из Твери, обнадёживал: отпущен в деревню, ни до чего нам дела не будет. Ни до чего...
– Погоди, госпожа моя, погоди! Перебила ты меня, фу-ты, о чём это я?.. Не тронули, не тронули твоего... Людей на плаху спроваживает, а сам целый... Голова на шее... Покамест целый.
Белки глаз Меншикова блеснули зло. Ефросинья задыхалась. В полыхании свечей вытянулся перед ней мёртвый Алексей. Чуяла ведь, всегда чуяла...
– Прошенный же, – произнесла растерянно. – Али нет? Царь не простил разве?
Стакан тыкался ей в губы. Мычала, крепко стиснув челюсти, жмурясь. Вдруг что-то холодное брызнуло в неё, потекло по лицу. Водкой плеснул... И снова потешается. С хохотком своим глумливым вытер ей щёки платком – вжимая до боли. Вскрикнула. Плюнуть бы в пучеглазую рожу...
– Прикрутят тебя к столбу, государыня моя. Шарахнут кнутом, голубушка. Пяточки прижгут. Тогда пошибче заорёшь.
Так и есть. Завлекли его, наобещали... Он слабый, пытки не выдержит. Убили его... Теперь вот её в застенок.
– Жги! – сказала она, схватила свечу и подала, плача, ненавидя. – Жги!
– Дура! На што мне шкура твоя палёная? Слушай меня!
Царевич пока цел и невредим. Но суда, строгого суда ему не миновать. Да, прощён царём, но открыл ему лишь малую вину, а главную, страшную вину утаил. А она вышла вся. Через доброхотов, своих и австрийских. Ведомо – бежал не оттого лишь, что боялся монастырской кельи. Выросла вина. Хотел помощи войсками от цесаря. Наследовать трон жаждал. Молил о прощении, надеясь и впредь лицемерить перед родителем.
Данилыч сочинял. Никто не показал под пыткой, никто не доносил о сокровенных замыслах Алексея. Но и в искренность его мало кто верил. Менее всех сам губернатор-свидетель многих лет злобного упорства, тихого бунта.
– Ходила ты в принцессах и забыла, поди, наше условие. Аль не забила?
Ефросинью словно толкнуло. Из ума вон! Пребывала до сего часа в лучезарном и цепком сне. Радовалась письмам Алексея, радовалась тому, что едет домой, избавилась от тоскливого прозябанья в чужих краях. Пахнуло волей. И будто ветер весенний сдул коришпонденцию, взятую из замка Святого Эльма, на всякий случай.
– Не забыла? Тогда мне, как условились, как на духу... А то не взыщи, голубка. Отсюда, в сей момент, на острожный харч...
Странное дело – Ефросинье вдруг сдаётся, что она предвидела всё это... Встречу с князем, именно такую, и эти погребальные жёлтые свечи, некий святой в углу, без оклада, задымлённый – борода белеет во мгле да облаченье в чёрных крестиках.
Алексея же будто и не было на самом деле. Было виденье, обнимавшее её нежными полудетскими руками. Твердило небывальщину, опутало, одурманило...
Пора кончать...
Бумаги лежали в возке, под тюфяком, в сумке. Солдат принёс. Меншиков вытащил пачку – почерк знакомый. Белки глаз заиграли весело. Потом слушал Ефросинью. Оба похлёбывали щей с солониной. Райское то было яство для Данилыча.
Оправдалась тактика, намеченная с великим тщанием. Доказательства измены есть. Падёт угроза, висевшая над отечеством и над ним, Данилычем, столько лет. Измену не прощают. Только бы не надурила Фроська, не вильнула в кусты... Нет, не отопрётся. Усвоила бабьим своим умишком, что обречённому помогать – самой гибнуть. Ни за грош ломаный... Не зря тащился встречать – нельзя было мимо себя допустить к царю. Всю правду о сыне получит.
Уличён супостат, и Фроськина служба зачтётся в добродетель ему – губернатору, преданному слуге монарха.
Двойная виктория.
Суеверие помешало возблагодарить тотчас, мысленно, неведомого угодника, почти неразличимого на иконной доске. Да и жалок сирый, без ризы...
А девка вцепилась ногтями в рукав – и отчаянно:
– Хотел он царства, хотел. Ещё чего тебе? – Потом нагло, выкуси, мол. – Всех ближних отца удавить... Тебе казнь особая.
Сладострастно, словно не о себе речь, с любопытством щекочущим выведывал Данилыч:
– Какая казнь?
Оробела теперь. Ухмылка на лице князя застыла, сделалась гримасой. Ефросинья следила за ним исподлобья, выдавливала:
– Глаза выжечь сперва... Потом на колесо.
– Править с кем хотел?
– Соберу, говорит, из самых лучших фамилий... Однако молодых... Дума, как у прежних царей... А чаще куражился – я, мол, самодержец, и один могу...
Наутро Фроську допросил царь. Канцелярист записывал. Удостоверила девка, что Алексей «...наследства желал прилежно». И повторила: «Наследства желал всегда, и для того и ушёл», – стало быть, под власть чужого государства, за помощью. Сказано самое главное.
«Я старых всех переведу и изберу себе новых по своей воле; когда буду государем, буду жить в Москве, а Петербург будет обыкновенным городом; корабли держать не буду; войско стану держать только для обороны, а войны ни с кем иметь не хочу, буду довольствоваться старым владеньем, зиму буду жить в Москве, а лето в Ярославле».
От добытого родителем всё же не отказывается. Однако разное болтал – семь пятниц на неделе. Когда дошёл слух, будто в Мекленбурге в войсках восстание, – царевич радовался, хотел смерти отцу. Слал секретные цидулы в Россию, «чтоб в Санкт-Петербурге их подмётывать». О чём они? Кому писал? Ефросинья ответила ловко; Алексей-де даже от неё многое скрывал. Любопытствовала, но безуспешно. Он твердил:
«Что тебе сказать? Ты не знаешь. Всё-де ты жила у учителя, а других-де ты никого не знаешь, и сказать тебе нечего». Оправдалась Ефросинья.
Четырнадцатого июня Алексея, надев оковы, отвели в крепость. Вскоре начали пытать. Он изворачивался нелепо, противореча себе. «Все его поступки показывают, что у него мозг не в порядке», – доносил французский посол де Лави.
Царь почёл себя не вправе решать судьбу преступника и назначил судей – церковных и цивильных. Духовенство высказалось уклончиво, сославшись на Евангелие: Христос простил блудного, павшего к ногам отца с раскаяньем, и женщину, которую грозили умертвить за прелюбодеяние. Пусть решает царь. Светские чины постановили почти единогласно: предателю – смерть. Пётр согласился с ними. 24 июля приговор объявили.
Два дня спустя Алексей умер в своей камере, не дождавшись публичной казни.
Ефросинья пыткам не подвергалась, была под стражей недолго. Данилыч выполнил условие, впоследствии сосватал ей жениха. В подлое звание обратно не впала, сделалась офицершей.
Никифор Вяземский на допросе показал, что царевич не делился с ним замыслами, обижал недоверием, часто колачивал и таскал за бороду. Ефросинья подтверждала. Наставник был сослан с семьёй в Архангельск и через несколько лет освобождён.
Сообщники Алексея – Авраам Лопухин, Афанасьев и многие другие – поплатились жизнью за сумасшедшую авантюру. Аресты продолжались. Кара постигла и молчавших, ни в чём не уличённых. Инокиню Елену – бывшую царицу Евдокию – перевели из Суздаля на север, в дальний Ладожский монастырь. Любовника её, тоже непричастного к бегству царевича, казнили.
Палачи без дела не сидели.
* * *
Траур по изменнику не носят. Над Невой полыхал фейерверк, в Почтовом доме и в господских хоромах вкусно ели и забавлялись. Справляли годовщину Полтавской битвы. Праздник и послезавтра, накануне похорон Алексея, – в Адмиралтействе спущен на воду корабль «Лесной». Царь сам подрубает опоры, пренебрегая опасностью, открывает в меншиковском дворце застолье. Окружающих поражает его выдержка. Очерствел действительно или геройски владеет собой?
Из-за пустяка какого-то напустился на Апраксина:
– Я читаю в твоём сердце. Умри я раньше тебя – ты скажешь: «И слава богу, избавился!» Дела мои осудишь, боярин... Что мы взяли у шведа, тебе ведь не дорого – признай! Уступишь ведь... Флот уничтожишь и город этот, лишь бы вернуться к старому.
Вскинулась трость и скользнула по плечу. Адмирал пятился – раб он преданный, всегда, всегда... Колени слабели, подмывало упасть, ползти, вымаливать милость.
Увы, невозможно прочесть потаённое и дознаться, вывернуть наизнанку сосуд грехов. Определить сечением анатомическим, чего стоит подданный, сколько в нём гнилого, на что пригоден.
Где же средство против зла?
Регламент у царя прежний. Встаёт в пятом часу утра – славно бы и вовсе не спать! До завтрака входит Макаров с докладами – сытое брюхо голове помеха. Уже седлают царскую двуколку – многие в городе просыпаются от её тарахтенья. В час пополудни обед. Подают щи, кашу, мясо с солёным огурцом. Рыбы и сладкого царь не любит. Часа два отдыха, потом в кабинет – исправлять и дописывать «Историю Северной войны», слушать разных людей, диктовать письма, инструкции, указы. Вечером визиты, консилии, чья-нибудь свадьба, крестины, а то – с ящичком хирургических инструментов к больному. Уделяется время и для токарных занятий. Царской мастерской в Летнем доме ведает Нартов[121]121
Нартов Андрей Константинович (1680 или 1694—1756) – русский механик и машиностроитель, автор изобретений в различных отраслях техники; один из основателей механических мастерских Петербургской академии наук.
[Закрыть] – мудрейший механик и художник. Станок изготовил, какого и в Англии нет.
– Трудясь руками, отгоняешь болезни, – твердит царь.
Вместе с Нартовым сделано паникадило из слоновой кости для Петропавловского собора – двадцать шесть рожков, три яруса с подвесками. Из кости же вырезан царской рукой портрет малолетнего королишки Людовика – выдать бы за него дочь Елизавету...
На нужды свои царь тратит адмиральское жалованье – и хватит! Порицает роскошь, советует потребности ограничивать. Радость не в богатстве, радость – в исполнении долга перед государством.
Как внушить сие?
Объезжая столицу, Пётр застаёт врасплох нерадивых, пристыдит, а иногда и палкой отдубасит.
– Я царь, а у меня на руках мозоли.
Летний дворец, как и ранее, скромен, только картин прибавилось да книг. Почти две тысячи томов в библиотеке, доступной каждому. Впрочем, не для лёгкого чтения служат – разные науки в себе содержат.
Фридрих, прусский союзник, прислал в подарок янтарный свой кабинет – зеркала, унизанные этим морским камнем золотого свечения. В царском жилье неуместен, а в Петергофе, в чертоге престижном, прибить пока негде. Лежат ящики в пакгаузе. Король же просит ответный дар – две сотни рослых мужиков для своей гвардии. Даже мерку дал, чтобы не меньше шести футов были. Каприз, но придётся уважить, хоть и жаль молодцов.
В Летнем саду Леблон хотел насыпать холм, пустить каскад. Излишество! Работы идут по плану, черченному царём в Спа. Посажен лабиринт, подобный версальскому, – в клубке аллей будут размещены литые фигуры из басен Эзопа, звери и птицы величиной в натуру. И мораль под ними, крупными буквами. По краю сада, параллельно Неве, воздвигаются три галереи для показа живописи и особо ценных статуй. Не токмо взор ласкают, но и просвещают умы.
Учить, учить подданных...
В цифирных школах простейших сидят рядом юноши, из семей шляхетских и посадские. Счёт, письмо всякий работный должен знать, а уж мастер – обязательно. Не закрыты для простолюдина и более высокие ступени ученья – была бы к тому амбиция.
Недорослям дворянским, кои отлынивают от наук и от службы, запрещено жениться. Сгоняют недорослей в Петербург, царь устраивает им смотр. Вылезают из повозок понурые, испуганные, в коробах деревенское пропитанье-солонина, сало, сухари, квашеная капуста. Сами пропахли теми разносолами. Встают в шеренгу, как новобранцы, чешутся, сморкаются.
– Насиделись на печи? – спрашивает Пётр. – Задницы-то протёрли, поди...
Ищет в глазах искорки ума и охоты... Таких, если мало-мальски грамотны, в Навигацкую школу, в Морскую академию.
Ученикам предписано слушаться не только учителя, но и солдата, который присутствует в классе, наблюдая за порядком. Заметит бесчинство – отлупит и дворянина.
У моста через Фонтанку сколочен театр. Искусство Мельпомены после смерти царевны Натальи заглохло – Пётр велел набрать новую труппу, а пьесы представлять полезные. Заладили «Спящую красавицу и хромого рыцаря»– надоело! Чему наставляет? Хватит угощать иностранными сказками да русскими старыми действами из Ветхого завета! Нужны новые пьесы. Фарс – так без шутовства пустого, обличающий зло, драма – чтоб побуждала к поступкам доблестным. Автору обещана награда.
Театр покамест в деревянном сарае. Трезини расписал его пилястрами, вид придал каменный. Притворства подобного в столице ещё много. Сенат, заведения учебные покуда в мазанках, в тесноте, – швейцарец не раз напоминал.
Городовое дело опять на Екимыче, понеже Леблон оказался к управлению неспособен.
Заезжает Пётр к зодчему часто. Видят их вместе на Васильевском.
У стрелки острова берег изрыт, дощатая мостовая разломана, утоплена в болотной слякоти. Работные, вымазанные словно черти, таскают кирпич с застрявшей телеги. Начата Кунсткамера. Табор подвод обступает первые её выросты, а дальше, на самой оконечности суши, – стайка мазанковых домишек, будто беглецы жалкие, взывающие к тому берегу, к цитадели. Застраивать стрелку, застраивать камнем...
В памяти царя возникает Гданьск, центральная площадь его – Длуги тарг. Тоже край острова, тоже вода с трёх сторон. Ворота, за ними река...
Кунсткамера доверена Маттарнови[122]122
Маттарнови Георг Иоганн (ум. в 1719 г.) – немецкий архитектор, в 1714—1719 гг. работавший в Петербурге.
[Закрыть] – зодчему опытному, нанятому в Германии. Ему в помощь назначен Киавери, прибывший из Италии, – постройка большая, сложная, специально ведь для хранения и показа раритетов. Музей, величайший в Европе... Отчего же не быть ему в центре столицы?
Что скажет Екимыч? Против музея, у Малой Невы, вытянется Гостиный двор. Сенат с Троицкой площади перевести сюда же. Сенат и все коллегии... А хибарки убрать, и вместо них...
– Ничего не надо, Екимыч. Чисто на мысу, гладко... Першпектива вольная.
Пределы зрению – крепость и поднявшийся за бастионами собор-копьеносец, корабли на невском просторе, кипень молодого Летнего сада. Всё это увидел Пётр, охватил широким распахивающим жестом и держал некоторое время в раскрытых ладонях, нежно и восторженно.
– Погоди, Екимыч! Вот отвоюемся...
Упрямство Карла остыло, вынужден неугомонный вояка признать поражение. Дипломаты обеих держав встретились на Аландских островах, шведы цепляются за Балтийское побережье, требуют у победителя уступок, компенсаций. Уже полгода прошло в яростных, изнуряющих словопрениях.
Мир, казалось, близок...
Тысячи пуль пролетели мимо отчаянного короля – одна нашла его. Осаждал норвежскую твердыню Фридриксгаль, убит 30 ноября 1718 года выстрелом в лоб, с короткого расстояния – вероятно, наёмником. Событие загадочное – шесть офицеров разных наций будут оспаривать честь исторического удара.
На троне сестра Карла Ульрика-Элеонора. Тяготы войны ведомы ей лишь с чужих уст, а кровь викингов горяча в её жилах, – велит спасать империю, сопротивляться. Навязывает дружбу Англия, обещает помочь против русских. Консилии на Аландах прервались.
Марс кровью ещё не напился.
* * *
Порфирия снова потянуло в Питер.
– Схожу ещё разок... Погляжу на голубков своих...
Лизавета бранилась и причитала:
– Экой шалый, господи! Нужен ты им... Старый – что малый. Упадёшь ведь.
– А это на что?
Схватывал ладанку, подносил Лизавете к носу. Выручала же стрела Ильи-пророка, авось и нынче не подведёт. Только вот потёрся мешочек... Лизавета сшила новый, скрутила крепкую льняную тесьму, окропила слезами своими и святой водой.
Пробовал отговорить и Никодим, но, видя упорство друга, отступился:








