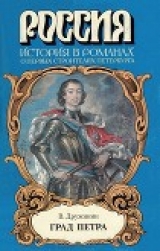
Текст книги "Град Петра"
Автор книги: Владимир Дружинин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 33 страниц)
– Шпионаж – дурное слово, но что делать? Благородные люди поймут наши цели.
Армия вездесущих лазутчиков заложит основу для новой, разумной политики. Торжество разума приведёт к всеобщему миру и благополучию. Неужели не ясно? Гарлей кивает, из-под опущенных ресниц струится ирония. Непостижимо – ловкий писака, изведавший все тяготы жизни, тешит себя фантазиями.
Надо ли разубеждать?
Гарлей – глава агентуры, Дефо – его помощник. Средства запрошены у казначея королевы и выданы, притом немалые. Во Францию отправится Джон Огильви, бывший капитан военного корабля. Поселится там с женой, в качестве коммерсанта, сменив имя. Шотландец родом, он притворится врагом Анны. Обосноваться в Голландии поручено Джону Дрэммонду – наблюдать надо и за союзниками.
Изучать загадочную Московию поедет Чарлз Витворт, политик опытный, назначенный туда послом. С инструкциями подробнейшими относительно царя, его сторонников и врагов, его войск и зарождающегося флота, его новой крепости на Неве, его здоровья и сокровенных намерений.
* * *
«Мой государь премилосердный капитан здравствуй на множество лет!»
Диктуя, губернатор повышает голос. Кому ещё дозволено такое обращение? Вон Кикин осмеливается, по старой памяти... Скулит там, в лесу. Скучно ему, вишь, мачты добывать.
Волков[35]35
Волков Борис – с 1704 г. переводчик Коллегии иностранных дел.
[Закрыть] к сему камратству привык. Не сходит с его лица ухмылка секретаря-всезнайки, согнутого, постаревшего прежде времени.
«Городовое дело управляется как надлежит. Работные люди из городов уже многие пришли и непрестанно прибавляются. Чаем милости божией, что предречённое дело будет впредь поспешествовать».
Хватит, поди... Всего не перескажешь. Добавить разве, сколько людей налицо, сколько умерло да в бегах? Нет смысла... Главное – управляется дело.
Почерк у Волкова крупный, старательный, – дабы губернатор мог при нужде иное место кое-как, запинаясь, перечесть, проверить. Однако недосуг. С невольной завистью смотрит Данилыч, как легко скользит перо. «Санкт-Питербурх» – возникает внизу, ещё крупнее, с нажимом.
Звучит покамест непривычно. Всего несколько дней назад, первого июля сего 1703 года окрестил государь крепость на Заячьем и строения при ней. Длинное немецкое название придаёт городовому делу вящую значительность.
Санкт-Питербурх... А канцелярия губернаторская в шатре, посреди луж великих, и дома своего нет у губернатора... Парадный кафтан он однажды надел и измазал, орден Андрея Первозванного, тканый, заказанный Ламбером в Париже, не нашит на одежду, лежит в сундуке.
Поддавшись минутной досаде, вывел подпись неровно – «Александр Меншиков». Коротко, без политесов, без поклонов. На это другие горазды. Царю и так известно, что он, Александр Меншиков, по гроб жизни преданный слуга. И что ждёт он друга сердечного Питера, ждёт с нетерпением.
Бумаг – завались. Данилыч злится на приказных – словно они сами, нарочно растят стопы коришпонденции. Одна бумага другую родит. А тут, без царя, – отвечай всем, решай! Писцов у Волкова трое, где пишут и сургуч льют, тут и спят и едят, В шалаше пахнет прелью, свечным воском, квашеной капустой. Распахнуть канцелярию не моги – дожди атакуют.
Секретарь развернул листок, обмякший от сырости, огласил:
«Если турецкий посол приедет, а водного пути не будет, как его отпускать? Через какие города?»
Вода для турка чистая, да не едет... Три месяца блуждал пакет из Азова, искал царя. Эх, каптейн, может, зря снаряжаем тебе почту? Может, сорвался уже с верфи. Когда ждать тебя? Никогда ведь не упредишь.
Цидулку подшить и забыть. А это что?
– Феатр, – выдавил Волков насмешливо. – Корчмин феатр сварганил.
– Чего квохчешь? И у нас как у людей... Ох, начертил! Куриной лапой, что ли?
– Помост, с которого смотрят, – объясняет секретарь, показывая длинный, кособокий прямоугольник. – А это фонари простые, а там фигурные. Они, стало быть, на игрище, скоморохам светят.
– Сам ты скоморох. Коза там с дудкой разве?
– Ну, машкеры...
– Актёры. – Данилыч внятно произнёс французское слово Ламбера.
В Москве, слыхать, школяры уже играют пиэсу в честь победы на Неве. Нам не отставать... Здесь посмотришь театр, Пётр Алексеич!
– Придёт Корчмин, спасибо ему от меня.
Дерева надо немного – на помост и на столбы. Хватило бы рук на всё... Актёров нет... В Москве Славяно-греко-латинская академия, а тут ничего... Проблем, однако, не срочный. И так светло, фонари зря не жечь. А без них какой же театр!
– Александр Данилыч! Челобитья...
Тьфу, не отучить его! Челом в землю не бьют теперь. Прошения! И длинные, пропади они... Губернатор, как и царь, ненавидит многословие. Волков расторопен – прочёл загодя, сообщает важнейшее.
«Драгунские полковники Девгрен и Морель Ямской уезд разоряют вконец, и мужики бегут... Я писал им, ни во что не ставят. Сборы правежом».
Выколачивают деньги... Данилыч сжал кулаки. Обнаглели иноземцы – словно в своей вотчине. Плачется ладожский воевода, не врёт, поди... Дальше что?
«Татары и казаки грабят беспощадно»...
Фельдмаршал чего глядит? Не оторвёт задницу от кресла... Тотчас в мозгу повторилось некогда запавшее – «а что по дороге разорено и выжжено, и то не зело приятно нам». Помню, каптейн!
– Внушим Шереметеву... Составишь вежливо, без попрёков. Герой... Его в театре славят.
Весной он прибавил себе лавров – ныне4 с падением Яма и Копорья, занята вся Ингрия.
– А мужиков, которые бегут, сюда направить.
Почту отошлёшь, а из ума не выкинешь. Не забыть, кому что делать назначено... Башка лопается. Ох, каптейн родной, думаешь, сладко губернатору? В походе во сто крат легче.
Вышел из душного шатра с облегчением. Слава богу, изба для канцелярии почти готова... Обдало водяной пылью. Окорённые сосновые брёвна, отмытые дождём, кровавились. Под ногами пружинила стружка, усеявшая берег. Река несла плоты, срубы – всё это вползало на сушу под крики, стоны, брань.
– Отколь, молодцы? Московские? Оно и видать – соколы... Где ещё таковские, как наши московские!
Зычно, тоненько прокричал бывший пирожник, ухватил бревно, помог. Обтёр ладони о чью-то рубаху.
– Побыл бы с земляками, да некогда...
Наведаться к пильщикам, на склады, на конюшни, пугануть интендантов – и на Заячий. Не однажды в день туда... И везде, мысленно, рядом царь. Данилыч ускоряет шаг, как только представится впереди спина Питера.
Крепость на Заячьем обретает вид боевой, вал по всему обводу растёт, заострились грозящие на все стороны бастионы. Их шесть: один назовут Петровским, другие получат имена лучших слуг государевых – Головкина, Трубецкого[36]36
Головкин Гавриил Иванович (1660—1734) – государственный деятель и дипломат, сподвижник Петра I, первый русский государственный канцлер (с 1709 г.).
Трубецкой Иван Юрьевич (1667—1750) – князь, приближённый Петра I, киевский губернатор, генерал-аншеф.
[Закрыть], Нарышкина и Зотова, неизменного в кумпании «князя-папы». Бастион, смотрящий на север. – Меншикова. И требует особого его попечения.
Забыть Заячий остров, забыть... Санкт-Петербург! Ламбер сожалеет: отчего не Сен-Пьер? Француз прискачет, облазает бастионы, наругается всласть – и обратно в войска. Шереметеву он нужнее. Данилыч не спорит. Наставления генерал-инженера усвоены: между сваями насыпать гальку, чтобы не гнили от воды, забивать не густо, а то одна другую выдавит. Концы свай оковать железом – быстрее войдут, Вобан советует... Так у него, поди, мастеров довольно и время не торопит.
Дубасят копры, сотрясают землю под ногами. Прибаутки губернатора редко вызывают смех. Лица от усталости серы, – длинен летний день, прибавилось и работы, жаль ведь терять светлое время. Истомились и начальствующие.
«Только то бедно, что солнце здесь высоко ходит», – вырвалось невзначай в письме к царю. Ночи прозрачные, а сдаётся – таят недоброе. Ночь – будто око всевидящее. Ты, губернатор, перед ним гол как сокол, и владения твои обнажает он беспощадно.
Твой Санкт-Петербург...
Деревня или город – не разберёшь. Выйдешь из проёма крепости, где быть воротам, – ступишь в грязь, не успевшую отвердеть из-за ненастной погоды. В мокрую пору кажется – захлебнулся в болоте Санкт-Петербург. Л коли вёдро – он будто ветошь, раскиданная для просушки. Ни посадов справных, ни улиц, тропы да дороги, промятые лаптями, продавленные колёсами, присыпанные стружкой, а на обочинах то ли груда лесного лома, корья, лапника, то ли жилище. Бродят, выискивая траву, коровы и козы, скотинка офицера либо норовистого мужика. Глядь, приспособили поломанный ряж, накрыли чем попало – вот и изба. Что осталось от шведских домов в Ниеншанце, перетащили сюда – сгодились и обугленные доски, и скобы, печная заслонка, подсвечник. Нет-нет да и потянет свежим хлебом. Уже и хозяйка в доме – венчанная алн из гулящих. И надо бы губернатору навести порядок, причесать сей разлохмаченный Санкт-Петербург, да какими силами? Все руки сейчас – для дела главного, для защиты.
Где Крониорт? Что замышляет? Темноты, что ли, ждёт осенней? Нумерс не кажет своих парусов. Что означает бездействие противника, спрашивает губернатор, ведя про себя бесконечные беседы с царём? Всяко же в покое швед не оставит.
Скоро ли пожалуешь, Пётр Алексеич? Работами, чаю, будешь доволен.
К Неве, скользя на спуске, тянулись табунком лошади. Свалявшиеся гривы, исхудавшие шеи, выпирающие рёбра... Лицо государя видится искажённое гневом. На небрежение, на воровство. Драгунские кони и те страдают. Веришь, каптейн, и у меня злость накипела!
Паче огорчит царя Алексей. Задержали в кабаке странствующего юрода. Хвастал, что царевич зазвал его к себе, потчевал и уговаривал идти в Суздаль, к царице Евдокии, передать поклон и принести ответ. И тот юрод обещался, взял на дорогу два рубля, однако идти побоялся и те деньги учал пропивать. На дыбе, как подвесили да стали выкручивать суставы, испустил дух. Цидули никакой при нём не нашли.
Предать забвению такое нельзя. Алексей, нахохлившись, огрызался:
– Тебе-то что!
– А то, что отец поручил мне тебя со всеми потрохами.
Мальчишка задышал громко – вот разревётся. Нет, выпалил, дрожа от ненависти:
– Мне ты никто... Холоп...
Не сдержался, отвозил за волосы царского сына. Что сказать Питеру? Ты бы, милостивый, больнее надавал. За тебя ведь обидно. Суди меня, отколоти!
Царю одни горести от Алексея. Сопляк! Мамку ему... О государстве должен помышлять наследник престола. Чему его пруссак, таракан усатый, учит? Пожёстче надобно вразумлять отрока. Обломается, – считает царь. Неизвестно... Взгляд Алексея, взгляд больших тёмных глаз, впился и преследует. Из-под высокого лба, из недобрых теней под бровями...
Данилыч корит себя: напрасно вспылил. Не след бы разжигать враждебность. Наследник ведь... Небось тысячу раз повесил он, тысячу раз колесовал, задушил, обезглавил на плахе Меншикова, царского камрата...
Мимо протарахтела телега, на ней недвижно, будто мёртвый, лежал мужик в драной рубахе. Этак вот повезут с казни...
Телеги гудели, въезжая на мост, переброшенный от крепости на Городовой остров, через протоку. Лодки внизу прогибались, вода чернела, в пучине собиралась ночь. Совершая обход, губернатор не забывал и собственную хоромину. Ещё не дворец – бревенчатая изба, но больше царской, два этажа и конюшня возле, казарма для стражи и прочие службы.
Плотникам досталось. Стены без кровли и не обшиты – мешкотня! Тот мужик, вытянувшийся на сене, из ума не шёл. Может, в самом деле покойник? За ним, за телегой, за понурой спиной возчика, – зрелище казни, угроза, исходящая от Алексея. Чем отвести? Колдовством разве...
Есть же магия... Царь посмеялся бы, а она есть, Гюйсен и тот подтверждает. Растут же травы, властные над человеческими хотеньями... Вспомнилась Фроська – в зареве огня, бушующего в камине, голая, токмо с губернаторским шарфом на бёдрах. Каркала по-вороньему: я, мол, колдунья.
Отдать девку Алексею? Осчастливит принца – сулил Ламбер. Введёт во храм Эрота... Нахваливал француз, а пресытился скоро. Обожает вариэте, сиречь разнообразие. А Фроська в амуре упоительна. И неглупа...
Да нет, рано мальчишке... Интереса к женскому полу не проявляет. Тем лучше... Не для паскудства будет приставлена, убеждал себя Данилыч, а для надзора. Единственно для надзора. Чтобы шагу не ступил Алексей без губернаторского да без царского ведома...
– Поберегись, батюшка?
Кто-то из работных окликнул, а то угодил бы в разверстый погреб. Оттуда несло холодом: зябко в неоконченном здании. Ветер теребит бороды пакли, торчащие из пазов. И это – резиденция губернатора. Впредь до будущего дворца.
И снова – Алексей, лобастый упрямец, его ненавидящие глаза.
* * *
Царь на Олонецкой верфи задержался. Пишет, «дети» его, заложенные на стапелях корабли, здоровы, растут бойко. Развлёк Ламбер, заскочивший на два дня. Вечерами бражничали, судили-рядили о многом, в том числе о царевиче. Француз согласен: понуждать принца нельзя, Эрот приемлет поклонение лишь добровольное. Иначе отомстит – и возымеет отрок вместо желания протест. Но выпускать из виду Ефросинью ни в коем разе не следует.
– Держите её, экселенц? Она способная помогать. Да, да, слово чести... Только надо, чтобы кушала из ваших рук, – и Ламбер сложил ладони чашей. – Надо красивая роба, колье – от вас, мосье!
Во Франции известны девицы разного звания, также и вовсе простые, но пригожие собой, сметливые, умеющие зажечь мужчину, ловкие фаворитки, интриганки. Себе и аманту своему создают карьеру.
Фроська в сей роли? Ламбер обнадёживал. Что ж, попытка не пытка.
– Ладно... Дам я ей робы.
– Это пейзанка, да, но шарм, о, шарм имеет от природы.
«Шарм», «аллюр» – он сыпал славословия, плотоядно причмокивал, и Данилыч слушал, силясь заглушить в себе поднимавшуюся мужскую неприязнь.
Фроська, стало быть, куртизанка? Французское слово, в коем почудился трепет шёлка, возвысило девку несказанно.
Вороха трофейного добра доставлены в Санкт-Петербург из шведских имений. Данилыч отсылал галантные предметы в Москву, невесте Дарье, и получал нежные строки любви и благодарности. Теперь подобрать для Фроськи... Набил сундук платьев, коротких и длинных – какое-нибудь да налезет. Сунул в карман ожерелье из кроваво-алых камней, славно будут гореть на белой коже. Воскресным утром, в двуколке, с эскортом драгун отъехал.
Губернаторская мыза вёрстах в десяти. Правит усадьбой Иван Фёдоров – брат Фроськи, а под её началом птичник, огород. Охрана – из личной гвардии Данилыча.
Одного драгуна отослал вперёд, оповестить. Двигался не спеша, вдыхал запахи скошенной травы. Приволье, не то что в городе, воняющем дымом, дёгтем, навозом... Распахнулась аллея вековых лип, в конце её – бурый, цвета запёкшейся крови фасад господских палат. Майор Арвидсон, бывший владелец, исчез с семейством бесследно. Данилыч не замедлил занять поместье, от грабежа спас.
Поджарые борзые майора к новому хозяину привыкли, прыгают, ластятся. Гонять зайцев – блажь пустая, но псарня должна быть. Всё должно быть, что сиятельному приличествует. В Санкт-Петербурге ты слуга царский, а здесь ты, Алексашка Меншиков, суверен. Два медных рыцаря на доме, скрестив копья, бьются в твою княжескую честь. Далеко шлют лучи. О том первое старание было – начистить. Стереть герб Арвидсона, вылепить княжескую корону и щит, ожидающий эмблему. Твоё княжество, Алексашка! В сём малом – предвестие будущего...
Слуга, распахнувший дверь, успел лишь накинуть ливрею, не застегнул. Данилыч ухватил пуговицу, оторвал, швырнул в угол. Проспала Фроська, что ли?
В сенях встречают идолы грецкие – справа, у лестницы, силач с дубиной, Геракл, слева Аполлон с гуслями. Статуи алебастровые, щербатые, а Данилычу видятся мраморные – и не в таком доме, а во дворце.
Фроська сошла в лазоревом халатце, по-летнему. Поднесла на подносе чарку с водкой. Данилыч отхлебнул чуть, голову решил сохранить ясную. Слегка коснулся губ, со сна горячих. Фроська глянула вопросительно, повернулась. Сапожки, обутые на босу ногу, защёлкали по ступеням зазывно, обнажились полные икры. Бывало, он кидался следом, объятый тем адским пламенем, который пожирает грешников. Ныне насыщен метрессой, волен оборвать прнтяженье женского тела, его разительной чухонской белизны. Однако оберегает девку ревниво, даже от царя.
В парадной зале Арвидсона из стен торчали гвозди – парсуны предков майор увёз. Купить картины негде; покой, утыканный гвоздями, неприятен, враждебен.
– И к заутрене не встала?
– Не... Умаялась вчера.
– Али ты люторка?
– Хоть и люторка... Бог везде есть.
Растягивает слова удивлённо – говорила, мол, зачем спрашивает? Семья православная. Отец служил у барона – егерем али лесником, камердинером, – тут в её рассказах противоречие. Родители умерли от оспы, когда ей было двенадцать лет, жила у скупой, драчливой тётки, от неё увёл офицер-семёновец, увёл, а то сама бы сбежала.
Православная – в русском, стало быть, законе, коли не врёт... Пуще дивилась Фроська – господин заставил её произнести «Отче наш» и молитву богородице.
В опочивальне, покосившись на мужчину, принялась застилать постель, осенённую широким зеркалом. Умна, не навязывается... Халатец распался, блеснула отражённая нагота. Тотчас затянула и, шагнув к господину, положила на лоб прохладную ладонь:
– Кайки.
Значит – баста, отринь всё, угнетающее тебя! Ладонь мягко растирала, разглаживала морщины – печать губернаторских повседневных трудов. И точно – целительная эта ласка.
– Кайки, – повторил Данилыч и весь подался к женщине. Она, крепко сжав узел пояска, отошла.
– Погодь...
Что за сила в ней – зажжёт и в следующий миг охладит! Метресса преобразилась в строгую домоправительницу, по её зову явилась комнатная девка, выставила на столик угощенье, отдёрнула цветные платы на окнах. День в спальне был пёстрый, стал солнечным, облил сияньем серебряные чарки, тарелки с лососиной, с ветчиной, глазурь глиняного жбана со сметаной, до которой Данилыч весьма лаком.
Фроська ела по-иноземному, от ломтя хлеба, лежавшего на скатерти, отламывала по кусочку, рот вытирала салфеткой. Видя, как губернатор лезет пальцем в жбан, улыбалась, словно мать шаловливому дитяти.
– Сладко? Лучше моей сметаны нет.
Данилыч набирал густоты и облизывал пальцы, жмурясь. Впрямь уносился в детство.
– Царю отвези. Презент от меня.
– На кой ляд, – буркнул Данилыч. – Ему мясное...
– Ну так царевичу.
– Отстань!
Вечно сует сметану свою... Данилыч склонен поглощать вкусную еду молча. Уплёл половину объёмистого жбана, пальцы отмыл языком чисто.
– Бедно-ой, горемычно-он, – запричитала Ефросинья совсем по-деревенски, подперев рукой щёку. – Кто пожалеет? Никто не пожалеет... Царица заперта, сыночек здесь мается, плачет...
– Цыц! – и Данилыч стукнул кулаком по столу.
– Так я с тобой только...
– Забудь, выкинь из башки! Царь за это...
– Что? Меня простит, чай.
Молвила со смешком, играя глазами. Данилыч обозлился не на шутку.
– Дура! Дурища!
Отозвалась невнятно, будто захлебнувшись слезами, потом прыснула. Феатр! Гнев, однако, угас.
– Обожди, может, и ублажишь Алексея. Сметаной, сметаной, чем ещё? Мал он для прочего... Мызу отведём ему, не всё же по армейским квартирам мыкаться.
Вообразилось – гладит лоб Алексею. А если царь навестит сына... Прикажи ей – и перейдёт к любому. Безропотно... Сказав себе это, Данилыч помрачнел.
– Ладно, решать государю...
А Фроська лопотала, подливая хозяину водки, рада была бы ходить за царевичем. Утрату матери не возместить, но хоть немного отогреть сердце мальчику – тошно небось среди солдатни. Данилыч изучал метрессу пристально – доброта искренняя или опять феатр?
Чарка его наполнялась то анисовой водкой, то можжевеловой, то коричневой, на зверобое. Фроська пила мало, а глаза блестели. Косилась в угол – челядинки внесли туда губернаторский сундук.
– Забавки тебе, – бросил Данилыч.
Стремглав кинулась туда метресса. Выхватывала одёжки, расправляла, прикладывала к себе, швыряла на пол. Разлетевшиеся юбки, платья, телогреи, перчатки ковром легли вокруг, она уже ступала по ним небрежно, по его, Данилыча, подаркам. Рассчитывал ошеломить богатым гардеробом – получилось иначе. Не впору наряды, не в цвет. Один убор – тафтяной, шитый серебром, низ на обручах – вроде по росту, но не потрафил моде. Тьфу ты, привередница!
Засим Фроська пробежала по тафтам, по шелкам и атласам в каморку, служащую кладовой. Выволокла охапку одежды, опустила на кровать. Сверкнули, брызнули искрами в зеркало парадные одёжи. Из них едва ли что видел Данилыч и снова ощутил укол ревности.
– Вот... Любимое моё, – и Фроська махнула чем-то лазоревым, узорчатым в сторону Данилыча, заставив его зажмуриться. Потом скинула халатец и предстала вся в нестерпимой своей чухонской белизне. Он шагнул к ней, вырвал ветошь, выдавил онемевшими губами:
– Отколь?.. От кого?
Угрозы в голосе выразить не смог. Фроська усмехнулась, приподняла ладонями груди, откинула голову.
– Француз подарил... Францу-узик... – протянула ласково. – От него память.
– Так я те вышибу память.
Кулак разжался, обмяк, прикоснувшись к ней. Но ярость ещё жила, когда он мял и томил её, ненавидя тех, кто ею владел, желая задушить, сжечь в лихорадке плотской всё, прежде с ней бывшее.
– Ведьма ты, – произнёс он, когда оба вышли из сего пожара.
Фроська смеялась, нисколько не утомлённая. Зеркало показывало только её. Бесстыжее зеркало. Данилыч давно порывался снять его.
– Может, правда ведьма? Травы знаешь?
– Какие?
– Ну – околдовать человека?
– Не... Вот подорожник... То дохтурская травка, на раны кладут.
Вскочила проворно, надела-таки лазоревый убор. Ноги закрыло до пят, грудь вылезла почти вся. Данилыч следил, подложив под себя подушки. Враз по ней французская мода... Данилыч заиграл на губах менуэт, и Фроська поплыла, закружилась, перегибая стан, грудью к невидимому кавалеру.
Данилыч нежился на перине, благодушно приказывал:
– Поклонись теперь! Ниже, ниже, ворона! Реверанс делай знатной персоне!
Сняла презент маркиза, на миг обожгла наготой и облачилась в красный шёлк с зелёной строчкой, затем в зелёное сплошь. Танцевала и представила всякие политесы – стало быть, научилась кое-чему в баронском поместье, где родитель был в услуженье. В ночной рубахе, обсыпанной золотым горошком – из скарба здешней баронши, коли не врёт, – изобразила пляску чухонскую. Прыгала, подбоченившись, пока не задохнулась.
Так же и Ламбера потешала... Дьявол-девка, кого хошь расшевелит. И догадлива... Не зря устроила спектакль. Сейчас ластится.
– Ворона я, скажешь? Ворона? Нет, я не хуже баронши. Скажи, не хуже ведь?
– Может, княгиня?
Обронил и язык прикусил. Фроська охнула и прильнула к нему.
– А почто не княгиня тебе! Почто? Ведь мы ровня с тобой.
Вон какой умысел! До сих пор не заикалась, хранила в себе...
– Где ровня! Окстись! Царь не позволит. Нельзя мне...
– А ты спытай!
Отказывать не резон. Данилыч обещал, но без достаточной твёрдости.
– Обманываешь.
Села на постели, выгнулась, волна волос взлетела и опала, хлестнув его по лицу.
– Ладно... Всё одно не бросишь меня.
– Не брошу, – сказал Данилыч на сей раз искренне и подивился. До чего же самоуверенна! Что за магнит адский заключён в женщине!
– А бросишь если...
Замахнулась, скорчив злую гримасу, и в тот же момент свела всё на шутку, принялась щекотать. Напрасно увёртывался, – настигала. Найдёт на неё – дух вытрясет. Он отбился, встал и, покуда натягивал бархатные штаны, кафтан с орденом и голубой лентой-кавалерией, обретал губернаторскую престижность. Строго потребовал квасу. Обтерев рот, промолвил:
– Про царевича молчи! Сбрехнешь если... Себя же утопишь! Поняла? Да тебе и не надо понимать. Глупа ещё... Думать я за тебя буду.
И так, пожалуй, наговорил лишнего.
Отъехал от мызы – и обступили сомненья. Фроська поручение выполнит, девка верна и покорна, а примет ли Алексей? Обиделся. Не примет... Царя вмешивать неразумно. Без понужденья надо... Залучить Алексея на мызу... Завезти его как бы невзначай, на пироги, на парное молоко...
Губернатор составлял прожекты и отметал их. Кампания деликатная, суеты не терпит. Дать время мальчишке, пускай поостынет сердцем.
* * *
Пётр вернулся из Лодейного Поля с ликом сияющим. Из сорока трёх судов, больших и малых, заложенных на верфи, многие близки к завершению. Первым сошёл со стапеля фрегат «Штандарт» – царь привёл его в Петербург.
– Опять покинешь меня, свет мой, – печаловался Данилыч. – Опять я сирота.
– На вот игрушку!
Такелажный мастер, англичанин, вырезал шахматы, подарил государю. Очень этим угодил. Хороши слоны, ладьи, пешки-пехотинцы, да играть когда? Заждался Петербург зачинателя своего и ныне воспрянул. Или кажется так Данилычу?
Всё как будто по-прежнему. Те же копры колотят остервенело, сотрясая остров, название коего – Заячий – начало забываться. Та же щепа под ногами, тот же едкий дым смолокурен. И стоны, вопли, несущиеся с пристаней, и голодное конское ржанье, и тряпье сермяжное на верёвках, на жердях, и вонь из отхожих мест – всё ведь то же. И, однако, настала перемена. Удивления достойно, как действует появление царя – на манер толчка, могуче ускоряющего движение.
Воистину быстрее вонзаются сваи, чаще стучат топоры... Воля каптейна, друга сердечного, проникает и в душу Данилыча – он уже не тот, что прежде.
Совестно теперь скрывать что-либо от царя. Был малодушен, теперь избавился от страха – будь что будет, а повиниться, поведать про стычку с Алексеем необходимо. Невысказанное мучит.
Каптейн слушал, щека его задёргалась, но Данилыч не запнулся, продолжал речь, не чувствуя боязни, даже просил мысленно: «Ударь, ударь!» Пальцы Петра сжались в кулак, и твердел, наливался силой огромный царский кулак. Данилычу никогда не доведётся узнать, на кого был обращён гнев, вспыхнувший в ту минуту, – на него или на Алексея.
Кулак разжался. Данилыч задохнулся от счастья – царь притянул его к себе, поцеловал в лоб.
– Спасибо... Поделом ему... Жаловаться станет, скажу – сам я отвозил, рукой губернатора...
– Не будет он жаловаться, – вставил Данилыч. Зачем – толком не сознавал. Лишь потом уяснилось, что похвалил этим царевича и косвенно себя.
Из подлого звания, а поступил благородно, единственно на свой риск. Не чета некоторым знатным, которые наушничают, пакостят за спиной...
Не утаил Данилыч и мызу, намеченную для Алексея Фроську – примерную хозяйку. Царь кивнул, полюбопытствовал, сколько лет девке.
– Двадцать шесть... О рождестве богородицы.
– Годится.
– Глаз будет за ним. Всякой день...
Царь согласился. Глаз женский зорче устережёт, чем десять часовых. Данилыч, повеселев, заболтался – помянул Фроськины пироги, обхожденье её, чистоту в покоях. Домашнего уюта именно и не хватает отроку.
– Сосунок, – усмехнулся Пётр. – До каких пор? Ничего, обвыкнет...
В тот же вечер нескольким господам досталось дубинкой. Одного унесли замертво.
– Воруешь, гадина, – лютовал царь. – По роже твоей мерзкой видать.
Данилычу сказал:
– Разбирайся тут... Меня корабли зовут.
Раздражению дал волю и хотел немедля устремиться к любимцам. Данилыч насилу унял. Коришпонденции убавилось немного, губернатор всем не ответчик. Вон Шереметев канючит:
«Псковские бурмистры не дают денег на корм слесарям у артиллерии и шведским полоняникам – без указа из Москвы. Как бы тех людей голодом не поморить».
Он, Меншиков, над Москвой не властен. А ведь пустяк! Канителят – знать, к выгоде своей... Немощен фельдмаршал, навёл бы пушку на канцелярию...
– Пушку? – отозвался царь. – Ты бы настрелял... Он законы уважает.
Пишет Шереметев обильно. Представляет к награде драгуна, которому оторвало руку, – на жилах висела, и он устоял, отрезал её. Видать, богатырь... А шведский драгун перебежал к нам – коня утопил ненароком и убоялся наказания. Покидают армию Карла латыши, понеже в солдаты их взяли насильством. И снова о непорядках.
«Привезли ко Пскову семьсот возов сена, и на тех возах не будет и по полвозу, и то всё мокро и в грязи, и лошади не везут, путь зело худ».
Пропадут лошади, пророчит стратег, и сено не довезут, убыток двойной. Чего же хочет? Учинил бы розыск, отлупил бы виновников!
– Стар боярин, стар, – негодует Данилыч.
– Тебе, что ли, войско отдам? Заришься?
– Да ни в жисть...
Увёртка жалкая – нету в душе Данилыча уголка, сокрытого от царя. Манит жезл фельдмаршала, манит неотступно. Мечтание дерзостное... Царь поручил Петербург – и будь, губернатор, доволен!
Вот и засосал Петербург... Позавидуешь Борису Петровичу: он и половины здешней мороки не ведает.
Государь морщится, видя убожество дикого табора на островах. Ровно орда нахлынула и осела... А если просветлеет лицом, – значит, вселяется в город будущий. Ложась спать, оставляет подле себя, на мебели, на полу, на кровати наброски, засыпает, не успев собрать их. Губернатора сии прожекты ожидают утром – с понуканьем и с угрозами. Время, время торопит...
Изволь, губернатор, ведать: после крепости второе по важности строение есть Адмиралтейство, где корабли родятся получше олонецких на пятьдесят пушек и больше! Где ему быть? Царь чертил и зачёркивал.
На стрелке Васильевского острова будет площадь. Там заполыхает маяк, укажет путь купеческим кораблям, кои Петербург всенепременно должны посещать. Где им причаливать? Мало, мало справных пристаней для морских судов. Должны быть, немедля, нынче же летом!
Откуда ему быть, иностранному купцу? Побоится, война ещё... Но лучше не перечить тебе, херц мой!
Крестьянство из деревень прибывает, да не бойко – помещики противятся. Что им Петербург – поля запустеют! Уйдёт мужик на два месяца, на срок наименьший, – всё же убыток, тем более летом. Пока сменят его – страдную пору пропустит.
– Мастеровых добрых будем удерживать, – рассуждает царь.
Им первым отводить избы на семью. Для сего готовить срубы в лесу, сплавлять сюда на плотах. А ставить жилища не нахальством, не наобум Лазаря, а с расчётом на завтра. С царских черновых листков делать чертежи подробные, по науке, и по ним вымерять землю, и без сего не строить и канал не копать. На сей предмет имеются астролябии, купленные у немцев.
Данилыч просил пардону – лежит инструмент, лежит в кладовой. Меряют по-старому, колышками, глазом невооружённым. Тут вновь познал Данилыч царскую дубинку. Потирая плечо, хныкал:
– Ой, изувечил, херц мой!
Её и не выговоришь – астролябию. Она грамотея требует. Царь кликнул всеведущего Брюса, коменданта. Чтоб были землемеры! Обучать их, отыскать среди пленных шведов...
Плечо не долго болело. Жалеет государь камрата своего... Данилыч согласен чаще терпеть – не уезжал бы милостивец, не оставлял одного. Письма Петру на верфь слёзные.
«Зело милость вашу мы здесь ожидаем, без которого нам скучно, потому что было солнце, а ныне вместо оного дожди и великие ветры, и для того непрестанно ждём вас, а когда изволите приехать, то чаем, что паки будет вёдро».








