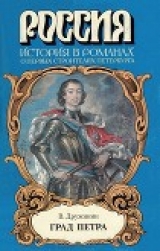
Текст книги "Град Петра"
Автор книги: Владимир Дружинин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 33 страниц)
ЧАСТЬ 2
ПЕРВЫЕ СВАИ

Потомки назовут Ламбера главным зодчим возникшего града, понеже план крепости – его руки.
– Моя фортеция, мой прожект, – повторял он, довольный собой.
Меншиков посмеивался: пускай тешит себя! Авторство никому тут не принадлежит. На Заячьем воплощается образец, известный давно, напечатанный в книге – той самой, которую царь держал в опочивальне.
Трактат Блонделя, переведённый на немецкий, Данилычу не прочесть, но чертёж запомнил, авантажи шестилапой фигуры понял. Осмелится противник учинить десант отчаянный с флота, при поддержке его пушек, или переправится, взяв кронверк, через протоку, – штурм захлебнётся. Отпор получит с фронта и с флангов, огнём пушечным и ружейным. Куда ни подступись – всюду окажется в клещах, ибо пространство между бастионами на то и рассчитано, простреливается насквозь.
Одно отличает план Санкт-Петербурга от книжного – канал поперёк крепости. Нужен он для впуска судов и для снабжения водой на случай осады. И колокольня с высоким, острим шпилем – на самой середине плаца. То церковь апостолов Петра и Павла, коих царь считает своими покровителями.
Ламбер сомневался: не довольно ли будет покамест небольшой часовни? Крепость иного не требует. Если вспомнить наставления Вобана...
– Шпиль, видимый с моря, – настаивал царь. – Для купцов путеводный знак.
– Сир! – отвечал Ламбер. – Это будет как Москва, как Кремль. Храм не для крепость – для город.
Именно этого Пётр и хотел. Город вокруг крепости проступал лишь вчерне, скоплениями палаток, шалашей, землянок, шанцами, превращёнными в жильё, а храм заказан царём на рост города.
– На Руси, господин маркиз, искали холм для церкви либо гору. Здесь таковых нет – так само здание надо возвысить сколь возможно.
Перед отъездом царь был то радостен, то мрачен. Сознавал яснее, чем кто-либо, – виктория на Неве подвела всю Россию к рубежу решающему.
Упразднённый Шлотбург таял, разваливался – из него извлекали всё, пригодное для Санкт-Петербурга. Скоро от шведской крепости останется груда оседающей, размываемой дождями земли. Под стальной благовест топоров деревянный хребет разобран, идёт на сваи, на срубы для изб – прежде всего генеральских. И на ряжи, которые станут основой оплота на Заячьем.
Май не окончился, а на подмогу солдатам пришли мужики, отлучённые от пашни, от родных домов, от семей. За две недели вытянулся канал, углубляясь по мере того, как поднимался остров, похожий теперь на огромный, лихорадочно кишащий муравейник. Землю возили в телегах по наплавному мосту, пригоняли груженные землёю соймы, её подавали в носилках, в корзинах, рассыпали, уминали босыми ногами. Сломались носилки – таскай в рубахе, таскай как сумеешь, лишь бы не стояла спешная работа!
В кровь обдирал руки канат, втягивавший наверх деревянную болванку копра. Падая, она вгоняла сваю – на вершок, на два. Мало, мало, проклятая! Короткую, слишком короткую давала передышку. Эх, ещё раз! Взяли, потянули...
Во всякое время видели среди работных Меншикова. В поношенном поручицком кафтанце с галунами, закопчёнными у костров, с хлыстиком, без парика похаживал губернатор. Подходил к плотникам, топтавшимся у толстенного бревна.
– Эй, молодцы, берись за концы! Эй, рябой, подсоби-ка рыжему!
Ловчился и дёрнуть за вихры зазевавшегося, огреть хлыстом ленивого. Не гнушался и сам помочь – подставить плечо под бревно, заострить сваю, обтесать доску.
И Ламбер бессменно на страде – приглядываясь к нему, губернатор учится строить. Визгливо покрикивая, разражаясь русской бранью – француз постиг её в совершенстве, – маркиз командует ватагой обмерщиков, блюдёт точное исполнение прожекта.
По контуру крепости протянуты на колышках верёвки – сюда ставить ряжи. Но что-то замешкались с ними... Француз подбегает к реке, подгоняет тростью мужиков:
– Эй, взяли!..
Срубы вязнут у берега, в песке, неуклюжие, скользкие – великого труда стоит выволочь их из воды. Набитые почвой, камнями, они – основа фортеции. Недолго им скалиться обнажённо – вереницы подносчиков наращивают её земляное тело.
– Эх, мужики, неужто слабаки? – подзадоривает губернатор нараспев, как некогда на базаре выхвалял свои пироги с вязигой, с требухой.
Помня наказ Петра, губернатор втолковывал:
– Наперво здесь одолеем шведа. Разобьёт лоб о фортецию – из мушкета добить плёвое дело.
Солдатам цель понятна, работают они дружно, приученные к тяготам войны. Мужики – те разумеют худо, за военными не поспевают. Квёлый народец! Не знало крестьянство такой изнуряющей гонки на боярском дворе, на поле, в огороде. Грызла тоска. Падал мужик в канаву, и не всегда поднимала его палка десятского либо сотского – тут же испускал дух.
Губернатор приказал, а комендант крепости Брюс подтвердил:
«1. Выходить на работу как после полуночи 4 часа ударит или как из пушки выстрелят, а работать им до восьмого часа, а со восьми, ударив в барабан, велеть им отдыхать полчаса, не ходя в свои таборы.
2. После того работать им до 11 часов, а как ударит, чтоб с работы шли и отдыхали два часа.
3. Как час после полудня ударит, тогда идтить им на работу, взяв с собою хлеба, и работать велеть до 4 часов после полуден, а как 4 часа ударит, велеть им отдыхать полчаса с барабанным о том боем.
4. После того идтить им на работу и быть на той работе, покаместь из пушки выстрелено будет».
А пушка сигналила отбой с наступлением сумерек, кои в сём гиблом крае медлили. Часов на пять прерывалась какофония, слитая из воплей, из ругани, из пения топоров. Но спокойного сна не было, сосали кровь комары, впивались болезни. Удачлив тот, кто успел выловить заблудившийся ряж и приспособить под жильё, отыскать плавника на шалаш – другие спали под дождём, часто набегавшим, на подстилке из лапника, а то на своей овчине. И зарыться в неё хотелось поглубже, в надежде почуять домашний печной запах.
Санкт-Петербург воздвигался всё же быстро, столь быстро, что Ламбер не мог надивиться.
– Я верю, – говорил он, – на осень здесь готов дефанс, как это... защита.
Признавал, что в Голландии потратили бы годы. Даже во Франции, при Вобане...
Но работа жестока, Меншиков печалился, видя, как заступы роют не ложе под срубы – могилу.
– Царь имеет много людей, – успокаивал маркиз. – Кто мёртвый, получает слава, как за пирамида в Эжипт... Египет, да? Жить без славы – зачем?
Что ему страдания российского люда! Вишь, спасибо царю за почётную смерть!
– Нам живые нужны, мосье, – бросил Данилыч зло.
Росла крепость, начата и церковь Петра и Павла – на самой середине плаца, близ канала... Сотни свай потужили ей опорой, как и для кордегардии, для арсенала.
Сотни тысяч свай сковали зыбь, вязкую глину. Возрос остров за краткий срок – местами, в ложбинах, на два человеческих роста.
Разбужена земля и ниже Заячьего, по берегам Невы, где указано быть батареям, и в заливе, против устья, где возникает самый дальний форпост, на острове Котлин.
* * *
Повыше Заячьего, на Городовом острове, который потом будет назван Петербургской стороной, Пётр пожелал иметь свой дом. Поручил Меншикову сделать его похожим на голландский – в память ученья на тамошних верфях. Лучшие плотники, отобранные губернатором, сколотили сруб из обтёсанных сосновых брёвен, с такой же перегородкой, отделившей красную горницу от будничной. Получилась пятистенка на костромской манер. Иначе плотники строить не умели. Дивно им было – царь, а жить намерен в избе... Но выкрашенный под кирпич домик обрёл вид иноземный благодаря высокой четырёхскатной крыше, с виду черепичной. Изготовили здание за три дня. На кровле водрузили мортиру и две бомбы рядом – всё деревянное, знак офицера-бомбардира.
Не Пётр, а чиновные окрестили здание уважительно «первоначальным дворцом», царь же считал его жильём лагерным, летним.
Дворцы не для него. В пышно убранных покоях, на коврах, на алом бархате видится кровь. Давно, с тех пор как стрельцы, натравленные царевной Софьей, ворвались в Кремль. Порубили, на глазах у отрока Петра, двух его дядей Нарышкиных, доброго Артамона Матвеева[29]29
Матвеев Артамон Сергеевич (1625—1682) – боярин, друг и любимец царя Алексея Михайловича, канцлер, главный судья, начальник нескольких приказов и Монетного двора; убит во время стрелецкого восстания.
[Закрыть] – наставника и советника семьи.
Пока царь на верфи – а она часто будет звать его к себе, – в доме хозяйничает губернатор. Ламбер, приглашённый отужинать, принюхивался:
– Экселенц! У вас джин!
Можжевеловая настойка в России не встречалась ему. Меншиков посмеялся. От дощатого пола, отмытого горячими вениками, шёл этот пряный дух.
– Пале-Рояль из карта, – и француз постучал по стене, покрытой парусным холстом. – Упадёт на голова его величества. Царь Питер как Самсон...
Схватился за косяк, расписанный цветами, и подёргал, вспомнив библейского силача, разрушившего храм филистимлян.
Печей нет, вместо них жаровни с углями. Ей-богу, карточный домик! Француз в восторге – и в этом авантюр, бесподобный авантюр.
– Но, мон шер... Где лакей, где камердинер?
Для придворных нет места в пятистенке. Каморок всего четыре – кабинет, столовая, спальня и сени, отведённые для денщика. Он и свечи зажжёт, и еду подаст. Иных слуг царю не требуется. Ламбер знает это – его смущают шатры, выросшие возле.
Их два, пылающих шелками, два дивных цветка. Над завалами брёвен, над лужами, под слезливым небом. Ожидается приезд турецкого посла. Он пожалует к царю. Что за приём будет здесь для великого визиря, посланника гордой Оттоманской империи?
– Пускай, – кивнул Меншиков. – Всяко не в царской горнице узрит нашу силу. Оглядится вот...
Над Невой пушечно ухают копры. Звоном топоров перекликаются берега, рождается Санкт-Петербург. Это и будет зрелище, полезное для турка.
В столовой, куда губернатор ввёл гостя, полстены занял чертёж Балтийского моря – с кораблями на торговых путях. До него султану нет дела. Его беспокоят верфи на Дону, фрегаты, спускаемые к Азову.
Ели жаркое с чесноком, под водку. Сбросили кафтаны.
– Мой метр Вобан... Делал эссе...
Данилыч поёжился – осточертела погудка. Ещё эссе! Что-то новое, однако.
– Эссэ про ноблес, про знатный род. Вобан пишет: ноблес де мерит, от заслуга – это самый высокий шляхта. Это великий человек. Так вы – экселенц...
Не потомок князей, так первый в роду, зачинающий. Ему – учит Вобан – самая большая фама, сиречь слава. Сладко слышать Данилычу. Стало быть, новому князю и чужеземные нобили воздадут честь. «Де мерит» – от заслуги... А свои родовитые? Поймут ли? Шереметев, Репнин... Чем ихнюю гордыню собьёшь?
– Экселенц будет иметь дворец. На маньер сивилизэ... Надо – люкс, надо – огонь в глаза.
Данилыч и сам соображает: иного средства нет, как поразить цивилизованным манером, роскошью новейшей, европской. Посрамить боярские дворы.
Льётся дальше медовая речь француза. Уносит Данилыча в чертог Сен-Жермен, в парадную залу мадам де Монтеспан, королевской метрессы. Чего только нет там! Построены как бы скалы, из них пущены каскады, сиречь бегущие воды. А из гротов, как следует именовать пещеры, выходят чучела зверей, словно живые, и поют птицы, сделанные из дерева. А наверху сидит бог Орфей, на лире играющий.
– Экселенц не имеет герб. Б-ба! – спохватывается Ламбер и возмущённо пыхтит, раздувая щёки.
Ложкой на доске стола он выводит щиты – круглый, четырёхугольный, овальный. Какой угодно выбрать?
Сверху корона, понятно. А для княжеского и мантия, горностай, как у монарха. Вот он блещет – герб князя Меншикова на губернаторском дворце. Бояре пишут в завещаниях, в купчих – «я, в роде своём не последний». Что ж, а он, пирожник, – первый в роду. Зачинает поколения князей. Герб его, имя его – на веки веков...
А что на щите? Губернатору, создателю города, какая подобает фигура?
– Эмблем? Я не могу советовать, экселенц. Это дело эральднк. Я не учил.
– Постой. Едет к нам мастер...
В разгорячённом мозгу Данилыча всплыло – «зналец науки геральдической». Измайлов, посол в Дании, пишет: нанял такого. Память неудержимо подсказывала дальше: архитект Доменико Трезини, палатных дел мастер Марио Фонтана[30]30
Фонтана Джованни Марио – итальянский архитектор, с 1706 г. работавший в России.
[Закрыть]...
И про них сказал Ламберу. Тот покривился:
– Итальянцы?
– А что? Не худо нам...
– Худо, – выдохнул генерал-инженер возмущённо. – В Италия делают... Слишком красота, слишком, – и он, всплеснув руками, стал изображать в воздухе нечто затейливо ветвистое. – Париж не приглашает итальянский архитект. Нет, нет... Слишком красота – это нехорошо, это нет гармония, это плохо смотреть.
Француз мотал головой, жмурился. Данилыч усомнился – стоит ли отвергать итальянцев, но пожалел огорчённого генерал-инженера.
– Ну, так царь выгонит вон...
Ишь перепугался, бедняга! Что – не тот авантюр? Обнял маркиза, притиснул к себе. Да на что они тут? В Москве, может, пригодятся. Тут не до жиру, быть бы живу...
Солнце закатывалось, окно темнело. Вблизи сочно впивались в древесину топоры, встаёт резиденция губернатора. Не дворец, конечно, однако побольше царской, способная вместить и канцелярию. О дворце что толковать, бога гневить!
– Не обидят тебя. Слышь, мон шер! Не позволим тебя обижать.
Ламбер протёр глаза, мелко захохотал.
– Я есть бочка спирт. Я лопайся...
Не умеет он пить, француз. Непривычен к русскому пойлу. Заболеет, пожалуй... Данилыч исполнился нежности отеческой:
– Солёного поешь. На-ко!
Под конец речь пошла о прелестях Ефросиньи, чухонской девки. И губернатор испробовал – поистине востра в амурах.
– Для его светлость Алексей, – твердил Ламбер. – Для ваш принц... Она делает из него мужчина.
– Рано ему, рано, – возражал Меншиков, – мал ещё. Пети́ гарсон. Так по-французски?
Ламбер тотчас возликовал. Князь чудесно произносит. Он должен, должен знать язык. Он будет в Европе – там все монархи, все вельможи говорят по-французски.
Шумели до полуночи. Ламбер сулил царю, губернатору великое будущее. На белых конях въезжают они в Ревель, в Ригу... А почему не в Стокгольм, не в Данциг, не в Штеттин? Почему? Где реет флаг Карла, – взовьётся флаг Петра. Всюду!
Ещё немного – и Францию свою уложит Ламбер к ногам царя. Это уже слишком. Губернатор взял под руки разгулявшегося гостя, увёл спать.
* * *
Царевич жил в лагере Преображенского полка, в палатке, а на уроки являлся в царский дом. Гюйсену приказано обучить Алексея геометрии, гистории, географии и языкам. Немецким он владеет недурно – осталось усвоить некоторые сложности грамматики. Теперь надлежит налечь на французский.
– Сей язык, – обстоятельно втолковывал барон, – основой имеет латинский, а посему многие труды античных авторов вам будут доступны через французов.
Ученик был рассеян, следил за игрой света в стеклянных сотах окна, невпопад прерывал Гюйсена.
– Зачем у нас языческое знамя?
– Где?
– Марс и Юпитер... У нашего полка. Не язычество?
Действительно, боги древних реют над преображенцами. Узнать их, правда, трудно – наляпаны краской на ткани грубо.
– Символы, принц – сказал Гюйсен. – Марс олицетворяет воинскую доблесть, Юпитер – мудрость и силу.
– Тогда полк юпитерский, – не унимался ученик. – Где оно – преображение господне?
– Спросите вашего батюшку, – отрезал барон сухо. – Извольте слушать. Французский вам необходим. Без него всякое образование несовершенно, ибо труды величайших философов, поэтов нам даёт Париж. Афины нашего времени...
– Ас турком как говорить?
– Не понял вас, принц. При чём турок?
– Он же едет сюда. Посол турецкий... Говорят, у него триста жён. Неужели всех привезёт?
– Гарем, – сказал барон нетерпеливо, – у мусульман, действительно, гарем.
– Нечистые они... С них и спрашивать нечего. Царь ему руку даст целовать? Затошнит ведь... А Вяземский[31]31
Вяземский Никифор Кондратьевич – дворянин, учитель царевича Алексея Петровича; в 1718 г, пострадал за участие в его «деле».
[Закрыть] сказывал, прежде царь примет если чужеземца – ему потом сразу рукомойник, грех снять.
Положительно не идёт урок.
– Вы невнимательны. Вынуждаете меня пожаловаться господину губернатору.
– Не надо... Не надо...
Голос зазвенел по-детски, сорвался. Алексей подался к учителю, ухватившись за край стола. Изо всех сил, так что пальцы побелели. Барон прекрасно знал, что может грозить царевичу. Недавно Меншиков таскал его за волосы, повалил, пинал ногами. Гюйсен втайне ужасался.
– Итак, поэты Франции... Например, Расин[32]32
Расин Жан (1639—1699) – французский драматург, представитель классицизма.
[Закрыть]. Он вам откроет сокровища.
Что за сокровища? Куда лучше было с Вяземским. Рассказывал просто, весело. Изображал в лицах Евангелие – играл театр. То грустно, то смешно.
Подросток вызывает жалость у Гюйсена. На уроке истории он разъясняет государственную пользу – к ней направлены все деяния его величества. Как ещё ободрить?
* * *
«...Я, Хуберт Якоб Каарс, капитан судна по имени «Клотильда», находящегося в Копенгагене, обязуюсь с первым добрым ветром, богом дарованным, отплыть в Архангельск и сдать в сохранности весь имеющийся груз, а именно...»
Сукно, посуда, выделанные кожи...
Ещё дороже царю пассажиры – мастера различного рода, нанятые послом Измайловым. Придётся их помотать, рейс кружной, с заходом в Амстердам.
Торговый дом «Каарс и сыновья» уж полтора столетия ведёт дела с Московией. Коммерция выше политики. У Каарсов пять кораблей, особняк в Амстердаме, на Хесренграхт – канале богачей.
Каюту в центре судна, чтобы меньше качало, капитан отвёл архитектору-швейцарцу. Трезини обнаружил в ней бумагу, чернила, перья.
«Корабль крепкий, у него три мачты и пушки для отражения пиратов, – сообщил он в первом письме родным. – Море пока не очень треплет нас. Капитан обучает нас русскому языку. Он мил, образован, что приятно поразило меня».
Ничего похожего на грубых шкиперов, переправлявших кирпичи, извёстку на датские острова. Каарс трезвенник, кружевной воротник, выпущенный поверх тёмного камзола, всегда чист. Стирает жёлтый слуга-малаец. Он же подаёт на стол разнообразные блюда – то вест-индский рис с острыми заедками, то русские щи. Это вкусно, но до чего же трудно произнести!
Массой полезных сведений снабжает Каарс. Русские вовсе не мирятся с грязью, как часто уверяют, – жилища в Архангельске чистые, пищу готовят опрятно. Входя в дом, принято поклониться сперва иконе и произнести: «Господи, помилуй!» Хозяйка, встречая гостей, угощает водкой, и они должны поцеловать её. Девиц посторонним людям не показывают, они обычно взаперти. Впрочем, у простых людей нравы более свободные.
– Господи, помилуй! – твердит Доменико. – Здравствуй! Спасибо...
Хоть бы звук один итальянский!
В каюте висит плащ, подбитый лисицей, – в предвидении русских холодов, – и шпага. Она раскачивается, отмеряя волны, отмеряя время. Вспыхивает ручеёк готических букв – «Фридрих Альтенбург-Саксонский».
Над изголовьем узкой постели – распятие из каштана, вырезанное покойным отцом. На столе, как на церковном аналое. Евангелие. Оно немой свидетель обещания, данного перед отъездом бабушке Ренате, строгой властительнице дома.
Блюсти веру свято, в большом и в малом, не отступать ни за какие блага...
«Здесь находится Джованни Марио Фонтана, тот самый... Подумайте, он называет себя архитектором!»
Фонтана, подмастерье зодчего, земляк Доменико, но они не дружат. Давний спор разделяет их: семья Фонтаны утверждает, что Трезини отхватили у них кусочек виноградника. Нет, кровь не пролилась. Но вот уже сто с лишним лет длится неприязнь.
«Молитесь, чтобы вашему Доменико открылось счастливое поприще. А я поставлю свечу за вас в Москве».
Письма вручаются капитану. Он складывает почту в сундук. «Клотильда» недолго простоит в Архангельске, набьёт трюм пенькой, льном, бочками с мёдом, пушниной и отправится восвояси. Иной оказии не предвидится.
Пакет достигнет селения Астано через два месяца – вряд ли раньше. Но Доменико волен сейчас увидеть бра та Пьетро, сестёр, слушающих его. Бабушка читает вслух. Конечно, ей досадно – не удалось внуку добиться положения в Риме. Чересчур скромен Доменико, по её мнению. Оттого и вынужден бродяжничать. Будь он напористей – строил бы для его святейшества папы.
И Доменико продолжает:
«Когда-нибудь и мой путь, если будет на то согласие всевышнего, приведёт в Рим».
После, на дожитие, – в Астано... Ему видится дом на склоне Монте Роза, красная герань, пылающая на балконе...
В эту пору распускаются розы. Каштановые леса на Монте Роза в белой пене. Грохот молотков несётся оттуда, с карьеров. Селение – детище горы. Жилища, колодцы, ограды – все из серо-розоватого камня. И плиты на могилах отца, матери, Джованны. Рядом с ними и его место...
Лицо Джованны начало стираться в памяти, но сейчас, в тиши каюты, оно ближе. Ей было двенадцать, когда они обручились. Дочь соседа, озорница, дерзкая на язык. Доменико был на три года старше, он уезжал учиться в Рим. Невеста швырялась репейником, дразнилась. Он пригрозил: женюсь – первым долгом отстегаю.
Пыльная мастерская архитектора, хмурого Кавальони... Фасады Рима, восхищавшие Доменико... «Не заглядывайся», – твердил учитель.
И снова Джованна в памяти, только уже другая – крепкозубая, румяная, с высокой грудью. Тогда он возжелал её... Джованна в вихре голубей, – сосед разводил их. Джованна, танцующая на празднике сбора винограда. Она в полотняной чёрной юбке, в голубой блузе. Его руки на её плечах. Он кружит её, подбрасывает в воздух, она резко прижимается к нему... Позвала на ночное свидание, дала ключ... Бабушка каким-то образом проведала, заперла жениха. Ждать пришлось восемь лет, пока Доменико служил в Альтенбурге, копил средства, чтобы обзавестись семьёй.
Она умерла от родов, оставила дочь.
Время исцеляет... Однако на корабле оно словно остановилось, хоть и качается маятником княжеская шпага.
Доменико принимается рисовать. Вереницы бастионов, башен, дворцов... Они вздымаются на Монте Роза, венчают её, затем спускаются на плоскую землю Московии.
Где царь? Вдруг разбит Карлом, пленён, погиб в сражении...
Наконец – Амстердам... Голландцы обрадовали путников. Новости из России хорошие, удача на стороне царя. Он овладел важной позицией в устье Невы.
А стоянка затянется. «Клотильде» требуется починка. Затем она примет секретный груз – ружья, сабли. Заказ царя... А корабль под флагом Голландии, страны нейтральной, – значит, придётся избегать хоженых морских путей. Шведы останавливают купцов, оружие отнимают.
Явственно пахнуло войной.
* * *
Парижская «Газетт» сообщила:
«Московиты, которые, как казалось, будут осаждать Нарву, отошли и в настоящее время сооружают крепость на берегу моря около Ниеншанца».
Месяцем позднее, с тревогой:
«Надеются, что продвижение царя в Ингрии заставит короля Швеции увести войска из Польши, истерзанной до крайности».
Карлу следует помириться с Августом и покончить с этими наглыми русскими. А там, быть может, Швеция поддержит Францию в войне за Испанское наследство. Давняя дружба связывает две династии.
В Стокгольме успех Петра отозвался болезненно. Прибалтийские владения разрезаны надвое. Доставка ливонского хлеба затруднена. Шереметев угрожает Выборгу. Столица беззащитна, гарнизонные казармы пустеют, ибо Карл ждёт пополнений.
– Французы правы, – твердит Хедвиг-Элеонора, королева-вдова. – Хватит возиться с поляками.
Карл – её любимец. Он всегда считался с бабушкой. Стокгольм уже третий год без короля. Это, в конце концов, неприлично.
– Стыдно перед Людовиком, – гневается королева. – Мы отдаём наши города варварам. Небывалый позор.
Звать короля домой, звать немедленно... Министры слушают почтительно, пряча улыбки. Согбенный годами Оксеншерна решается напомнить:
– Вашему величеству известно, как реагирует король. Пётр может брать всё, что ему угодно, зато я буду иметь удовольствие отбирать.
– Я сама напишу Карлу.
Озеро Меларен отбрасывает в зал солнечные блики. Министры прикрывают старческие глаза. Хедвиг-Элеонора сидит неподвижно, прямо, почти не мигая. Ей под семьдесят. После совещания она удаляется твёрдым гвардейским шагом. Выражение недовольства редко покидает её длинное, жёсткое лицо.
Сегодня утром оно пылало воодушевлением. Совершая прогулку верхом, королева встретилась с отрядом ополченцев. Одетые в голубую униформу пехотинцев, они маршировали нестройно. Командовал, сердясь, седоусый отставной майор. «Союз холостых башмачников», – прочла королева надпись на знамени. Её растрогали эти преданные люди, побудили к витийству.
– Царь в ловушке. В Ниеншанце ему крышка. Генерал Крониорт и адмирал Нумерс, наверно, уже захлопнули её. Русские, эти кровожадные варвары, пожалеют, что связались с нами.
Погрозила кулаком на восток, бросив крепкое словцо, потом в сторону Августа, который спелся с Петром.
– Мы покорим Польшу, Саксонию, а потом и Московию! – выкрикивала королева. – Не забывайте, мы – шведы! Мы рождены властвовать, это указано свыше...
Она задохнулась на ветру и величественным жестом благословила башмачников. Для простонародных ушей достаточно.
– Крониорт – жалкий рамоли, – бушует она в кругу вельмож. – Король увёл всех настоящих мужчин.
Поэты величают её душой империи, вдохновительницей побед. Восторженная подруга Карла Десятого, она верила вместе с ним, что святое назначение монарха – война. Своего сына, Карла Одиннадцатого, она побуждала добывать новые земли. Похоронив его, занялась воспитанием внука. Ему не исполнилось четырёх лет, когда бабушка посадила его в седло. Рекомендовала первую книгу для мальчика – про Александра Македонского.
Она же выбрала наставника для принца – осмотрительно и заранее.
Карл ещё не родился, когда многоучёный Улоф Рудбек завершил свою «Атлантику» – плод многолетних исследований.
Перед тем он прославился в ботанике, в лингвистике, в механике. Водяная мельница, сооружённая им, приводила в действие двадцать четыре машины – она ковала, пилила, чеканила, месила тесто, мяла лён. Гербарий Рудбека содержал почти все растения Швеции. В новом своём труде профессор блеснул как историк. Он обратился к истокам шведской нации.
Занятый делами военными, Карл Одиннадцатый лишь полистал «Атлантику», униженно ему посвящённую. Не осилила мудреного трактата и Хедвиг-Элеонора. Рудбек, вызванный ко двору, пояснил простыми словами:
– Мы, шведы, особые люди. Наши победы доказали это всему миру. Доблесть наших предков, викингов, известна. Но в чём секрет? Откуда же произошли они? Позволю себе утверждать, что я разгадал тайну, над которой бились многие умы.
Три толстых тома, два столбца мелкой печати на каждой странице, – латинский оригинал Рудбека и шведский перевод. Выдержки из Библии, из Платона[33]33
Платон (427—347 гг. до н. э.) – древнегреческий философ, один из основателей объективного идеализма.
[Закрыть], Гомера, множества других античных авторов, данные географии, астрономии, филологии, смело перетолкованные...
– Мы потомки атлантов, – продолжал Рудбек, распаляясь. – Древние ошибались, помещая Атлантиду в тёплых водах океана. Ошибались, полагая, что она исчезла в пучине. Место Атлантиды – на севере, здесь, рядом с нами. Атланты, сыны Яфета, благословенного богом, зачинатели цивилизации. Греки и римляне – лишь жалкие эпигоны.
Эрудиция Рудбека ошеломляла. Нельзя не верить ему. И хотелось верить...
Перевёл «Атлантику» Норкопенсис – сын простолюдина из Норчепинга, отчего присвоена ему, вместе с учёным званием, латинская эта фамилия. Его и назначила королева наставником Карла, предварительно даровав седому книжнику дворянство.
Карл с прилежанием усвоил «Жизнь Александра Македонского», – все монархи с неё начинали. Несравненно сильнее завладели воображением скандинавские саги. Македонец померк – викинги ближе, роднее. Бесстрашные воины и мореплаватели, проводившие весь свой век в сражениях. Клали меч под подушку, ложась в постель...
Тома «Атлантики» сперва испугали Карла. Бабушка советовала ему посещать лекции Рудбека в университете. Нет! Ни слушать шведского гения, ни читать его терпения не хватило. Но главную мысль – в передаче учителя – усвоил с восторгом: шведы – народ избранный, шведы всё могут.
Норкопенсис повёз Карла в Упсалу, показал остатки храма викингов. Великий Рудбек, узрев в нём святилище атлантов, сделал его на несколько тысячелетий старше. Принц не требовал доказательств. В тот же вечер он сообщил бабушке:
– Я был у алтаря предков. Я почувствовал их... Они поведут меня.
Щёки его пылали.
Бабушка радовалась. Огорчал он её лишь тем, что пренебрегал уроками французского. Ведь посол Людовика не говорит по-шведски...
– Обязан научиться! – запальчиво ответил Карл.
Вереницей текли мимо него невесты – бабушка подводила то одну, то другую. Принц был непостижимо равнодушен. «Сперва воина, – твердил он, – потом женитьба». Балы не любил, предпочитал забавы, подобающие викингу. Нравилось загонять во дворец баранов, телят и полосовать саблей, орошая кровью паркеты и ковры. Готовясь к походам, спал на жёсткой кровати у окна, открытого и зимой.
Сверстники затягивали на пирушки, но охоты к вину принц не обнаружил. Однажды, сидя за столом рядом с бабушкой, опрокинул бокал, облил ей платье. Наполнил, встал и, поклонившись королеве, поклялся не брать в рот ни капли спиртного. Никогда!
Пусть ничто не туманит голову викинга...
Божьею милостью король Швеции, король готов и вендов, великий князь Финляндии, герцог Скопе, Эстляндии, Лифляндии, Карелии, Бремена, Вердена, Штеттина, Померании, князь Рюгена, владетель Ингрии – таков вкратце титул, унаследованный Карлом, но он возмечтал дополнить его. Шведы – всё могут, это его девиз. И поведёт их бог викингов в лице короля. Не достигнув совершеннолетия, он разогнал опекунский совет, а затем кинулся бить датчан. Бабушка смутилась, но всё же одобрила своеволие.
Голштейн-Готторп терпел обиды от короля Фредерика, поделом ему! Голштинка родом, Хедвиг-Элеонора питает к датчанам ненависть с колыбели. Тиранила невестку, свела в могилу. За то, что датчанка... Негодуя порой на внука, бросает:
– Фю, датская кровь!
Безусловно, она подпортила натуру скандинава. Он упрям. Он ловит в польских лесах Августа, а между тем московиты вышли к морю. Того и гляди перехватят суда, которые возят в Стокгольм ливонский хлеб.
Бабушка садится за письмо.
Прежде всего разделаться с царём! Потом вернуться на запад, вступить в испанскую войну, всеми силами поддержать Францию, старую союзницу против австрийского императора. Тогда наверняка падут ниц перед шведской короной Польша и Саксония.
* * *
Поручик ван дер Элст потёр ушибленную грудь. Мерзавка! Оттолкнуть офицера... Мало того, язык распустила.
– Деритесь с русскими, господин мой!
Грязная девка... Поручик яростно грохнул дверью своей комнаты. Несколько минут назад Карин, служанка гостиницы, привлекала чистотой и юной свежестью.
Сейчас он с отвращением вспоминал широкие крестьянские плечи, обтянутые тонким платьицем, сдобный запах бельевой, где он настиг её.
Кажется, он сделал ей больно. Так и надо! Поганый язык! Помешались они тут на войне...
Драться с русскими... Да какое ей дело? До чего обнаглела здешняя чернь...
Он отвык от Стокгольма. Город на рваных клочках суши, на уродливых гранитных желваках, между озером и морем, удручает казарменной скукой. И гостиница вроде казармы.








