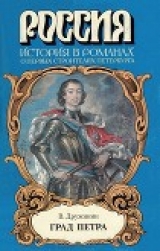
Текст книги "Град Петра"
Автор книги: Владимир Дружинин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 33 страниц)
– Посол восхищен, – выложил генерал-архитектор. – Поздравил меня... Если его царское величие одобрит, Петербург станет самым правильным и укреплённым городом Европы. Буквально – слова посла. Он сообщит в Париж.
Данилыч досадливо щипнул себя за ус. Нам-то что! Поднял царское письмо.
Переводчик прочёл.
Смутила Леблона краткость послания – он глядел на толмача с минуту в оцепенении, затем попросил повторить то, что касается его лично. И сразу обрёл прежний апломб:
– Господь да сохранит императора! Я не сомневался... Суверен подлинно великий... В России осуществится то, что было недоступно королям Европы, цезарям Рима.
Данилыч отстранился – ему показалось, Леблон хочет его обнять. Ишь ведь, не сомневается! Услышал желаемое: план одобрен, коли выходы каналов велено не застраивать... Торжество выразил столь бурное, что Данилыч опешил. Может, правда...
Оказал сухо, почти зло:
– Его величество изучает ваш прожект, мосье. Резолюции окончательной я тут не вижу.
И вяло, с миной утомлённой:
– Извольте пройти в зал, мосье. Побьют зеркала, истуканы...
* * *
Доменико писал:
«Губернатор пытается сделать меня своим союзником в разногласиях с генерал-архитектором. Я ни в коей мере не напрашиваюсь на эту роль – более того, всячески придерживаюсь нейтралитета. Леблон непоколебимо уверен в реальности своего плана Петербурга, празднует победу и старается меня с ней примирить. Обращается со мной как человек, нанёсший тяжёлый удар ближнему».
Разговоры с Леблоном – а встречались они часто – Доменико свёл в немногие строки.
– Я попрошу царя, – сказал версалец, – поручить вам сооружение главного хрзма. Здешний Нотр-Дам...
Очевидно, собор Петра и Павла в цитадели, в толще оборонительного кольца, низводится до крепостной церкви. По мнению Леблона, царь должен согласиться. Он укажет, где ему угодно иметь собор, в какой точке Васильевского острова.
– В Париже дворец монарха и Нотр-Дам находятся на значительном расстоянии. Нет, рядом необязательно... Но вы приуныли, мой друг?
– Я не о себе, – отозвался Доменико искренне. – Я фортификатор... Смысл этого пояса, простите, ускользает от меня. Золотой пояс, синьор мой, труд Сизифа, который вряд ли даст крупное военное преимущество.
Француз изменился в лице:
– Ах, так... И вы против меня.
Обиделся... Страдал от этого Доменико, но тешить генерал-архитектора не мог. Бесспорным считал – мало что останется от утопического проекта. Разгромит Пётр Алексеевич.
Шли месяцы, прибывали к губернатору послания паря – в них ни слова о генеральном чертеже. Началось лето, Леблон пропадал за городом, исхудавший и желчный. Недоедал и недосыпал на престижных работах – особливо в Петергофе – и ещё пуще препирался с Меншиковым.
Вдруг – неожиданность. Длинный, тугой свёрток из Парижа, с царской печатью. Данилыч обомлел. Окованный бастионами Петербург, переплёт каналов, непостижимый шлюз на Неве – увраж Леблона доподлинный. Отпечатано по заказу его российского величества в типографии де Фера.
Пояснений к сему не приложено. Понимай как знаешь... Но ведь не для себя делал де Фер. Царская воля... Каких там резонов набрался в Париже? Нет, всё равно о полном одобрении сия присылка не свидетельствует.
Того же мнения и Доменико. Иногда всё же почва петербургская колеблется под ним. Он не был в Париже, но наслышан и начитан.
«Париж стал кумиром Европы, это и даёт повод французам задирать нос перед всеми прочими нациями. Наш монарх бурно воспламеняется и не всегда отходчив – неудивительно, если Париж вскружил ему голову. В таком состоянии его поступки могут быть непредсказуемы».
Данилычу досадно – смирен Трезини яко агнец. Другой бы пощипал пёрышки у генерал-архитектора. Ишь пыжится, грудь колесом... Пёс с ним! Снять план со стены, убрать подальше. И суждение своё заглушить в себе – царю оно ни к чему.
Людям жить негде – вот за что голова болит. Худо, медленно строится новая слобода на Охте, мужики, переведённые навечно в Петербург, ютятся кое-как, мёрзнут. Губернатор в ответе. Слава отцу небесному – от Петергофа государь избавил, надзирать велит Черкасскому. Однако пусть подтвердит, чтобы гнева потом не было.
Докладывай, губернатор, закончен ли канал вокруг Адмиралтейства, что сделано в госпитале, укрепляется ли Котлин и сколько там готово провиантских складов? Сообщай о здоровье царевен и маленького Петруши – сынка государева, о котором вящее твоё попечение. Трудись во всю силу, трудись и сверх сил, а завистников тем не уймёшь. Не остановишь фискалов: щёлкают костяшками счетов, и растут штрафы с тебя, словно ком снежный, с горы катящийся.
Оттого робеешь и сам себе противен – для каждой мелочи просишь приказа у царя. Дабы гнева его не навлечь. Дабы пуще не навредить себе.
* * *
– Наполи... Белла Наполи...
Ефросинья млеет – до чего хорош собой итальянец. Прискакал из Вены вместе с Колем, преважным, ворчливым австрийцем, и приставлен словно камердинером. Росточком не вышел, зато брови – бархат чёрный, зубы – жемчуг на черноте лица. Сверкают зубы, и частит, частит, частит по-своему. Ткнул себя в грудь, шаркнул ножкой:
– Антонио.
Зови запросто барона де Сальви. Алексей занят, жжёт лишние письма, а красавчик захотел пройтись по замку – будто любопытен ему старый, ветхий рыцарский оплот. Не обманет... Идёт Ефросинья, заучивает шёпотом, глупо:
– Антонио, Антонио...
Красавчик всё про Неаполь – голосом и руками. Разводит руками, касаясь её талии, бедра – слегка, а потом смелее:
– Маре, маре...
Тёплое море в Неаполе, прекрасные здания. Палаццо, колоннада... Изображает стройность колонны, расточая восторги – Неаполю и ей, принцессе московитов. Обнимает её, приподнимает над порогом. В полутёмной гостиной подбежал к клавесину, проиграл несколько тактов, вскочил, хлопнув крышкой. Напевая мелодию, повлёк танцевать. Утомившись, упали оба на диван, взбив тучу пыли...
После, смеясь, чистили друг друга платками, мухобойкой, забытой кем-то на подоконнике. За обедом сидели чинно, принцесса подбелила разрумянившиеся щёки. Впрочем, Алексей не заметил бы, поглощённый новостью.
– В Неаполь, Афросьюшка! Спасибо цесарю! Мечтали мы – и вот даруется. Всяк день цветенье, ароматы...
И она рада покинуть Эренберг – холодный, сырой, расшатанный осадами. Жили в замке, как в тюрьме. Торчит на юру пнём гнилым, вокруг каменья, дикие леса по взгорьям. Однако к чему спешка? Антонио и отдохнуть не дал, встав из-за стола.
Дорога вьётся к югу, наперерез каменистым волнам Австрийских Альп, скользкой змейкой под набегами дождя. На перевалах стужа. Алексей был заботлив, кутал Ефросинью, подкладывал любимые её подушки, взятые из дому, – набитые сеном и головками мака, чтобы слаще дремалось. Себя охотно согревал чаркой.
Долина, весенняя пена садов, невиданные пальмы, озеро, вобравшее синеву небес... Италия, начало прелестей, о которых читали вместе. Но барон Сальви велел задёрнуть шторы кареты и сделался строг, неумолим. На ночь останавливались в захудалых селеньях, свернув с большака, в убогих корчмах, кишевших гнусом, через города скакали во весь опор. Обидно! Во Флоренции метнулась под колеса тень знаменитой звонницы – творение Джотто[113]113
Джотто (1266 или 1276—1337) – итальянский живописец, родоначальник реализма эпохи Возрождения.
[Закрыть]. Припали к оконцу – поздно! В Ассизи, граде святого Франциска, не удалось посетить храм, поклониться святыням, а надо бы: политес папе воздать полезно. В Риме лишь краем глаза уловили храм Святого Петра и руины Колизея, где львы терзали христиан.
От кого удираем? Барон отвечал Алексею глухо: в стране-де смута, герцоги не ладят меж собой. В городах кровавые столкновения. Но не в Неаполе, нет! Там высокие гости будут в безопасности. Стены замка Святого Эльма самые крепкие в Италии. Принчипе великой России и очаровательная принчипесса будут счастливы в Неаполе, созданном для веселья, для любви.... Всё же иногда, за стаканом граппы, забористой виноградной водки, синьор проговаривался. В Тироле были замечены некие странные личности – возможно, агенты царя.
Афанасьев и не сомневался – ищет царь и, всеконечно, не отступится. Камердинер был вызван из Петербурга ещё осенью в Германию, свежих вестей иметь не мог, а портил настроение, смотрел тучей. Однажды, разбуженный видением, выскочил в исподнем на улицу.
Алексей храбрился:
– Цесарь не выдаст. Экая могучая держава: едем, едем – края нету. Сколь ему народов подвластны! У нас вёрсты-то немеряные, да безлюдны, а здесь густо народу да земля ухожена вся. Родитель на цесаря не полезет. А хорошо бы... Поглядели бы мы, Афросьюшка, как утрётся. Как зубы-то растеряет...
А дорога несла в жаркое лето, окунала в серебро олив, в тяжёлую зелень апельсиновых рощ. Дразнила недосягаемая их прохлада, дразнило мирно дышавшее, улыбающееся море.
– Искупаться бы, – стонала Ефросинья. – Трусит он, цесарь твой. Будто украл нас.
– Дурочка... Тут политика.
В оправданиях увяз и накричал, а после плакал. Дитя малое... Мозговую горячку не схватил бы… Доктора стращали такой болезнью.
Улицы Неаполя – узкие, душные в июньском безветрии, запруженные оборванцами и торгашами, – сочились ручьями нечистот, выворачивали лохмотья свои дерзко, почти оскорбительно. Неважная прелесть! Море смеялось, издеваясь над людским коловращением, а вдали вставал Везувий, столб дыма стоял над острой его вершиной – знамением рока, судного дня. Сердце Ефросиньи сжалось. Не спит гора, погубившая Геркуланум и Помпею.
Стены замка Святого Эльма, отвесно крутые, вырастают из холма Вомеро. Прищур амбразур, пушки, нацеленные во все стороны – на город, на гавань. Устоит ли против Везувия? Лава кипящая не досягнёт, так дым задушит, задохнёшься в каменном мешке. Когда-то отцов календарь поведал Ефросинье о вулканах, о подземных ходах, глубинным огнём прожигаемых. Лучше бы не знала... И надо же, опочивальня, отведённая в замке, окнами прямо на Везувий!
– Прекраснейший в мире пейзаж, – ликовал барон. – Самым знатным гостям Неаполя.
Учтивейше подносит цветы, отборные фрукты. Свидания редки: Алексей почуял, следит ревниво. Ефросинья не в духе. Ни приёмов у вельмож, ни театра. Засунули в нору, выпускают гулять лишь во двор, где чахнут or жажды хилые деревца, да в церковь, послушать орган, – по воскресеньям, и к тому же тайком. Ступай к службе поздней, в простой одежде... Не гости – секретные узники. Когда же покой? Проклятое место! Ночью багровые зарницы пляшут в небе, над жерлом преисподней, и чудится Ефросинье – потоки лавы беснуются в недрах, пробиваясь к поверхности, к мраморным плитам пола. А царевича изводит море, обожаемое родителем, – назойливый плеск, надсадный скрежет перекатываемой гальки.
В июле Ефросинья занемогла. Оказалось – беременна. От кого же? Считала и пересчитывала дни. Вдруг нерусское родится дитя, с оливковой кожей Антонио.
Нет, бог спас. Не сошлось...
Алексей, выслушав известие, прослезился и стал нежен необычайно. Хочет наследника.
* * *
Ну, покажись, Франция!
Карету, ожидавшую на границе, царь отдал Шатрову, потребовал экипаж лёгкий, открытый, с сиденьем повыше. Двуколка не сгодилась – низка. Велел снять колеса, водрузить кузов на каретные дроги. Странней повозка застонала под тяжестью Петра, боялись, что опрокинется.
В первом же селении слез, зашёл в харчевню. Выпил с мужиками анисовой.
Париж втянул в круговерть узких улочек, пропахших чесноком, жареной рыбой, навозом, затхлой одежонкой, и оглушил. Люда шатающегося больше, чем в Москве. Кто-то запустил в царский экипаж бутылкой. Выбрались из трясины на мостовую, покатили с громом и звоном, в сопровождении полка усатых мушкетёров.
Апартаменты Лувра, принимавшие многих суверенов Европы, должны были поразить московита. Но нет – мина недовольства, осуждения с чела не сошла. К королевским деликатесам не притронулся – попросил кружку пива. И с мушкетёрами, с бесконечным, плутающим в сумерках поездом своим – прочь от Лувра, к резиденции более скромной.
Отель графа Ледигьер пустовал. Надо бы попроще, но искать поздно. Царь поселился на втором этаже, туда, в гардеробную, втащили ему походную постель. Рядом – секретарь, денщики, карлик Лука, внизу – дипломаты.
Письмо Екатерине:
«...Два или три дня принуждён в доме быть для визит и прочей церемонии, и для того ещё ничего не видел здесь; а с завтрее или после завтрее начну всё смотреть. А сколько дорогою видели – бедность в людях подлых великая».
В Париже жаркий июнь. Шафиров и Куракин в тайных беседах нащупывают почву для соглашения с Францией, а царь носится по столице в затрёпанном кафтане, без шляпы. Воротник расстегнут, пальцы вымазаны сажей и краской, в кармане – записная книжка, линейка. Удивительный венценосец. Паче пиров и забав интересны ему душные мастерские, фабрика гобеленов, фабрика зеркал, Монетный двор, опыты физиков и химиков в Академии наук, маятник Фуко, доказывающий наглядно вращение земного шара. Преподавание в коллеже, Дом инвалидов, где содержатся престарелые, увечные воины, госпиталь, где делают глазные операции, возвращают людям зрение...
Кого же московит избрал в провожатые? Неслыханно – магистра Фонтенеля[114]114
Фонтенель Бернар Ле Бовье де (1657—1757) – французский писатель, автор книги «Свободное рассуждение о древних и о современниках», философских и других работ.
[Закрыть], слывущего еретиком, автора двух возмутительных книг. Одна – «История оракулов» – обличает пророков древности, но намекает и на духовенство нынешнее, другая – «Разговоры о множестве миров» – вытесняет из мироздания волю господа. Всемогущи-де законы природы...
Насмешник, бичеватель заносчивых и косных, Фонтенель напишет похвальное слово о Петре – великом труженике, цивилизаторе своих подданных. Царь – живой пример для монархов Европы. Не высказанное прямо, это звучит между строк.
Где-то на парижской улице приметил царя Вольтер[115]115
Вольтер (псевдоним; настоящее имя и фамилия – Франсуа-Мари Аруэ) (1694—1778) – французский писатель и философ-просветитель, деист; одно из сочинений – «История России при Петре Великом» (в 2 т., 1759—1763).
[Закрыть] – тогда ещё юноша, начинающий поэт, впрочем, успевший побывать в ссылке за стихи, обидевшие властителей. Русский гигант запомнился. Много лет спустя глава просветителей напишет о Петре. Сравнивая его с Карлом Двенадцатым, скажет: шведский король оставил после себя пожарища и развалины, царь – благодеяния.
Париж готовился принять варвара; сочинители эпиграмм, каламбуров предвкушали выгодную мишень. Они онемели. Издеваться расхотелось, даже когда московит уснул в театре, на представлении «Клитемнестры». Можно извинить: опера на сюжет греческого мифа длинна, скучна, а царь зверски устал.
Люди, не ведающие, что такое усталость, ощутили к нему уважение. А среди учёных и мастеров он свой человек.
Герцог Сен-Симон отметит в своих мемуарах, что царь хорошо понимает французский и мог бы говорить, но этикет заставляет иметь переводчика.
«Этот монарх вызвал восхищение своей крайней любознательностью, всегда подчинённой целям управления, коммерции, образования и порядка, и эта любознательность не пренебрегала ничем, компетентная, упорно направленная к пользе... Всё в нём свидетельствует о широте его познаний... Можно без конца рассказывать об этом царе, столь подлинно великом, чьи выдающиеся и на редкость разнообразные таланты обеспечат признание потомков самых отдалённых... Такова репутация его, единодушно установившаяся во Франции, которая смотрела на него как на чудо и была им очарована».
И это невзирая на следы «варварского воспитания», несдержанности, грубости манер, на прямодушие, подчас непривычное среди парижской знати.
– Жалею, – сказал он, – что город сей рано или поздно от роскоши и необузданности нравов потерпит великий вред, а от смрада вымрет.
Он ждал большего от Парижа, от Франции. Обидно даже – выхваляются перед Европой, а сами... Бок о бок с нищетой преужасной, от голода иссохшей, в страшной здешней тесноте выпирает, пыжится, охорашивается богатство умопомрачительное. Людовик, сделавший своей эмблемой солнце, тешил себя и ближних. Прибыток всеобщий, о коем суверен обязан радеть, находится в пренебрежении.
Где же образцы для Петербурга?
Здания Парижа – мешанина старого и нового. Лезут в высоту – в четыре, в пять этажей, даже мазанки. Царь напишет домой:
«Во Франции никаких украшений в архитектуре нет н не любят, и только гладко и просто и очень толсто строят».
Сходно, пожалуй, с манерой Трезини. Колонны отвергнуты, фасады разлинованы пилястрами, убавлен декор лепной, отменен скульптурный. И чего-то не хватает... Голые они, парижские особняки, словно недокончены. Нет русского крылечка, нет русского мезонина... Петербург сохранил их, перенимая чужое. Так тому и быть.
Королевская площадь показалась знакомой. Квадратная, по сторонам в домах галереи для пеших прогулок, статуя суверена... Где видел? Конечно же на плане Леблона. Что ещё он перенёс из Парижа? Явно же своп отель Клермон – правда, не весь, а флигель. И предлагает как образец дома для именитых. Тоже голый, без крыльца... У Екимыча лучше получается... А генерал-архитектор и климата русского не берёт во внимание – окна у него широки чрезмерно.
К чести Леблона сказать, желает столице нашей регулярности, какой здесь нет и быть не может. Дворец Тюильрийский и Лувр, с ним соседствующий, находятся в центре Парижа, но першпектив от них мало и коротки они, ломаются, теряясь в лабиринте улиц да переулков. А на чертеже Леблона престиж монарха солнцеподобного сияет знатно, со всех концов острова в глаза бьёт.
В чём, однако, престиж состоять должен? Царю известно, как мнил о себе покойный Людовик: «Государство – это я». Предпринимая нечто, говорил прямо: «Для моей славы». Всё сущее сей славе споспешествует, сам же он долга перед отчизной не ведает.
О плане Леблона в Париже прослышали. Раззвонил уже... Что ж, здравое зерно есть, а мякину отсеять надобно. Бесспорно, благо общее предусмотрено.
Типографщику де Феру заказан план Трезини, лик Петербурга сегодняшний. И Леблона публиковать? Пётр не сразу решился. Писать пером, рисовать позволительно что угодно – со станка же чистая правда сходит, никаких мечтаний пустых. Иначе русский человек не мыслит.
Леблон сам вмешался – письмо от него. Снова плачется – препоны ставят его делам, «дабы привести их к крушению, с тем чтобы ваше величество не получил сатисфакции»... Верно, и друзьям, родне жалобы шлёт.
Пища для недругов. Без того болтают – в Московии-де иностранцы обижены. Печатать, печатать план Леблона, прищемить злые языки.
* * *
Наконец, Версаль...
Читал и слышал о нём столько, что удивления не испытал. Громадность парадных зал рождала стеснение в затылке, приступы робости, дурноты. С детства такое, с того дня, как ворвались в покои восставшие стрельцы и кровь лилась на ковры... Декор, созданный при молодом Людовике, грузный, приторный. Приятнее апартаменты новой моды. Спросил, где рука Леблона. Понравилось. Дубовые панели с тонким узором успокаивают душу. Отделать бы так небольшой кабинет в Петергофе...
Провожатые задыхались, гоняясь за царём. Забывая об этикете, сам открывал дверь, шибал ею остолбеневшего камердинера.
Леблон здесь в почёте.
– Его заслуга – апартамент, – слышал Пётр. – Апартамент есть сочетание комнат, удобных, например, для одной семьи. Спальня, столовая, гостиная, гардеробная...
Дворец разумно так устроить – в расчёте на высоких гостей, приезжающих целой фамилией. Изучая, записывая, царь опаздывал к накрытому столу. Особенно задерживался в парках.
– Природу мы не уничтожаем, – объяснял королевский садовник. – Искусство дополняет её в содружество с пейзажем естественным.
Аллея парка привела в натуральный лес. А в Петергофе продолжение нижнего сада – море. Там к простору водному покатый спуск, тут перед окнами дворца плоскость, на которой, до зелёной стены деревьев, раскинуты цветники – будто вышивка на полотне. Фонтаны, обдающие их водяной пылью, бьют изрядно, но и свои будут не хуже.
Из Версаля, с раннего утра, – в соседнюю усадьбу Марли. Узреть механическое чудо.
Прихотью Людовека вырос на пригорке, над Сеной, маленький дворец, королевское уединение. Понадобилась смётка инженера Девиля и плотника Суалема, чтобы усладить суверена плеском каскада и зеркалом пруда. Воду взогнали на пятьдесят туазов, то есть на двадцать с лишним сажен.
Седой, кряжистый Суалем при машине смотрителем. Вынув изо рта трубку, сказал:
– Мой сын у вас в Московии.
Есть такой, нанялся вместе с Леблоном. Сразу близок царю этот мастер, как бы породнившийся с Россией, степенный, чуждый раболепства. Влезли на плотину. Голоса потонули в мельничном гудении – речной напор поворачивал четыре громадных колеса. Суалем кричал на ухо. Диаметр – шесть туазов, дерево скреплено железом, канатная передача – к насосам.
Вынослива четвёрка. В одной упряжке не один насос, не десять, а двести двадцать один, по откосу берега, дышат шумно, наполняя бассейны парка. На прощанье царь обнял плотника и расцеловал в обе щеки. Как хорошо, что молодой Суалем в Питере!
Обед сервирован был на приволье. Вдруг появились, оцепили пиршество торговцы съестным – вельможи кидали им, как собакам, куски жаркого, сласти, фрукты. Те нагружали тележки и униженно кланялись, в чаянии барыша от продажи дворцовых разносолов. До чего же здешний бомонд презирает коммерсанта... Пётр на мерзкий торг не смотрел, утешался зрелищем каскада.
Ложе его – пятьдесят две ступени розового мрамора.
По сторонам, густо, – руины в штиле антик, столбы, статуи, портики. Петергофу, Стрельне они не в масть. Что поучительного? Безделки...
Между тем планы Петербурга у типографщика дс Фера гравированы и оттиснуты. Работа чистая.
Отослать домой.
* * *
Екатерина тем временем проживала в Спа, у лечебных источников. Туда же направился царь, отгостевав у регента месяц и неделю. Настроение победное – французский петух-шантеклер не боится более русского орла, клюёт высыпанное зерно. Швеция лишится ежегодной порции золотых экю – урон для неё болезненный, так как война истощила казну. Скоро три державы: Россия, Франция, Пруссия – подпишут договор, уже заготовленный Шафировым и Куракиным, – «О мире и безопасности в Европе». Прочих авантажен не счесть. За хлеб, меха, лес, жемчуга французы отплатят искусными изделиями своих фабрик.
– Тугой орех раскололи в Париже. Регента Англия подпекала, портила нам погоду.
О короле говорил взахлёб:
– Пальца на два выше Луки – писал я тебе... Играл я с ним. Обучал по-нашему – смеху было... Умный королишка, пригожий – женить бы его на нашей Лизавете[116]116
...на нашей Лизавете... – Елизавета Петровна (1709—1761) – дочь Петра I и Екатерины I, российская императрица с 1741 г.
[Закрыть]...
Брал королишку на руки, нянчил. Ущемлённое отцовское чувство излил на него. Дома непременно вырежет портрет семилетнего Людовика Пятнадцатого – на дереве или на кости. Сел набрасывать – пока свежа память.
Спа – городок в ущелье Арденнских гор, под нависшей бровью ельника. Пётр окунулся из вихря в затишье. Живи по уставу медицинскому, пей водицу, совершай моцион. Но чем залечить рану, нанесённую сыном? Пуще разболелась, огнём жжёт.
– Худая в нём кровь, – твердит Пётр. – Поганая кровь... Лопухи некое отродье.
Блажь полудетская, глупость, сумасшествие – всячески пыталась умалить вину Екатерина, чтобы унять страдания мужа. Всё напрасно, всё невпопад. Зря пилюли совала. В окно, в стену, на пол летели склянки.
– Меншиков, помёт сучий... Божился – глаз есть за Алёшкой... Никифор-де да Фроська... Один я, Катеринушка, вот напасть! Везде лукавство...
Везло же королям французским. Пётр наслышан о Кольбере[117]117
Кольбер Жан-Батист (1619—1683) – деятель французского абсолютизма, министр Людовика XIV, с 1665 г. генеральный контролёр финансов.
[Закрыть] – великом финансисте, о мудром кардинале Ришелье[118]118
Ришелье Арман-Жан дю Плесси (1585—1642) – герцог, французский государственный деятель, крупнейший представитель абсолютизма; с 1622 г. кардинал.
[Закрыть]. Посетил в Париже гробницу кардинала и не сдержался, сказал французам: увы, не имеет подобного советника!
Сейчас повторил Екатерине. Чем могла она помочь? Только участием женским. Пётр бушевал, хотел мчаться в Петербург. Но зачем? Австрия отсюда ближе... Доводы супруги действовали. Сковал поспешание. Кто же сумеет вытащить Алексея? Куракин? Обещана ему сия миссия, но годится ли он?..
Нет, не годится... Старой он фамилии, московской... Что Куракин, что Шереметев, Репнин, Долгорукий – доверял им царь с пристрастьем, постоянно испытывал, сомнения в себе не вытравил. Борис Иваныч – умный, деятельный посол в Голландии, слуга безупречный, однако Алексей ему племянник. И царь мог, придравшись к пустяку, накричать на Куракина, унизить на людях – будто виноват он, что женился на Лопухиной, на сестре Евдокии, сосланной в Суздаль. Нужды нет, что та, первая жена дипломата, давно в могиле...
Дядя и племянник... Бог весть, до чего договорятся... Всяк человек есть ложь.
Толстого послать... Тоже ловок трактовать с монархами. Роду Лопухиных не близок. С ним будет Румянцев[119]119
Румянцев Александр Иванович (1680—1749) – граф, генерал-адъютант и дипломат Петра I; в 1716 г., будучи капитаном, задержал и доставил в Москву из Неаполя царевича Алексея.
[Закрыть] – расторопный офицер, храбрый.
Любым манером добыть Алексея!
«Ушёл и отдался, яко изменник, под чужую протекцию, – пишет Пётр. – Того ради посылаю ныне сие последнее к тебе, дабы ты по воле моей учинил... Буде же побоишься меня, то я тебя обнадёживаю и обещаю богом и судом его, что никакого наказанья тебе не будет... Буде же сего не учинишь, то, яко отец, данною мне от бога властию проклинаю тебя вечно, а яко государь твой, за изменника объявляю и не оставлю всех способов тебе, яко изменнику и ругателю отцов, учинить, в чём Бог мне поможет в моей истине».
* * *
Румянцев выследил беглецов вплоть до замка Святого Эльма. Проникнуть, однако, не просто. Барон де Сальви требует разрешения от императора. Толстой в Вене принят холодно, пустил слух, что царь не остановится и перед воздействием военным.
Лишь в конце сентября открылись дипломату окованные ворота замка. Сердце у старика ёкнуло – отступник осунулся, стал как будто ниже ростом. Глядит будто облезлый зверёк в клетке. Визит ошарашил. Комкая письмо царя, Алексей бормотал:
– Обманет он... Злодей он... Не поеду я... За дурачка считает...
Потом, теряя связность:
– Не скажу враз, подумать надо.
И снова озлился:
– Злодей, злодей кровавый... Царь Ирод, а ты Понтип Пилат. Уходи! Мне здесь хорошо, меня император любит.
За советом – к Ефросинье. Она ждала беды: Везувий накликал, дымя. Сдержала испуг, сильной-то ей приходится быть.
– Не слушай! Не поддавайся!
Тошно взаперти, на чужой стороне. А дома – гибель сокровенных надежд. К следующей встрече с Толстым приодела царевича, причесала, пить не дала ни капли.
– Извольте не докучать мне, – заявил он. – Рисковать головой не хочу. Кончим на этом, прошу вас. Иначе пожалуюсь императору, благородному моему покровителю.
Пускай прогонят Толстого... Но барон де Сальви отстранился, приказа такого он не получил. Толстой продолжал докучать – и всё назойливее, без всяких политесов:
– Доставлю тебя отцу... Доставлю живого или мёртвого...
Румянцев, дипломата сопровождавший, сжимал кулачищем рукоятку сабли.
Алексей колеблется. Всё ещё цепляется за химеру. Карл вовсе не намерен воевать из-за приблудного. Как вразумить? Толстой придумал, пошептался с австрийскими чиновниками, развязал кошелёк.
Воскресным вечером, в храме, что против замка, рокотал орган. Ефросинья, терзаясь мыслями о своём будущем, пыталась молиться. При выходе какие-то мужчины грубо взяли её под руки, потащили к повозке ужасного, совершенно деревенского вида. Барон ухом не повёл, негодяй. Обернулся на крик Алексей, выхватил шпагу. Подоспел и брат Иван, запустил в одного из напавших камнем. Отбили.
Хороша защита цесаря...
– Убежим отсюда, – сказал царевич, отмеривая успокоительные капли себе и подруге. – В Рим, к папе.
– На крылышках, – откликнулась Ефросинья горестно.
Из замка не выпустят, так надо обмануть врагов. Ехать с ними и по дороге, улучив оказию, скрыться. Постучаться в обитель какую... Либо в Риме, прямо к престолу его святейшества. Уж туда-то Толстой не пробьётся. Гвардейцы швейцарские приставят алебарды к толстому пузу.
– Ну примет нас папа, – откликнулась Ефросинья вяло. – А чем заплатишь?
Без труда разбила смехотворный план. Даром только по шее дают. Папа захочет выгод для католической церкви – неужели непонятно? У него своя политика – соединение церквей, о чём давно стараются иезуиты. А желает ли православное духовенство подчиниться папе? Попробуй спроси! Наверняка прощайся с короной... Останется Алексей отщепенцем, проклятым в церквах. Умрёт родитель – на царстве будет Евдокия или кто из бояр.
Но тогда выход один – возвращаться к царю. К этому подталкивает теперь Ефросинья. Валяться в ногах, вымолить прощенье, зато снова забрезжит российский трон. Стоит ради него и унизиться и отслужить.
Мало убедить Алексея, – надо ещё придать ему смелость. Ефросинье легче. В Петербурге, накануне отбытия за границу, с ней разговаривал Меншиков: в доме Никифора Вяземского и в его присутствии. Светлейший сперва позубоскалил: раздобрела девка, не ущипнёшь. Впрочем, нет, пардон – её высочество... Потом, как бы из простого любопытства, посмеиваясь: с чего перемена в Алексее, столь внезапная?
– Подрос, верно, – ответила она в тон губернатору, шутливо.
– Охотой едет?
– Хватит, пролежал бока-то...
– Милостивец наш, – вставил Никифор, – завсегда питал интерес путешествовать.
– Так ведь не гулять зовут, – оборвал Меншиков. – В армию, шведа воевать.
– Аника-воин, – фыркнула Ефросинья.
– То-то и оно. Как же мыслит?
– Меня, говорит, родитель под пули не выпихнет. Побережёт, чай, наследника.
Сочиняла, выбирая слова тщательно.
– Наследник, значит, – произнёс светлейший жёстче. – А то – в монахи, в пустыню...
– Шатало его…
– А как опять шатнёт?
– Куда же? Не дай господи!
Смятение изобразила сколь могла естественно. Глаза открыла широко и недоумённо.
– Мало ли... Твоё дело женское, ты при нём будь. Нитка за иголкой.
Усвоила Ефросинья и недосказанное. Подозревает князь, а вмешаться в силу царского приказа не может, да и не считает нужным. Набедокурит Алексей – тем лучше... Другого наследника прочат они, Меншиков и царица.
Выйти бы за ворота замка, на рынок, окликнуть цыганку-вещунью, открыть ей ладонь...
Нитка за иголкой... Это неразрывно. Следить надо за Алёшкой, не продешевил бы. Должен ставить условия. Во-первых, чтоб не разлучили его с ней. Во-вторых, чтоб назначено было жить уединённо, в деревне.
Толстой принял условия. Царевич тотчас известил отца – возвращается он, «всенижайший и непотребный раб и недостойный назваться сыном...
Собрался впопыхах. Лихорадочно швырял в камин бумаги, всё спалить не успел, доверил Ефросинье. Она хворала. Оставил на попечении брата её и Афанасьева – повезут беременную деликатно.
Четырнадцатого октября 1717 года, охраняемый Толстым и Румянцевым, Алексей выехал.
Ефросинья, полулёжа в кресле у топившегося камина, перебирала корреспонденцию: цидулы из России, цифирью; черновики посланий царевича, адресованные друзьям и сенату. Жгла с выбором, несколько листков приберегла.
* * *
Пётр уже в Петербурге. Приехав, в тот же день осмотрел першпективу, проложенную к Александро-Невской лавре. Сопровождал Трезини. Каменная Благовещенская церковь заложена, а также кельи, чем царь остался тесьма доволен.
Отправились к Леблону. Дом у него теперь на Васильевском – новый, с мастерскими и службами. Хозяина не застали. Мария Маргарита – в халате, заспанная – бормотала пардоны. Вынула из поставца бутылку бургундского. Царь, смакуя вино, огляделся. Мадам, верно, на сносях. Посмотрел ей на живот.








