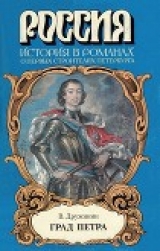
Текст книги "Град Петра"
Автор книги: Владимир Дружинин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 33 страниц)
О капризе царицы, о поиске печника архитект поведает гораздо позднее, детям своим.
Вон он, Порфирий! Занят в госпитале, снять его оттуда можно.
Канцелярская тетрадь пополнится ещё одной бумагой-запросом архитекта Трезини. А затем подошьют противный Ульяну договор.
«Переведённый навечно вольный каменщик Порфирий Иванов с сыном Сосипатром и с дочерью Лукерьей подрядился класть камины в Летнем его царского величества доме...»
Вольный – он часто и грамотный. На другой день, в присутствии архитекта, скрепил документ – благоговейно и с росчерком. В царский дом вошёл без робости, с любопытством, оглядывал покои внимательно, молча. Потрогал стул, покачал головой с сомнением – хлипок, мол. Сломает царь. Спросил, где трон. Ожидал большего блеска от престола. Скипетра и державы не оказалось вовсе. Итог подвёл короткий:
– Адмирал богаче.
Светильник висячий запомнился ему у Апраксина – серебра, верно, с пуд.
Перед тем как приступить, все трое замерли. Порфирий пробормотал молитву.
– Очищаем себя, – объяснил он потом. – Лишнее, дурное – вон из головы. В печи огонь обретается. Звери огня не имеют – оттого и звери. Огонь свят, и печь священна, её с чистым сердцем надо делать.
Семейная артель сладилась на диво. Хмурый, бровастый Сойка месит глину, Лушка подаёт отцу кирпичи. Лежат они в ушате с водой. Порфирий учит: кирпич надо напоить, иначе он выпьет влагу из глины, плохо пристанет.
Лушка работает, прикрыв глаза, как бы во сне. Доменико наблюдать обязан, но задерживается дольше чем нужно – из-за неё. Она нежно смазывает глиной кирпич, передаёт легко, плавно, будто бросает, захваченная некой игрой. Или то магический танец, совершаемый у очага? Всё тело участвует в этом танце – грудь, бёдра, крепкие ноги, прикрытые лишь чуть ниже колен посконной рубахой. Овчинная безрукавка сброшена, Лушке жарко. Под рубахой нет ничего, упругое тело как будто просвечивает, в нём обжигающая, языческая прелесть. Серая ткань тяжела, Лушка расстёгивает ворот и наклоняется, чтобы взять кирпич.
– Прикройся! – раздаётся голос отца.
Она слышит будто сквозь дрёму, появляется улыбка и долго не гаснет. Доменико не смеет призвать её взгляд. Ему неловко перед Порфирием, перед Сойкой.
Ночью он громко произносит её имя в опустевшем доме. Гертруда с сыном в Москве. Пляска бёдер, груди длится неотвязно. Фантазия Доменико приписывает множество достоинств предмету страсти, вспыхнувшей так неожиданно.
И конечно, безнадёжно... Скромник – твердила бабушка. Скромник... Другой бы на его месте... Дворяне не стесняются. Если не власть покоряет, то деньги.
«Я выдержу любой соблазн, – напишет он, замалчивая повод, – но не позволю себе уподобиться тем персонам голубой крови, которые используют своё положение, дабы вымогать удовольствия и выгоды».
В апреле Порфирий сдал камины.
Наниматели подстерегали его. Сманил прядильный двор. Доменико касательства к нему не имел, заходить запретил себе. Он усмирял себя, воспоминание о женщине перестало мучить, но не исчезло. Странное чувство сохранилось в душе – благодарность за что-то и ожидание.
Он даже сочинил стихи:
О фавна дочь, рождённая в лесах дремучих!
Явилась ты – и солнце брызнуло сквозь тучи.
О нимфа, неужель надежды канут в Лету?
Четвёртая строка не получилась. По этой причине или оттого, что не роднилась работная с мифической нимфой, Доменико перечеркнул свою лирическую попытку. Насколько известно – единственную.
* * *
Вскоре образ русской Лючии затуманился – настал день, знаменательный для архитекта и для столицы. «Журнал» Петра, по преимуществу военный и дипломатический, всё же уделил место событию:
«А мая в первых числах заложена церковь каменная в Санктпетербургской крепости, во имя верховных апостол Петра и Павла».
Для севера она необычна. Традиционное решение Пётр отверг с самого начала. На плане вместо креста – вытянутый четырёхугольник, как в Москве у Зарудного. На Украине подобные храмы – без приделов, однозальные – приняты давно. Фасад образует колокольня, возвышающаяся над входом, что соответствует и многим образцам старорусским. Доменико отстаивал их, царь утвердил, поставив условие: маяком, дневным маяком для судов, пылающим позолотой, должна быть звонница. После многих прикидок и совещаний с царём она осталась четырёхгранной – от земли четыре яруса, устремление вверх вертикальное. Только на самом верху сужается ствол. Из купола – восьмигранник, ещё куполок и ещё восьмигранник поменьше – основание для гигантского шпиля. Восьмерики на четверике – Доменико сберёг эту полюбившуюся ему русскую манеру.
Из крыши храма – в согласии с православным обыкновением – вторая вышка. Архитект хотел увенчать её маковкой. Миниатюрная, на тоненьком стебельке, она не сдержала бы устремлённость храма. Но царь воспротивился.
– А сюда грот-мачту ставь, мастер!
Колет зодчего этот второй шпиль, слишком заметный. Пробовал укоротить – царь не допустил. Корабль видится ему. Звонница – фок-мачта, позади грот-мачта, а крепостные стены – борта.
Замысел зодчего впоследствии восторжествует. Пока он мог только мечтать об этом. «По мнению его величества, нет ничего прекраснее корабля, – написал он с огорчением. – Архитектор вряд ли может тягаться с судостроителем».
Постройка ордерная, строгие пилястры подчёркивают разбег к облакам, капителями не прерванный, – узорность их Доменико выбрал умеренную.
Пилястры, естественно, белые. Какой им приличен фон? Лучше всего – красный, в тон кирпичных бастионов. Но спорить с царём безнадёжно. Красить лазоревым! Каков флаг флотский – бело-голубой, – таков будет и собор.
Всё-таки он, Доменико из Астано, из рода Трезини, строит храм в цитадели, в сердце столицы. Главный – как Нотр-Дам в Париже, как собор Святого Петра в Риме.,. Но воля царя может низвести церковь, только что заложенную, в ранг второстепенной, а то и вовсе упразднить. Застраивается Котлин, туда плывут барки с новосёлами, со скарбом, со скотом, с зеркалами и фарфором для вельможных покоев. Но лучше не думать... Архитект утешает себя.
«Царь желает иметь город, выделяющийся в Европе не роскошью вельмож, а красотой храмов и очагов просвещения. Он хотел прибавить мне жалованья, но я отказался брать вознаграждение за дом божий и попросил увеличить жалованье Земцову – в проекте петропавловском есть немалая его лепта, а платят ему всего пять рублей в месяц, тогда как я имею тысячу рублей в год, что крайне несправедливо».
Чета царская въехала в Летний дом. Камины топятся исправно, Екатерина довольна. Пётр в отличном расположении духа – раздражают лишь стены здания, ожидающие лепщиков. Доменико читает ему вслух «Метаморфозы» Овидия[76]76
Овидий Публий Назон (43 г. до н. э. – 17 г. н. э.) – римский поэт, автор цикла поэм «Метаморфозы» («Превращения», обработка греческих и римских мифов), посланий «Скорбные элегии».
[Закрыть]. Слушает с восторгом, прерывает.
– Попы пугаются. Словно я кланяться заставлю древним богам… Только и умеют бородатые – кланяться. Башки-то пустые, экзерсис лёгкий. Качай да бормочи писание вкось и навыворот. Мы не идолопоклонники. Мифы откуда произросли? Из гистории мощных люден, живших прежде. Нам они не боги, а разумные символы».
Многое из этих историй Доменико забыл. Царь вогнал его в стыд, спросив: чему учит сегодня сказ о похищении Европы, девы на спине плывущего быка? Едет она вроде охотно...
– В том и суть, – молвил царь с укором. – Она несчастья избегала. Кабы не Зевс...
Громовержец принял образ быка, так как полюбил Европу. Спас он её, увёз на Крит и жил с ней в мире и благополучии. Родила от Зевса трёх сыновей-витязей, Миноса, Радаманфа и Сарпедона.
Назвав их без запинки, царь объяснил значение, которое придаёт сей гистории. Что иное, как не мир составляет его цель? К этому Россия и ведёт Европу. Давно дала бы покой северу, кабы не глупое упрямство Швеции.
В июне, в тихую невскую воду, под гром салюта вошла «Полтава». Скляев обласкан, награждён, но второй линейный корабль поручен англичанину Козенцу – пусть соревнуются мастера, иностранец и русский. Для флота полезно. Ещё раз осмотрел Пётр свои парадиз, свой флот и отбыл с супругой в Ригу, а затем к войску – под Штеттин.
Доменико в Петербурге безвыездно. Земцов замечает смену настроении учителя – иногда терпит незаслуженные попрёки. Бывая у Синявина, архитект справляется насчёт Порфирия: где он, кому кладёт печи? Любопытство праздное, Ульяну непонятное.
Трудился архитект, не жалея себя, – лето промелькнуло, зима настигла стремительно. В декабре он подводил итоги 1712 года – в общем, удачного.
«Скажу не хвастаясь – главнейшие здания Петербурга возводятся по моим чертежам. Сверх того на мне дворец, начатый Фонтаной. К счастью, русские ученики старательны. Земцов становится зодчим в полном смысле – он сделал для царского сада изящную беседку и две водонапорные башни. Без него я бы пропал. Милость царя окрыляет меня, но чрезвычайная спешка, заданная всем нам, вынуждает меня повторяться. Храм в цитадели сочтён образцом, что, разумеется, льстит мне, но одновременно и печалит».
Царь приказывает строить быстро, скромно, с наименьшими затратами. Вот и множатся здания-корабли. Уже на Городовом острове, невдалеке от крепости, подняла шпиль четырёхгранная звонница, подобная Петропавловской. И на Васильевском – церковь Воскресения, губернаторская. Меншиков не посмел спорить с царём, выговорил лишь маковку вместо второго, малого шпиля предписанной фок-мачты.
По модели Адмиралтейства, допуская лишь небольшие отступления, надобно перестраивать в камне монастырь Александра Невского.
Будет длинный двухэтажный корпус и посередине, над папертью, башня квадратного сечения и шпиль – словом, родство с Адмиралтейством очевидно.
«Чересчур гордиться я не вправе – главный архитект, в сущности, его величество. Стиль этой невероятной столицы задал он – мне предоставлена честь исполнителя».
* * *
С улицы в окно брызнула песня:
Где же это видано,
Где же это слыхано,
Чтоб безрукий-то клеть обокрал,
Голопузому за пазуху наклал.
А слепой-то подсматривал,
А глухой-то подслушивал,
Безъязыкий караул кричал,
А безногий в погонь побежал.
Доменико слышал это не раз. Прошли скоморохи, надсадное кривлянье певца почти непристойно среди толпы – утренней, зябнущей на морозе, ещё не ободрившей себя вином. Солиста сопровождали музыканты – завывал рожок, бренчали струны гудка, рассыпая резкие барабанные звуки. Измазанные сажей и свёклой, скоморохи визжали, показывали языки, тузили друг друга. Истерическое веселье бродяг причиняет архитекту боль.
«Душа русских изливается полнее всего в песнях задумчивых и торжественных. В них, наверное, есть что-то византийское. Спонтанно образуется хор, и я поражаюсь, как естественно сочетают свои голоса люди незнакомые, только что собравшиеся где-нибудь на приволье, в праздник».
Толпа двигалась в одном направлении – должно быть, на площади выкатили бочки. Приплясывали ряженые – постоянные участники рождественской забавы; раскачиваясь, плыл над колпаками, над пёстрыми платками обрубок бревна, которому придали подобие козьей башки. Надетая на шест, она угрожающе дёргалась, нагибалась, бодала чью-нибудь спину. Вспомнился сон.
«Мне опять приснился козлёнок – тот, спасённый мной от мясников, когда я был ребёнком. Бабушка говорила: сон в канун рождества имеет особое значение. Растолковать теперь некому».
Послание необычно длинное. Упомянут и медведь, приученный ходить на задних лапах и танцевать. Архитекту тоскливо одному, и он не скрывает этого, но «здоровье Пьетро дороже всего, пусть окрепнет в здоровом климате». Подробности русской жизни прежде всего для старшей дочери и будущего её мужа-строителя. Авось Россия соблазнит его!
Козьи морды – они то смешные, то страшные, а одна глянула жалобно, как тот козлёнок с перламутровыми рожками. Вдруг под маской – Лушка?.. Нет, вряд ли она станет бесноваться. Всех затягивает, выгоняет из домов русская сатурналия – Порфирий не усидел, он тоже в толпе. И Земцов сегодня гуляет. Смысл вызывающий в этом русском слове. Они встретятся там, гезель и Лушка, на гулянье, где дозволяется многое…
Что же сулит сновидение? Хочется думать – находку. Подарком судьбы был козлёнок... Впрочем, разве Гертруда утолила ожидание, давно в нём угнездившееся? Ожидание встречи, назначенной свыше, блаженства невыразимого. Гертруду он не искал – она оказалась рядом. Он ни в чём не может её упрекнуть. Однако... Есть ещё что-то в запасе у судьбы для него, Доменико. Он верил в это. Не отвык верить.
Ночью томили мечтания, подозрения. Гезель пришёл утром трезвый. Печник не попался ли случайно? Вопрос сорвался ненароком, вогнал учителя в краску. Земцов понял затаённое, ответил с безразличием нарочитым, удерживая улыбку. Нет, не попадался печник.
Несколько дней работы – и опять праздник, новый, установленный царём. В Астано перед первым января избавляются от накопившегося хлама – выносят изношенное, поломанное, битое и сжигают. Доменико не забыл обычая отцов. Он зажёг все свечи в доме – свет обнажил прохудившееся полотенце, дырявые башмаки, вдавленное сиденье стула, мусор на полу. Нельзя пачкать Новый год – свежий, новорождённый. Трудился Доменико с упоением. Потом переоделся, натянул парик – встречать Новый год приглашён к Крюйсу.
Возвращался под утро. Завидев мерцание в окнах, решил, что гезель дома. Дверь не заперта. Видимо, свалился в постель беспечно – до того нагулялся.
Доменико вздрогнул, переступив порог. Не узнал гостью – она сидела в углу, в полумраке, неподвижная, словно в забытьи. Тёмный платок покрывал согнутую спину. Встрепенулась, испуганно вскрикнула. В следующую минуту руки её обвились вокруг его ног – он не успел удержать. Теперь он узнал её. Поднял с пола рывком, почти сердито.
Лушка прижалась к нему и неслышно, робко заплакала – коснувшись губами её щёки, он ощутил слёзы. Слов не было.
Случилось то, что должно было случиться. У неё горе, и она принесла ему это горе, пришла к нему, почувствовала его зов, доверилась.
Потом он припоминал, что платок соскользнул, что запах овчины был враждебен, отталкивал, и пальцы сами, будто наделённые собственной волей, откинули ворот, легли на шершавый холст, обтянувший её плечи.
– У меня тепло.
Кажется, то были первые его слова. Он оправдывался, высвобождал её из тяжёлого, резко вонявшего тулупа.
– Негодная я, – сказала Лушка, всхлипнув.
Потом – немота. Только изведав друг друга, смогли они превозмочь её. Заговорили стыдливо, удивлённые тем, что случилось. Лушка, взглянув на мужчину, жмурилась, мотала головой, лаская его волосами, натягивала одеяло. Три свечи, оплывавшие в горнице, порывами озаряли спальню – слабые эти сполохи слепили Доменико, мир для него рождался заново, был ясен и свеж. Столь полного слияния с женщиной судьба ещё не дарила ему.
И вдруг он испугался – это праздник занёс Лушку, он же и унесёт её, она не вольна распоряжаться собой. Как удержать? Спросил неуклюже:
– Отец где?
– Нету его.
– Нету? Почему?
– Ушёл он.
Прильнув, она отвечала, не глядя на него, губы щекотали его плечо.
Порфирий попросту сбежал. Иначе – быть бы ему в остроге. Сердце доброе – заступился за людей. Сойка тоже ушёл, Лушку не взяли с собой, она подалась к соседке, варежки с ней шьёт. Обе вчера были на Троицкой площади, у качелей. Пристали пьяные мужики, едва отбились. Полушубок порвали. Выпал узелок с деньгами. Брела домой, ревела – натолкнулась на Земцова. Он и привёл.
– Сказал – господин архитект хороший. Я сама знаю, что хороший.
Вжалась губами в плечо ещё сильнее.
– Почём ты знаешь?
– Все знают. Батя ой как хвалил!
Мало ли хороших... Не то, не то! Надо услышать признание. Доменико тормошит её.
– Ты хотела ко мне?
Упрямо отодвинулась. Он привлёк её к себе, она приподнялась. Долгий взгляд из-под прикрытых век грустил и упрекал.
– Я крест не сняла – вот ты какой. Теперь уж поздно. Нагрешили...
– Бог простит нас.
– Да тебе-то что? Мне гореть-то...
Он засмеялся. Если нагрешили оба, почему ей одной мучиться в аду? Что за фантазия? Посуровев лицом, Душка твердила:
– Мне гореть. Благородных нешто потащат? Мне одной...
* * *
Календарь на 1713 год – последний, отпечатанный в Москве, – объявил, что планеты предвещают мир, чем весьма обнадёжил.
Покамест кровопролитие поутихло лишь на западе – Англия, отдельно от союзников, прекратила войну с Францией. Угомонится ли Швеция? Карл побуждает к выступлению турок, грозит вернуться. Быть может, образумит взятие Штеттина, рейд на Гельсингфорс, замышляемый царём.
В феврале совершился въезд в Петербург её светлости принцессы Шарлотты – три десятка экипажей двигались цугом, форейторы, блестя позументом, лихо крутили в воздухе бичами, устрашая толпу. Свита состояла из шестидесяти восьми человек – бревенчатые хоромы вместили третью часть, остальных вице-губернатор Римский-Корсаков, путаясь в немецких извинениях, рассовал по окрестным избам и мазанкам. Шарлотта, сжав тонкие губы, взирала на странную резиденцию безгласно, оспины на озябших щеках выделялись броско. Отвечала сановнику её подруга, принцесса Юлиана Ост-Фрисландская, в тоне светском, изображая удовольствие. Римский-Корсаков кланялся, благодарил, хотя не разумел.
Кучера и лакеи ликовали – старая дева сыпала на диалекте Вольфенбюттеля отборную брань.
Алексей заканчивал службу в Польше. Рвением не отличался, провиант для войск собирал вяло, имел за это от родителя выговор. Отозванный из Торуни, угнан на Ладогу готовить лес для постройки скампавей. К супруге лишь заглянул по пути.
Шарлотта скучала, музицировала, вбирала сплетни. Подруга исходила злостью. Царевич является раз в месяц, грязный, измотанный. Влеком более к бутылке, чем к жене. Неслыханно!
В августе Кикин принял последнюю сплотку древесины. Некоторую часть сплавляемого он отвозил себе – для дома на Адмиралтейском острове и для дворца на левом берегу, уже заложенного.
Царевичу о том донесли.
– Я тебя не выдам, – сказал он адмиралтейцу прямо. – Но и ты будь надёжен.
– Всей душою твой, – заверил Кикин.
Снята родительская лямка. Был ли случай в гистории, чтобы наследник престола ютился в глухомани, ведал рубкой деревьев? Сам Пуфендорф не упомнит сего. Омыться, забыть постыдную неволю... Но в Старой Ладоге скрашивала ссылку Ефросинья, и супруга, отлично осведомлённая, не восставала. В обстоятельствах походных метресса, да ещё простолюдинка, мужчине извинительна.
Как быть в Петербурге? Возможно ли прятаться? Злыдня Юлиана, вся свита дармоедов – враги. Нужна осторожность. Не дай бог, если вмешается царь, Ефросинья, сердечный друг, понимает...
Значит, крепись, веди себя комильфо, хотя бы наружно, показывай с немкой любовь и согласие. Оказия к тому ближайшая – в доме слона. Презент персидского шаха, чудовище удивительное, привлекает толпы. Трубит, вскидывая хобот, пляшет под барабан, кланяется. Царевича и Шарлотту забавляет часто. Соединив руки, они бросают с галереи увесистые кочаны капусты – потеха, как слон катает их, рвёт листья.
Ходила смотреть и Фроська с Никифором Вяземским. Чудище вызвало у неё жалость. Алексею рассказывала:
– Слониху бы ему... Разлучённый, поди! Они чинно живут, парами. В сторону – ни-ни!
Читала про слонов. В семье баронского управителя книжки водились.
Алексей почуял намёк.
– Им-то проще.
Досадует, так горячее целует. А ему не отречься от законного ложа. Однако в худом есть и доброе.
– Пускай сына родит мне, – объясняет он Фроське. – Хоть польза от Рябой... Кровь у него будет – лучше некуда. Племянник императора... Любую королевну возьмёт.
Рябая – иначе между собой не называют. Родит – и он избавится.
– Убьёшь, что ли?
– Да уж как-нибудь...
Холодок пробежал по Фроськиной спине. Лютая, застарелая злость проняла Алексея, затрясла его, сделала на миг уродом.
Альков амура обрели они в её каморке, в пятистенке, отведённой Никифору. Целая ночь принадлежала им редко.
Входил царевич к Шарлотте, обречённый притворяться. Трепетал перед царём: достигнут его ушей жалобы – разгневается. Родителю ничего не стоит отобрать Ефросинью, упечь в келью либо на прядильный двор.
У Петра ни времени нет, ни охоты вникать в семейные дела – чьи бы то ни было. Вовсе не затем посетил сына, отлучившись на час от стапеля, от друзей-корабелов. Скампавеи, галеры множились, оснащался второй линейный левиафан – родитель был в настроении отменном.
– Ну похвались! – сказал он добродушно. – Чему тебя учили в Дрездене? Не забыл?
– Не забыл, – только мог вымолвить, губы от страха онемели.
– Так покажи, каков ты учёный!
Алексей засуетился, вынес охапку книг. Овладев собой, раскрыл Пуфендорфа, начал читать громко, внятно, дабы ублажить родителя прононсом.
– Гисторию потом, на досуге, – прервал царь. – Фортификацию учил? Задам я тебе задачу.
Чертить заставит, вычислять...
– Изволь, батюшка... Да вот нечем сейчас. Инструмент Афанасьеву отдал. Вот возьму у него...
– Возьми!
Афанасьева нет дома, а ждать родитель не станет, Алексей похвалил себя. Нашёлся! После Дрездена он считал себя лицедеем ловким.
– Врёшь ты, – бросил Пётр, помрачнев. – Думаешь, отвертелся? Ужо вечером приду.
Экзамен лишь отсрочен. Ложь предстанет явью, а также и неуменье, вина двойная... Сесть повторять разве... Да нет, поздно! В Дрездене кое-как рассчитывал оборону крепости, траектории ядер, потребных для подавления противника. Отвык, выкинул из головы.
Впоследствии, на допросе, царевич скажет:
«Но я, опасаяся чтоб не заставил чертить при себе, понеже бы не умел, умыслил себе испортить правую руку, набив пистоль, взял в левую, стрелил по правой ладони».
Пули так не боялся, как родителя. Слабость обуяла неимоверная, близкая к обмороку. Пистолет стал пудовым, прыгал. Алексей зажмурился, нажимая спусковой крючок. Открыл глаза не сразу. Не нашёл и царапины на ладони, только ожог. Авось сойдёт и так. Собственный их высочеств медикус перевязал и царю доложил: принц, упражняясь в фехтовании, повредил руку.
Пётр выслушал угрюмо, проведать раненого не изволил. Отмахнувшись, уехал.
С бешеной скоростью унёсся царский возок. Свидания с сыном тягостны – отрада у кораблей. Англичанин Броун довершает по прожекту царя «Святую Екатерину» – о шестидесяти пушках. Алексей посетил Адмиралтейство один раз, из вежливости. Ударами с моря и с суши покорен Гельсингфорс – сын поздравил родителя, однако ни войскам, ни флоту не показался, отговариваясь нездоровьем.
Экзаменом родитель не докучал более. Иногда давал поручения; Алексей исполнял что полегче, кое-как. Вольфенбюттельский медикус оказался услужлив.
Царь часто в отлучке, Меншиков далеко – занят войной и дипломатией, делит добытые земли между королями-алеатами. Тем вольготнее Алексею. Живёт отъединенно, к делам родителя безучастный. Снова за запертом дверью горланит кумпания, в Петербурге обновившаяся. Введён Кикин – царевич сделает его своим казначеем.
Яков Игнатьев из круга доверенных исключён. Надоел назойливый духовник, посмел упрекать. Негоже, вишь, будущему православному государю долго пребывать за границей.
– Тебе бы отлучить жену от ереси люторской, – гремел Яков. – А ты сам онемечился.
– Она в своей вере должна быть, – отвечал царевич. – Вопрос политический. Не суйся, не твоё корыто!
В церкви он бывает исправно, на монастыри жертвует. Мало, – твердил Яков. Отчего нет домовой церкви или хотя бы часовни? Немка опутала, что ли? Наследнику надобно выказать благочестие.
– Вериги, что ли, таскать? – огрызался Алексей. – Меня народ и так любит.
В этом уверен твёрдо. В Москве славят в молитвах святого Алексея, понимай – его, наследника. Никогда не был угодник столь почитаем. Тысячи слышали митрополита Стефана. Многомятежная Русь волнуется, – вещает он с амвона. Намёками обличает царя, который развёл великое множество чиновных, а они ради корысти доброго человека обесчестят, неправедного укроют. Многие божьи заповеди нарушены – бог за это наказывает, не даёт покоя и мира.
Сношения с москвичами, суздальцами, с матерью – в строгом секрете. Посвящены лишь ближние люди, и то с разбором. Всей тайной никому не владеть, всей корреспонденции никому не читать – даже Ефросинье. Бремя ведь тяжёлое. Довольно с неё главного.
– Будешь моей женой, – слышит она. – Царицей будешь.
Сказано на ложе, сказано во хмелю, но то же самое и трезвыми устами.
– Поди-ка... Мама говорила: прыг-скок да башкой в потолок.
А внутри словно мёд разливается у Фроськи.
– Батюшка взял простую. А мне нельзя? Кто пискнет – прихлопну, как комара. Мыслят – Алексей тихий, смиренный. Погоди! Взойдёт на царство Алексей грозный, почище Ивана.
На плахе, в петле – смерть быстрая. Нет, он на кол начнёт сажать. Первого – Меншикова... Потом Вяземского – он предатель, шпион.
В ярости доходил до помрачения. Швырял что попало, падал, корчился. Всё женское искусство употребляла Ефросинья на то, чтобы отвлечь, ублажить. Нежила как маленького, а то пускала слезу. Случалось – по признакам, известным ей одной, – упреждала приступ. Опомнившись, царевич хныкал, просил прощения.
– Кровь это... Дурная кровь отцова... Наделил меня батюшка. Переменить бы мне кровь-то... Выпускать доктора умеют, а вот влить хорошую...
Щекой к её плечу, пригревшись, клял свою судьбу. И снова утешала Ефросинья, гладила, баюкала. Счастливый, он благодарил её. Она бальзам для души его, нектар – пища богов.
Рассуждал о любви:
– Платон учил: любящий есть гений. Он видит в предмете любви то, что от прочих скрыто. Мудрый он был, Платон.
Никифор Вяземский, царский надзиратель, битый Алексеем, презираемый, поджидал Ефросинью. Засев в избе своей, пропахшей лампадным маслом, тленом, полагался на неё.
– Об чём говорили?
Один вопрос – сиплый, с оглядкой, вполголоса, изо дня в день. Ефросинья привыкла. Отвращение сдерживает. Никифор на службе, обязан докладывать. А что он напишет – зависит от неё.
– Шибко расстроен сегодня. Воспаление чувств. Всё из-за усатой. Задушить готов... Она истинно гадюка – Фрисландская. Встряла между мужем и женой, нашёптывает Шарлотте невесть что. Из того ссора вчерась, спали врозь. А он сына хочет иметь.
– Дело благое, – кивает Никифор.
Доля правды, ничтожная доля, но с него достаточно. Вся правда царю, Меншикову и присным не достанется.
* * *
Лушка осталась у Доменико. Гертруда раньше весны не вернётся, а весной... там видно будет. Лукерья, Лючия, на ласку отзывчивая, на диво неутомимо её тело – белое, северное. Она и хозяйка в доме – жильё жарко натоплено, банный дух издают вымытые половицы, а дорожки, протянутые по каморам, вычищены снегом. И готовить горазда – еда вкусна необычайно, особенно толстые, ноздреватые блины с творогом и маслом.
– Пряженцы наши, ярославские, – произнесла Лушка протяжно, радуясь тому, что Доменико и Земцов сами лоснятся, предавшись чревоугодию.
К Михаилу, даром что моложе годами, отнеслась по-матерински. Вихры ему подстригла. Зато и жучит: чёрта не помяни, корку хлеба не кинь – грех. Не мусор ведь, сгодится на квас.
Нетороплива, а дело спорится. Руки заняты, аккуратны, а веки прикрыты – она как будто уносится в другой мир. К отцу, к брату? В ответ на расспросы – смущение, испуг. Иногда выдавит, глядя в сторону:
– Батя не пропадёт, чай…
– А Сойка?
– Он бедовый.
В новом, райском своём существовании Доменико подчас забывает – беглые ведь они. Лушку надо прятать. Уходя на улицу, она кутается старательно, лицо под платком почти исчезает. Чаще Земцов бегает в лавку. Такая любовь – уже приключение, подобное тем, которые находишь в романах. Конца печального Доменико не допускает. Счастье сделало его беспечным.
Земцов нарисовал Лушку – с соломинкой в губах, застывшую мечтательно. Соломинку по её настоянию стёр. Ожидая одобрения, хвастал:
– В музее будешь висеть.
Значит, смотри каждый? Нет, боже сохрани! Люди ведь разные.
– Злой облает, а то и ткнёт.
И причинит ей боль либо хворь. Озорство это – писать парсуны. Зодчество, наоборот, признала ремеслом достойным. Любопытны ей модели. Сперва недоумевала: игрушки, что ли? Стало быть, строят маленькое здание, а затем настоящее. А ещё раньше?
– Во сне явилось?
Детская её наивность прелестна. В первое утро пристально изучала его – голого.
– Немцев видела, голанцев, шведов, а ты вон швейцар. Чёрный ты.
– Есть совсем чёрные.
– Как сажа?
– То не человек.
Дал глобус, показал место, населённое неграми, а по-русски арапами. Долго вертела шар, испещрённый немецкими надписями, голубизна её глаз снова гасла под ресницами – переселялась куда-то Лушка. В Африку?
Нет – верно, к родным скитальцам…
Может, попались уже... Сеть розыска закинута во все губернии. Ульян Синявин негодует.
– Дурак же мужик. Потерпел бы... Дёрнуло ввязаться...
Каменщики, плотники, штукатуры работали при госпитале, пристраивали корпус. Плату задержали всем, поднялся ропот. Порфирий – вольный мастер, против многих зажиточный, а горланил громче всех.
«И того декабря 17 числа он, Порфирий, с сыном Сосипатром пошли уходом в согласии с ними, слыша дерзкие их речи. Ушли с плотников: Иван Савостьянов, Клим Егоров...»
Доменико молчал. Благородная душа – Порфирий... Но тем серьёзнее его вина. Выходит, зачинщик. Тем страшнее за Лючию.
Для него она, сокровенно, Лючия. В стенах дома… А Лукерья, Лушка исчезнет.
– Мария, – шептал архитект, когда возок мчал его по заснеженной улице.
Спаси, огради, мадонна!
* * *
В феврале царь отбыл в Прибалтику, В Ревеле заложил военную гавань. Жильём служил домик на берегу моря, крошечный, скупо на двоих – койка денщика в сенях. Невдалеке, по чертежу Доменико, построено большое здание – простое, гладкостенное, с видом на море из верхнего этажа. Там государь трактовал с горожанами и помещиками. Баронам сохранил все привилегии, дабы были преданы трону, купцам и старшинам ремесленных гильдий обещал всяческое покровительство.
Тем же обнадёжил и Ригу. Объявил, что торговля с иноземцами отныне на Балтике. Архангельск закрыт.
Не обижен и парадиз. Товары из глубин России – пеньку и юфть, сало, клей, икру, поташ, ревень, смолу и прочее возить для продажи в Петербург. Шведский флот отогнан, Пётр считает себя на море хозяином.
Не соизволят ли высшие за виктории в Финляндии и в Ботническом заливе произвести в следующий ранг? Соизволили, царь отныне контр-адмирал, а на суше – генерал.
Доменико увидел его в обычном будничном кафтане. Ослепителен был рядом свежеиспечённый адъютант – униформа лучилась на апрельском солнце. Невысокий, оливково-смуглый Антон Девьер[77]77
Девьер Антон Мануйлович (1676—1745) – португалец, граф, генерал-адъютант Петра I, первый генерал-полицеймейстер в России.
[Закрыть], совсем недавно – моряк, сошедший с голландского коммерческого судна, – чем он приглянулся Петру? Столица гадала. Известно, что из Португалии, что царь по сему поводу сказал: «Мне всё равно какой он веры, лишь бы дельный был и служил честно».








