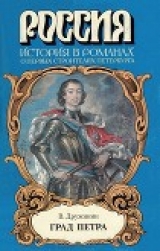
Текст книги "Град Петра"
Автор книги: Владимир Дружинин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 33 страниц)
В Ярославле бездельникам неповадно. Купецкие приказчики живо спихнут с крыльца и бока намнут либо спустят собак. А вора в мешок да в прорубь. Снег у купецких хором, у лавок сметён, сани по укатанным улицам несутся – аж свистят. Фамилии торговые держат Ярославль – им уваженье первое, а второе мастерам. Из них нужнейшие: зодчий, строитель, механик. Богачи возводят храмы на зависть Москве, древние стены Спасского монастыря рачительно латают – твердыня у слияния Которосли с Волгой будто новая. Уже замыслили и церковь на фасон петербургской – однозальную, с высоченным шпилем. Царский запрет прислан сюда, но лишь немного замедлил здешнее городовое дело. Сам воевода против купца бедняк, так станет ли взыскивать?
Порфирий выйдет из дому – слобожане шапки ломают. Пока отшагает две версты до набережной – не один знакомец поклонится. Где пропадал печник, – не спрашивают. Кто знает, тот помалкивает. Укажешь на беглого – раскаешься, отлупят за ложный навет. Нанял человек сильный. Дом его над Волгой – отрада взору, пеной бурлит лепное узорочье, растекаясь по красным стенам. Толоконников торгует с иноземцами, курит трубку. Слуга, одетый по-немецки, подаёт ему за едой мису с водой для омовения пальцев и салфет, дабы оные обтереть. Кроме печей ему занадобились в покоях камины – Порфирию их класть.
Платит хозяин по-божески. Квартирует Порфирий у вдовы-солдатки Лизаветы, стол и постель с нею общие. От венца уклоняется.
– Нечего тебе со мной связываться. Я трава без корня – ветер носит.
– Худо, что ли, тут?
– Не худо. Кабы не Лушка... Дитя-то покинуто.
– С пузом дитя, верно.
– Тьфу, засохни!
Дочь совестлива – нет-нет да и кинет словцо. Ярославских в Питере полно. Старшая жёнка с ней, кормятся рукодельем. Лушка блюдёт себя. Однако плоть слаба, а нечистый коварен. Пора выдавать невесту замуж.
– Сойка, подлец, бросил нас. Об сестре не подумал. Мне идти...
– Затопчут тя, затопчут, – тянет Лизавета.
Сгинет Порфирий. Метит на свадьбу к дочери – попадёт в оковы, на галеру. Года не те? Всё равно замордуют. Царь милостив, а слуги его – звери. Конвойный – тот же мужик, а грош последний отнимет и голодом уморит. Беглый ты, так будь посмирнее.
– Охрана есть, – успокаивал Порфирий. – Оружие Ильи-пророка.
В ладанке оно, всегда с собой. Упало с неба, прямо к крыльцу. Вдова сомневается. Точно ли застылая молния? Палец вроде... Поди, камешек простой... А Никодим высмеял. Говорит – суеверие. Огонь не застывает.
– Небесный же, – возражает Порфирий. – Естество иное.
– Всё одно природа.
Илья ни при чём, получается. Природу как понимать? Порфирию жаль пророка, грохочущего в облаках. Являлся же он благочестивым людям – стоит в венце, мечет копья. И коней разглядели те люди, и колесницу, унизанную самоцветами. До полуночи спорил Порфирий с приятелем – разорались, кур разбудили. Голосище у Никодима дьяконский. Вдова серчает. Пустобрёх, богохульник!
Порфирий заступился – Никодим зла не причинит, послушать его занятно. Справный христианин. Правда, был привержен к старой вере, хоронился в скиту, сгореть решил с братией, но опомнился. Рубаха уже пылала на нём. С той поры ожоги на теле, а в памяти – вопли несчастных, пожираемых огнём. Скитался потом вдали от родных вологодских лесов, от полоумного старца, завлёкшего паству в костёр. Наваждение рассеялось.
– Мы раньше двумя перстами крестились, а ныне тремя. Манной, что ли, осыпало? Мужик наг и бос, мякину жрёт. Ощипан как курица. И то сказать – щепотью способнее. До костей щиплют. Что князь-боярин не ухватил, так поп зацепит.
– Юдоль наша, – откликался Порфирий. – Во веки веков... А где есть воля? У казаков? Сойке моему напели – на Дон утёк.
– Зря, – и Никодим рубил ладонью стол. – Был у них Булавин[91]91
Булавин Кондрата Афанасьевич (ок. 1660—1708) – предводитель крестьянско-казацкого антифеодального восстания, донской казак.
[Закрыть] атаман. Слыхал? Воронье насытил ратью своей. Сдуло всех яко дым. Царя не одолеть. Сведений король и тот расколочен. Планида его меркнет, а царская в зените славы.
– Это уж точно, – кивнул Порфирий.
Оба видели царя – печник в Питере, а Никодим под Азовом. Турецкая пуля искала с месяц и нашла предназначенного, ужалила в ногу. Охромел, с пушкой простился, определили ему фуру и лошадей. Возил припасы с пристани, затем, после падения Азова, вовсе вышел из армии.
– Офицер – тот страшился царя. Солдата Пётр Алексеич не обидел. Зато викторию трубим. Бывало, с крымцем война али со шведом, с поляком – кто в убытке? Мы! Наших-то полегло тьма темь! Стрелы у крымцев – вжик, вжик! Пока изготовишь пушку – их нет. Глядь – деревня заполыхала. Старых прирежут, молодых в полон, к султану на базар. Молили мы бога, абы дал нам силу. Да, сподобился я узреть государя – этак вот, как ты сейчас, на шаг от меня, на батарее. Говорит: «Сыны мои, сбейте мне ту вышку!» Сам ядро всунул... и лик его пресветлый со мной, покуда жив.
– Где?
– Не за пазухой же! – громыхнул Никодим и показал гулким ударом в грудь. – В себе ношу. Эхма! Не дошёл я до Азова... Мухамедане же, вера своя, обычай свой – любопытно... Не дошёл – нога вот...
Хромая у Никодима нога, а руки золотые. В Рязани он плотничал, в Муроме золотил церковные главы. Сколь мест российских обковылял! Кузнечную работу довёл до художества – тому свидетельство на купецких воротах. Толоконников развязал кошель, да с лаской: «Сделай милость, Никодимушка, постарайся!» А его подхлёстывать нечего – старанье в жилах, амбарный засов и тот расцветёт.
И в Москве, на боярских воротах, – его изделия. Там встретился ему дошлый семинарист-книгочей, обучил грамоте. Он и внушил насчёт природы.
– Молния – тот же огонь, – долбит Никодим. – Избу спалит, человека убьёт – это ли святость? Вслепую разит.
– Божье наказанье, – гнёт своё Порфирий.
– А ты сбегал по воду, да и залил проворно. Отменил, значит, суд божий?
– К чему это? – смутился печник.
– Стой истуканом, молись – бог пожар не задует. Верно? Сам не плошай. Огонь, он огонь неизменно, дерево в пепел обращает. И вода так же... Такой воды, чтобы огонь не гасила, в природе нет. Или чтоб горела... Я к чему говорю. Бог сотворил природу и дал ей ход – ну, как ты, к примеру, часы завёл. Шестерни все вперёд крутятся, не назад же. Закон им задан. Река вспять не хлынет по молитве твоей.
– Почему нет? Чудотворцы, осиянные благодатью...
– Природу не ломали, не было сего... Господь изгнал Адама и Еву из рая, верно?
– Ну, изгнал.
– И сказал: в поте лица добывайте хлеб свой. Верно? На меня, мол, не надейтесь!
– Что же, отказался от нас?
– Зачем? Землица есть, растение разное – мало тебе? Жар солнечный – мало тебе? Пролежишь весну на печи – бог не вспашет за тебя. Ты думаешь, всевышний смотрит, умыл ты рожу сегодня аль нет? Упал волос с твоей головы аль не упал? Больно надо ему... Завёл он природу, совершает она круги – планиды вращаются, земля наша, круговорот сезонов на ней – зима, лето и опять зима. А ты понимай, как тебе жить!
Это Порфирий приемлет. Ленивому бог не поможет. Однако захолонуло на сердце: неужто слепа природа и брошен он, яко сирота в ненастье, без всякого покровительства? А вера на что?
– Молитесь – и даруется вам, глаголет писание. Страждущие, вон, к божьей матери казанской бредут. Исцеляет же – которые с верой припадают.
– К столбу, если с верой, тоже подействует. Чудотворная, а на чём висит? На гвозде. Не вобьёшь ты его – свалится с голой-то стены.
– Тише ты, дьявол!
Коснулись запретного. Слыхал Порфирий подобные речи: отвергал иконы поп-расстрига, хулил один пьяный бродяга – его тотчас вывели из кабака, крикнув «слово и дело». Святотатство Никодима пугает сладостно. Чему ещё учит тот семинарист, объявший природу и суть бытия?
– Люторцы не вешают икон, – зашептал Никодим. – Ништо им – сытые, гладкие... Сказано, не сотвори себе кумира. Икона – вещь, дерево да краска. Молитвы наши, малеванье наше впустую. Бог нас по делам судит.
– Так судит всё же?
Легче стало Порфирию – ощутил в заколебавшемся мире опору. Всевидящее око словно вырвалось из тумана, блеснуло вновь.
– Иконы бог презирает. Сколько их снято, сколько лампад потухло! Поубавилось идолопоклонства. Бездельники, вестимо, клянут государя – православие-де порушил, антихрист.
Порфирий соглашается – монахов, попов расплодилось излишек. Работал он в одном монастыре. Скопище непотребных, Содом и Гоморра.
– Господь за руку не водит, – продолжает Никодим. – Хоть царя, хоть тебя. Твоя воля, человече! На аркане, что ли, в рай поволочёт? Докажи богу и царю, каков ты есть! Истинный христианин или ложный... Ты примечай: кто зло на него копит, на царя? Бояре, духовные. Уж он сбил с них спесь! Друг ему самый любезный кто? Меншиков, из самых простых мужик. Солдатам уваженье, нам, мастерам. Плута, лежебоку отмотыжит, невзирая что дворянин. Да пущай князь! Сожалею я – помощников у Петра Алексеича маловато. Ты говоришь, рабство у нас... Семинарист сказывал – в немецкой земле не продают крестьян, как лошадей.
– Не продают, – подтвердил Порфирий.
– Государь печалится. Видит мученья людские, душа болит у него. У господ бы болела... Так нет – у нищего полушку отымут. Свора псов жадных... Тяжко с ними Петру Алексеичу. Кругом обложили, одного желают – в мошну поболе насовать. Погоди, вот покончит он со шведом, а тогда и за них возьмётся. Помяни моё слово! Такого царя в России не было.
Тут Порфирий смог прибавить – государь удостоил его похвалой. В Летнем доме, когда камины клали, остановился. Спросил, хорош ли кирпич, пьёт ли влагу. Царь и в печном деле смыслит.
– Я поклониться хотел... Он этак вот рукой – работай, мол! Спросил, как зовут. Спасибо, говорит, обогреешь царицу мою. Апартаменты-то ейные... И тоже, что у неё комнаты, что царские внизу, – убранство у иного торгаша богаче. Вот книги – библиотека целая. Каждый заходи, читай!
– Не бывал я в Питере, – посетовал Никодим и усмехнулся: – Хромого-то пустят ли? Поцелую замок...
– Нету его. И ворот нету.
– Ласков же Питер. А брешут про него…
– Приходи! Я там буду.
Намерения идти в столицу, устроить судьбу дочери Порфирий не оставил. Лизавета слезами щи солила, повторяя:
– Затопчут, затопчут!
Надоела нытьём. Будто уж все враждебны! Весной собрался а дорогу. Деньги зашиты в исподнем, сухари, сало – в заплечной торбе. Ладанку скинул было... Может, прав Никодим – суеверие. Но без неё вроде голый на ветру.
* * *
«1715 года мая 23 числа Семён Антонов в Петербурге, в доме своём, фискалу Дмитрию Лукьянову говорил: Вы только и знаете нас разорять, а не ведаете, как друг ваш Сидор Томилин отпустил за море пленных шведов. И мало ль он, Антонов, и за прочими знает, да не будет людей продавать».
Развязала Семёну язык водка. Дмитрий облобызал его за откровенность и начал выведывать. У того хмель мигом вышибло – отперся. Фискал же, проспавшись, поехал к Томилину.
Двор томилинский оглушал лязгом железа и рычанием. Сидор промышлял медведями. Ловленные за Ладогой, они поступали к нему, привыкшие к человеку, умеющие ходить на задних лапах, исполнять команду. Заключённые в тесных клетках, медведи свирепели.
Живой этот товар идёт бойко. Меншиков купил двух – на потеху детям – и нанял поводырей. Также адмирал Апраксин, некоторые сенаторы. Канцлер Головкин хочет, да по скупости торгуется вот уж который месяц. Всё это Томилин рассказывал взахлёб, заминая тревогу. Лукьянов не спешил, помянул шведов как бы вскользь – и купец заморгал, сбился.
– Давай-ка по-хорошему, – молвил фискал мягко.
Вздеть на дыбу, раскалить пытошный инструмент недолго. Томилин залепетал – народ-де у него меняется, исповедовать каждого не обязан, однако двое были сомнительны.
– Не нашего пера птицы. По словам Крюкова, ливонцы. Мне-то одинаково.
– Чьи такие?
– Крюковские. Да ведь давно, в осень прошлую.
– В прошлую, – согласился фискал. – Выльем поросло? Ошибаешься.
– Ливонцы же... Кабы пленные... Ливония же под царской державой.
– Шведы они! – прикрикнул Лукьянов. – Один, по сказкам, подполковник, а другой вроде денщика. Контуженный, поражён немотой – мычит только.
Томилин обмяк.
– Точно... Мычит, мычит... К медведю худо привыкали. Пошто, думаю, ливонцы? Сроду не было тут... Корела или, взять, чуваши – те так-сяк, а ливонцы... Так неужто шведы? Ох Крюков!
– И он ответит.
– Его клещами! – завопил вдруг Томилин, хватая фискала за рукава. – Его спытан! Моей воли нет. Обстряпал гешефт, дьявол конопатый.
Известно фискалу – коммерцию Томилина всю, почитай, поглотил Крюков. Ловкач мужичонка: начал с нитки жемчуга, потом завёл в Гостином ларёк – бусы, колечки, крестики... Теперь у него лавка красного товара, пристань, амбары. За границу сбывает кожи, воск, уральские цветные камни. И вот косолапых... В Европе они стали редки, да и мелковата порода. Русский топтыгин всюду желателен – краса каждого зверинца. Принцы, князья, графы наперебой рвут. Что же до Томилина – истинно, куплен с потрохами, сам у Крюкова на цепи. Барахтается в долгах.
Крюков прислал тех двоих с приказчиком и наказал – бери их и приспособь! Недели три пестовал их Томилин.
– Перед успеньем Стёпка ко мне – чтоб сейчас ливонцев на пристань, с медведями! Англичане купили...
Клетки Томилин бережёт пуще глаза – железо ведь! Ливонцы увели зверей и не вернулись. Стёпка сказал потом: то дело хозяйское.
Авось просторнее медведям на судне! Фискал по натуре добросердечен, готов просить у англичан милости для мишек. Сочувствует и Томилину.
Ну, держись Крюков, мошенник!
Ответа по-хорошему Лукьянов не добился. Купец отнёсся надменно, нагрубил даже. Затравили ярыжки, чернильные души. По складам шныряют, да ещё напраслину возводят. Какие шведы? Насчёт побега ему не докладывали. Ливонцы, один немой? Совести нет у фискалов, пристают с пустяками.
– Сплыл урод и ладно, эка потеря! Кликну Савку, евоный прогон...
Смотритель пристани играл незнайку, как на театре у царицы Натальи – таращился, плечи ходуном, затылок скрёб. Вспомнил. После покрова, точно, стоял корабль «Король Эдвард». Проданных медведей туда завели. Кто? Да ливонцы же! Куда делись потом, ему, Савке, невдомёк. Кажись, пошли обратно...
Всё услышанное Томилин сообщил Курбатову – старшему фискалу. Учинился розыск по всей форме. Савка, вздёрнутый на дыбу, добавил – те ливонцы действительно шведы. Сослался на Крюкова. Купца подтянули слегка, для порядка.
«И он Крюков сказал родился он Новгородского уезду в селе Осмине что ныне вотчина царевича Алексея Петровича. И тому лет семь ушёл он Семён в Санктпетербург на житьё и живёт своим домом и торговые промыслы имеет и от царевича Алексея Петровича выкупился на волю. И он Семён в прошлом 1714 году в октябре имел в услуженьи двух пленных шведов, ранее находившихся у господина Кикина...»
Имя прозвучало и забылось. Курбатов не потревожил Кикина – крупного коммерсанта, связанного операциями с Меншиковым. Вельможи и без того злы на обер-фискала, возбуждают против него следствие.
Доказать корыстную сделку не удалось. Посему виновны Томилин, Крюков, смотритель пристани Савка лишь в небрежении. Последнего отлупили плетьми жестоко, медвежатника чуть милосерднее, а богач отделался денежным штрафом.
Петербург так и не узнал, что под личиной немого скрывался бывший чертёжник архитектора Трезини. Молчальника Рольфа и подполковника ссадили с борта у берегов Швеции. Впоследствии он о своих приключениях поведал:
«Уход за медведями был испытанием за годы плена ужаснейшим. Я едва не потерял сознание, когда впервые открыл клетку, чтобы положить разъярённому чудовищу еду. След его когтей остался неизгладимым сувениром. Подполковник Арвидсон ощутил на себе и зубы медведя. Много раз я кормил зверя, прежде чем завоевал его расположение, но, выводя его из узилища, опять струхнул смертельно. Часто, когда я поднимал кусок мяса, дабы заставить встать на задние лапы, его оскаленная пасть находилась в каком-нибудь дюйме от моего лица. Лишь мысль о моём короле помогла выдержать всё это и благополучно проделать путь с рычащим подопечным через весь город к ожидавшим меня спасителям».
* * *
Шарлотта снова беременна. На её половине беспокойно-придворные перессорились вконец. Даже немцы... Зачем-то допущена в свиту графиня Моро де Бразе, высокомерная француженка. Кто её звал? Вносят смуту русские, приставленные царём. Да, Шарлотта знает, сплетня приписывает ей любовников. Царь поступил из благородных побуждений – «прекратить лаятельство необузданных языков». Русские заверяют – она невинна. Но уж очень криклива, сумасбродна госпожа Ржевская. Участница царских попоек, «князь-игуменья» всем и каждому, выйдя из дома, сообщает:
– Ох эти кумплименты великие! Ох приседания на хвост! Тьфу, глаза помутились!
Шарлотте услужливо переводят. Она не выучила русский. Алексей обижен, но что делать – очень уж трудный язык. Супруг отдалился ещё более. Иногда он, сжалившись, падает на колени, умоляет простить. Но чаще, гораздо чаще, холоден, жесток. Однажды сказал:
– Лучше было бы для нас и для вас, если бы вы возвратились в Германию.
– Для меня, вероятно, лучше, – ответила Шарлотта, – но доброе имя ваше и отца вашего пострадают.
Говорить по-немецки он устаёт и раздражается.
Шарлотту преследуют кошмары, странные хвори. Письма родным в Вольфенбюттель слёзные.
«Я не что иное, как бедная жертва моей семьи, не принёсшая ей ни малейшей пользы, и я умираю медленной смертью под тяжестью горя».
Супруги почти не видятся. Царевич у метрессы либо в кумпании. Собираются у кого-либо из ближних, а летом бражничают в лесочке, разложив припасы на пеньках. «Сатана», «Молох», «Ад» – то братья Нарышкины. Василий Крючков – «Жибанда», Иван Афанасьев – «Акулыпа». Рядится в женское платье, поёт тоненьким голоском непристойное.
Внезапно веселье обрывается. Словечко невпопад – и Алексей швырнул в неосторожного ножом. Случается, пьёт через силу, мрачно, бормоча ругательства. Кружка оземь, раздаются проклятия зелёному змию. Велит очищаться, каяться – пням, деревьям, божьим пташкам. Однажды, обозвав всех свиньями, ускакал в город. Толкнулся к Шарлотте, обдал водочным перегаром. Она прогнала, заколотилась в истерике.
– Навязали жену-чертовку, – говорил потом царевич Афанасьеву. – Это Гаврила Иваныч схлопотал мне, навесил на шею... Он и дети его, прихвостни царские... Как ни приду к ней – сердится, говорить не хочет.
Утром проснулся кислый, недовольный собой. Позвал камердинера.
– Хмельной я был вчерась. Не обронил ли чего с языка?
Нет, царя не бранил. Канцлеру, сынкам его – дипломатам, поди, икалось. Тоже не следовало... Маска должна быть непроницаемой. Маска наследника покорного, преданного, но, увы, немощного!
– Смотри не разболтай!
Афанасьев божился. Но Алексею чудились подвохи.
– Если и скажешь кому, тебе же хуже. Я отопрусь, а тебя в застенок. Кнута не пробовал? А прутика? Горячий, аж красный... Ты хилый, покричишь, да жилы и лопнут.
Родитель не слеп, однако. Обманывать трудно. Сдаётся, взгляд его проникает сквозь личину, сквозь стены мазанки, шарит по спальням, застаёт его с Шарлоттой, с Фроськой... Знает, конечно, что она помещена на мызе за Стрельной. Шпионы всюду...
Удерживая личину судорожно, сын изучает родителя. Царь видит Россию ведомой Алексеем-последователем. Так видит – так должно быть. Невыносимо ему, однажды доверившись, отречься. Катастрофой была измена Мазепы. Насчёт наследия сомнения посещают, конечно, но гонит их. Молод ещё... Чужих земель не чурается, находит там плезир, склонен к образованию – сие для родителя отрадно.
– Рано я сорвался из Карлсбада, – признался царевич Афанасьеву. – Иголки в пятках...
И закончил, кашлянув:
– Тонем в мокроте.
Петербургский климат вреден – вот что надлежит внушать. И врачи в аккорде.
Являются нарочные от Меншикова, от канцлера, от Апраксина. День рождения либо именины, а ещё важнее – спуск корабля. Окажут ли их высочества честь присутствовать? Не окажут, здоровье не позволяет. А камердинеру, забывшись:
– Я лучше удавлюсь, чем пойду.
Предупредительный Гюйсен, маршал двора наследника, принёс принцу новость: из Германии едет глобус.
– Громада гигантская, уникум в Европе. Поместят, как я слышал, в слоновнике.
Слон, которого на потеху и для сведения водили по улицам, скончался. Холода сгубили, да и притомился, должно, на царской службе. В опустевшем стойле и соберут глобус, модель земного шара крупнейшую. Сфера вращается! Внутри круглый стол; скамья, огибающая его, – на двенадцать человек. И над ними, золотом по куполу, небесные тела в извечном своём движении.
– Для царского величества, право же, нельзя было выбрать подарок прекраснее.
Гюйсен в восторге. На губах Алексея блуждает неопределённая улыбка. Ему безразлична виктория, освободившая немцев от шведов, его не трогает презент благодарного города Тенинга, хотя отдали ведь то, чем гордились безмерно.
– Двенадцать мест, – повторил Гюйсен. – Там, именно там учредить русскую Академию наук! В центре земли...
– Недурная игрушка, – отозвался царевич.
– Его величество находит иное применение, – поправил барон. – Знакомить с устройством вселенной.
Алексей встал.
– У простолюдина закружится голова. Впрочем, у меня, кажется, тоже, господин магистр.
Немец озадачен как будто. Хитрит, старая лиса! Вынюхивает... Советчик царя, учёный спесивец, – он тоже Враг. Нет спасенья от лазутчиков.
Запрётся, вчитается ещё яростней в поучения Мазарини – вдохновителя фронды или будет упиваться «Анналами» Барония. Выписки из них, впитанные памятью, – словно музыка.
«Аркадий-цесарь повелел еретиками звать всех, которые хотя малым знаком от православных отличаются».
«Валентиан-цесарь убит за повреждение уставов церковных и за прелюбодеяние».
«Патрикий-креститель Англии жил 134 лета...» Сделав перевод, Алексей отметил: «Сумнительно». Но интересно. Куда-то задвинута книжка о долголетии – надо штудировать. Неужели бог даст сие благо царю! Он, сказывают, опять здоров. Терпелив же всевышний...
В другом конце мазанки Шарлотта, изнемогая от тоски, перечитывает французский роман. О галантном кавалере, изысканно воспитанном, о любви, для неё несбывшейся. Супруг навестит её ради приличия – хорошо, если трезвый.
Любовь... Нечего было и мечтать... Она выдана замуж, чтобы дать мужу наследника. Это её участь, её долг.
Впрочем, когда-то она писала матери: «Царевич любит меня страстно, и я без ума от любви к нему». Когда? И было ли это? Хочется думать, было. Недавно она призналась:
«Я всегда скрывала характер моего мужа... Весь его недуг я приписываю водке, которую он пьёт в большом количестве».
На мызе ждёт Ефросинья. Деревянное строение с башенкой, выкрашенное в кирпичный цвет, принадлежало шведскому моряку. Морские гравюры и карты по желанию царевича выбросили и сожгли. В шестиугольной вышке Ефросинья устроила сладостный, затенённый шелками альков. Ткани полупрозрачны, колеблемы летним ветром, благоуханная метресса купается в отсветах – розовых, жёлтых, красных.
Здесь отдохновение. Здесь эдем тела и души. Здесь Алексей откроет то, чего не скажет и на исповеди.
Кто кого похоронит? Неужели родитель сына своего? Метресса, смеясь, протягивает палец с перстнем. Янтарь, добрый камешек, разутешит.
– Вот и губернатор лежит мёртвый.
Царевич серьёзен. Губернатор... Слыхал же недавно – Меншиков в опале. Обокрал казну на полтора миллиона. Этого царь не простит.
– Ещё за орден всыплет... Потерял ведь орден в остерии, напился и потерял. С горя-то... Позорище! Солдат алмаз подобрал, а кто-то ленточку. Каково это? Андрей Первозванный в грязи...
Веселятся оба. На ложе любви, как и во хмелю, желаемое рядом, почти осязаемо.
– Повременить немножко... Заживём тогда, Афросьюшка! Ух, заживём, царица моя!
Время, время... Река, по которой ты вынужден плыть в бездействии. Инерцию, молчание обратить в средство, как то делал кардинал Мазарини. «Я и время» – был его девиз. Бывают ситуации – время само приносит удачу.
* * *
Порфирий пробирался в Петербург осторожно. Дознавался, не рыщут ли команды, посланные ловить беглых. Бумаг он при себе никаких не имел. С большака сворачивал на тропку. Селом проходя, усматривал – чья труба едва курится. Стало быть, тяга худая.
Истрепал до Питера не одну пару лаптей. К вдове-перчаточнице постучался ночью. Дочь спала одна, мужиком не пахло – зря пророчил Никодим.
– Сватать будем Лушку, – объявил Порфирий вдове.
Услышал про Сойку – и видение свадьбы тотчас померкло.
– Мать честная! – взорвался печник. – Дуролом! Драл я его, да мало... Казак, вишь!
– На волю упорхнул, – вставила вдова.
– Воля! – огрызнулся Порфирий. – Воля без ума – на что она? Срамота! Наш царь шведов воюет, а казаки ему нож в спину. Ох Сойка, ох обормот! Будет ему воля... Посекут их, что капусту...
Потом, поостыв:
– И с чего попритчилось? Не ленивый ведь... От меня ушёл, а? Ужо сам мастер, от людей почтение... Смелость кипит – полезай на шпиль!
Вон их понатыкано в городе... Ветер качает, а то и ломает, строению от этого шатость, поруха, но царь не велит рушить шпили, велит починять. За смелость жалованье большое и окромя – награда. А Сойка – бунтовать. И Порфирий, вспоминая рассуждения Никодима, наставляет женский пол чуть презрительно:
– Казаки государство не управят.
Натворил Сойка, услужил семье...
Внутренне оплакивая сына – пропадёт ведь, дурной. – Порфирий сохранял суровость. Упреждал бабское вытье, которое претит ему. Сделал себе шрам от губы через щёку. Всё же душа не на месте.
Кабы не дочь – двинул бы восвояси в Ярославль. Решил отложить поход. Подался в Петергоф, где строят новые царские палаты.
Девка дрожала – вдруг откроется её грех. Сбегала в крепость, смешавшись с гурьбой работных, нашла Андрея Екимыча, шепнула.
Встречаться тайком, воровато, ей не понравилось. Однажды объявила, что отец возьмёт её осенью на родину. Он не звал, Мария придумала, выговорила в сердцах. Лежали в сарае, на прелом сене, отбивались от комарья. Амор, амор, а что же дальше?
Доменико тоже обиделся. Как жёстко она посулила близкую разлуку. Где же чувство? Любимая не горюет, пе выдавила и слезинки. Лишь наедине с заветной тетрадью он осудил себя.
«Я всё ещё плохо знаю русских. Драгоценная особа достаточно сильна в своём самолюбии, чтобы не унижаться мольбами. Вправе ли я требовать от северной натуры бурных излияний, характерных для итальянок? И вообще – можно ли что-либо требовать в моём положении? Если честь или долг перед отцом возобладает над узами любви – это отнюдь не будет свидетельствовать о бедности её сердца».
Любовь эта к тому же запрещена церковью. А религия – единственное, что соединяет с Астано, с предками. Нарушение заповеди повлечёт возмездие...
Запись на следующей странице, два месяца спустя, продиктована крайним отчаянием.
«Я убийца. Я наказан поделом. Я лишился преданной супруги, мой Пьетро потерял мать. Разверзлась смрадная пропасть – это моя жизнь, посвящённая самоуслаждению».
Гертруда вышла на рынок легко одетая и простудилась. Во время короткой её болезни на город обрушилась буря – начиналось наводнение 1715 года. Нева заливала острова, сносила подъёмные мосты над протоками, деревянные набережные, избы.
«Почему смерть постигла её, безвинную, а меня пощадила? Неужели мне предоставляется возможность искупить содеянное?»
Искупить – значит, выстрадать, понести добровольную кару. Свидания с драгоценной особой прекратились. II она не напоминала о себе.
* * *
Гнусную плоть истязает работа. Доменико сократил себе сон и еду. Его вдохновляют образы христианских мучеников. Завидев странника, таскающего вериги, подаёт милостыню щедро, шепча:
– Помолись за меня!
Начальствует Доменико исправно, до хрипа спорит с горожанами, отстаивая образцы домов, не уступает ни аршина участка, ни ступени крыльца, ни куска древесины для резного наличника, для флюгера. Царь велел экономить материал, сокрушать расточительство, тщеславие, и главный зодчий сокрушает – не за страх, а за совесть. Растут улицы образцовых домов, растут и пересекаются под прямым углом. Вместо путаницы проулков, прогонов для скота – чёткий рисунок кварталов. Очень скоро они займут половину Городового острова, весь Адмиралтейский, протянутся вверх по левому берегу Невы, а Васильевский, самый низменный, осушат каналы.
Нескончаем цуг подвод, везущих брёвна, кирпич. Беда, недостаёт умелых рук.
Права у Доменико обширные. Каждый, знатный или бедный, за чертежом к нему. «А ежели пожелает дом себе лучше построить, оному надлежит у архитекта Трезини требовать рисунку». Сам составил прожект – предъяви его, проси одобрения. Записано, объявлено всенародно, под страхом наказания. Голубятню и ту изволь ставить согласно рекомендации. Схемы пристаней, мостов, уличного настила, облицовки набережных – с печатью Трезини. Каждый кирпич в каждой стене – с печатью Трезини. Он, главный зодчий, задал размеры...
На Котлине работы замедлились, и царь, отлучаясь из флота в столицу, о нём не вспоминает. Намерения свои всё же не отменил. Велено возводить там тридцать домов ежегодно, исключительно каменных. Сердце столицы на Котлине – фантазия. Но где же? На Васильевском, где обживается губернатор? Или будет, по сути, не один город, а скопление городов, поселения, созданные ради причалов – речных и морских...
Жадно поглощают камень цитадель и собор. Это самое прочное из того, что строит зодчий. Но здесь ли сердце столицы? Лучше не думать и подавлять в себе гордость...
Начаты в камне, заместо деревянных, парадные ворота крепости – со стороны Троицкой площади. Подобные им – в Милане, в замке могущественных Сфорца. Рустованная плоскость прорезана аркой, нет ни колонн, ни лепных излишеств. Царь выбрал этот пример, листая книгу Виньолы. Строгость ансамбля крепости сохранена. В узких нишах по бокам будут статуи апостолов Петра и Павла, над входом – рельеф, снятый с прежних деревянных ворот, – низвержение Симона-волхва. И тут выбор царя. Кудесник вознёсся высоко – угодник же поразил его, яко Россия самонадеянного Карла.
Мир ещё не подписан, но царь, бесспорно, победитель. Застройка Котлина – демонстрация уверенности.
Однако центр столицы в планах его величества перемещается. Теперь как будто на Васильевский остров. Его осаждает стихия. Чем обороняться? Доменико предложил поднять полы на три фута, выше некуда – не на столбах же строить жилища!
А каналы – ослабят ли они напор воды? Потрудись, Андрей Екимыч, вычислить, задать копальщикам нужную глубину! Показать низины, где надлежит подсыпать земли... Мало этого. Царю грезятся плотины – защита голландская, крепчайшая.
– Взнуздал же тебя царь!








