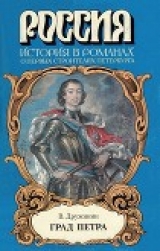
Текст книги "Град Петра"
Автор книги: Владимир Дружинин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц)
– Я рад тебя видеть, ужасно рад, – сказал кавалер. – Надо будет помочь тебе.
– Чем? Я виноват, я должен выстрадать.
Он прижал к груди ладанку. Голубые глаза смотрели просяще. Не нужно помощи, не нужно подачек. Ну, разумеется, викинги в плен не сдаются.
– Самое страшное – это бездействие. Всё можно терпеть – паршивую еду, вшей... Но сознавать, что ты служишь врагам... Что ты царский раб... В то время как его величество там, в Польше, не щадит своё здоровье... Рассказывают, подушка его величества покрывалась инеем. В палатку вкатывали раскалённые пушечные ядра с вечера, но ты же понимаешь, долго ли греют? А случалось, почивал прямо на снегу, положив голову на колени адъютанта. И конечно, ни одной женщины... Пока идёт война – ни одной... Графиня Кенигсмарк уж на что красотка...
Макс кивал, изображая почтительное любопытство. История известная. Правда, графиня не ахти как хороша теперь. В летах уже... Забавно, что она упорно преследовала Карла.
– Влюбилась бешено... Женщины ведь без ума от него. Он равнодушен, а они именно поэтому...
Простофиле невдомёк, что красотку подослал Август. Для него старалась бывшая фаворитка. Опутать, чтобы склонить Карла к переговорам... Но не стоит огорчать потомка атлантов. Пусть питается легендой.
– Слушай! Он приказал не впускать. Так она напала на дороге. Катила навстречу... Место узкое, не разъехаться. Так он, без слова, без поклона, повернул коня – и вскачь от неё. Единственный раз, когда его величество обратился в бегство. Но я болтаю, а для тебя это, поди, не новости. Ты же в другом положении. Вон какой чистый!
Открыться ему? Кавалер минуту молчал, набираясь смелости.
– Видишь ли... Я по отцу фламандец... Здесь для всех – фламандец, служащий губернатора. А тебе я скажу больше, если будешь молчать.
– Ты сомневаешься?
Подняв руку с воображаемой шпагой, простофиля поклялся. Хотел кровь себе пустить, побрататься, но кавалер, поморщившись, удержал. Достаточно клятвы. Немногого она стоит ныне, но пренебрегать не следует.
– Будем вместе служить нашему королю, – произнёс кавалер, придав голосу торжественность.
В тот же день он доставил лейтенанта к Трезини. Архитектор перебрался из крепости в новую, крепко срубленную избу. Чертёжника ждал, поставил для него стол рядом со своим. Интенданта упросил подкормить пленного.
«Любезный кавалер ван дер Элст, – написал вскоре Доменико, – оказал мне важную услугу, раздобыв отличного помощника. Это шведский офицер, захваченный русскими, человек на редкость добросовестный. Он трудится у меня с девяти часов утра до девяти вечера, всегда безропотно. В силу обета, данного по какой-то неизвестной мне причине, не пьёт вина и соблюдает целомудрие. К счастью, недурно образован – говорит немного по-французски, но я слышу от него не более двух-трёх слов в день. Истинное дитя севера!»
* * *
Полки Майделя стянулись к Выборгу. Не показывались более и корабли шведов. Петербург неотрывно наблюдал. Комендант Брюс получал донесения почти каждодневно. Соратником дозорного солдата становился доброволец финн. Рыбак в утлой лодке, скользящей над перекатами; мужик на лесной тропе, на картах не обозначенной.
Оборона Петербурга крепнет. Сотни подкопщиков, плотников кинуты на остров Котлин – ограждать земляными валами Ивановскую батарею и Новую, что на мысу против Кроншлота. Где были пушки в траншементах, там вырастают редуты. Орудия старые, отстрелявшие, сменяются лучшими, шлёт их из Москвы Яков Брюс, брат коменданта, главный артиллерист российский. Но уже разведана руда в Карелии, у Онежского озера, годная для плавки и литья.
На чистовых листах, изготовленных молчальником шведом, укрепления, даже малые, выглядят грозно. Заглавие обрамлено военными символами – пучками копий, стрел – и сверху, в облаках, Виктория. Комендант, бывая у Трезини, любуется. Слава об искуснике распространилась, шведа переманивают, суют заказы. Он же, отнекиваясь смущённо, краснеет как девушка.
Зашёл кавалер ван дер Элст, объявил волю губернатора. Необходимо ему иметь в своём доме план Петербурга с окрестностями. Ночами сиди, а подай! Молчальник управился. Снятое разными обмерщиками свёл воедино, поместил постройки, пристани, шанцы, нарисовал суда в протоках, пригнанные с Олонецкой верфи, вывел дороги, идущие от Петербурга, и амбары возле них, мельницы мукомольные и пильные, хибарки работных людей – всё словно глазами орла парящего, изображённого в левом верхнем углу. Дева Виктория восседает на орле верхом, блистает рыцарскими доспехами.
Доменико хвалил Рольфа, испытывая при этом досаду. Чувство странное, нелепое. На плане зияют пробелы, видимые только ему, зодчему Трезини. Нет Адмиралтейства... Доменико запрещал себе думать об этом здании. Запрещал и всё же строил мысленно, набрасывал эскизы, рвал, начинал снова и прятал, стыдливо скрывал.
По мнению Брюса, Адмиралтейство, третий оплот города, должно стоять на левом берегу Невы, против Васильевского острова. Доменико того же мнения.
– Нам противник подсказывает, – твердит комендант. – Неспроста полез к Ниеншанцу, к Неве. Переправу высматривал.
Значит, следует ожидать манёвра широкого, с целью отрезать пути на Москву, на Псков, Нарву. Обложить Петербург, атаковать его и с юга. Оплот на левом берегу важен городу жизненно. Царь наверняка согласится, получив подробную реляцию о действиях Майделя.
– Вдобавок приятство государю, – течёт плавный московский говорок Брюса. – Вот хоромина его, а вот корабельный двор, почти насупротив.
Флаг на рождённом судне, флаг на шпиле, вонзённый в низкое небо... Доменико не вытерпел, достал из короба заветные рисунки. К чему скрывать от друга! Роман одобрит.
– Тебе и строить.
Нет, нет... Он уедет. Вообще – задача не для него. Роман слишком добр, боится обидеть. Башня не годится. Торчит, будто кол из приземистого здания, гармония частей ещё не достигнута. Слабые попытки сочинить нечто оригинальное... Царь творит небывалое, и такой должна быть его столица. А это… это... просто мазня.
Доменико разгорячился, он ненавидит свои эскизы. Судорожно сгрёб, готов порвать. Да, бездарная мазня. Роман жалеет, не хочет признать.
– Экой кипяток! Экой порох! – ласково дивится Брюс. – А государь тебя отличает. Погодь, прискачет ужо!
Обещал быть до осени в своём парадизе. Август уже на исходе.
Не знал Доменико, вообразить не мог, что близится перемена в его судьбе. В Петербург несётся нарочный с царским повелением.
Гром средь ясного дня! Быть архитекту Трезини безотлагательно в Нарве, сооружать триумфальные ворота. Строки письма кратки, от себя гонец поведал мало. Где брешь в крепости, там и надлежит делать.
Ворота в честь победы... Выходит, действительно царь отличил. Доверил очень важное, очень дорогое...
Эскадрон драгун сопровождал Доменико, копыта выбивали дробь по земле, увлажнённой дождём. Волнами набегали леса, обдавали сыростью, настоянной на травах, грибным духом. Распахивались, обнажая болото, карликовый худосочный сосняк, проплешины тёмных, стоячих вод. Взвились, собравшись на юг, журавли. Быть может, пролетят над Астано... И снова лес утихший, предосенний. Тронутый здесь багрянцем, там золотом, он обряжается, будто дразнит грядущую зиму, Скоро гномы заберутся в свои жилища, под корнями. Доменико задрёмывает, оглушённый молотьбой копыт, стонами разболтанной, плохо смазанной повозки, и возникают ворота, одни за другими, бесконечная смена ворот. Не стволы деревьев, а колонны, не ветви над головой, а своды.
Ночевали то в поле, то в избах. Командир эскадрона, разбитной майор из поповичей, ловко отыскивал в разорённой деревне квашеную капусту для щей, а случалось – и кусок сала.
Было третье утро пути, прохладное, солнечное, когда впереди, в недрах зарослей, родился гул. Подобный канонаде, он нарастал и ширился. Поток Наровы, свергаясь с каменной ступени, рвался к морю. Пахло горелым. Война здесь оставила глубокие раны. Из траншей веяло смертью. Пожарища сомкнулись в одну чёрную ткань траура.
У Доменико есть время в Нарве. Он осматривает старый собор, – огромный, богатый, впору крупному городу. Рядом с ним миниатюрная ратуша, завершённая всего двадцать лет тому назад. Тонкая острая башенка. Зодчему нужно понять облик города, чтобы триумфальные ворота стали неотъемлемой частью. Здесь северная готика, строгая, стрельчатая, далёкая от московского буйства красок, от московской филиграни.
«Царя я не застал и рискую не угодить ему. Он полагается на мой вкус. Ворота велено делать деревянные, временные – затем их воспроизведут в камне, для чего имеются залежи прекрасного белого камня и умелые, известные и в окрестных краях резчики».
Отец прочтёт с интересом. Он строитель и не чужд архитектуре.
Дальнейшее – для дочери. Лючии уже семь лет, она страшно любит сказки.
«В давние времена тут были великаны. Один из них сел на выступ скалы отдохнуть. Потянулся к реке, бежавшей вдали, провёл ногтем борозду, направил реку к себе. Ему надо было вымыть ноги. С тех пор там огромный, гулкий водопад».
В следующем письме, спустя месяц, Доменико сообщил, что он возвращается в Петербург, так и не увидев царя. Ворота готовы, начальствующими лицами похвалены.
Царское спасибо зодчий услышит позднее.
Дерево с годами ветшает. Ворота не дождутся перевоплощения в камень и для потомков не сохранятся. Сам зодчий очень гордился своей работой в Нарве. Поездка оказалась для него значительной.
В альбоме Доменико – ратуша. Белая, лёгкая, она сияет, словно проблеск надежды в разгромленном городе, ибо создатель её – истинный художник. В чём же его секрет? Башенка узкая, хрупкая по сравнению с массой постройки, и, однако, они неразделимы.
Этого и не хватает будущему Адмиралтейству – единства частей. Прежние эскизы забракованы теперь окончательно.
Начинать сначала...
После Нарвы зодчий более уверен в себе. Иногда реро своевольничает. Не сметь, не отступать от условий, поставленных царём!
На всякий случай, проверяя память, Доменико развёртывает тугую трубку чертежа. И, кажется, слышит голос Петра.
«Амбар буерный делать», «канатный сарай» – гласят собственные его надписи. Буквы бегут, словно задыхаясь от спешки. План общий, показаны лишь размеры и назначение построек. Сараи, где надлежит мастерить разные детали кораблей, располагаются буквой «П», концами к Неве. Они охватывают двор, длина которого по берегу четверть версты, ширина вдвое меньше. На нём царь обозначил эллинги для сборки судов – тоже нетерпеливо, сплошным разлинованным прямоугольником. Слева от кузницы – два мелких квадрата... А снаружи смотреть – крепостной вал, амбразуры, наполненный водой ров, палисад.
Доменико рисует, стоя мысленно на берегу Невы, глядя вглубь двора. Впереди – главное здание. Сараи примыкают к нему справа и слева, штаб флота в одном строю с мастерскими – лишь слегка выдвигается вперёд. На плане его нет, царь только показал, царапнув ногтем, место.
Тут и загвоздка, как говорят русские. Меткое выражение... Гвоздём засела в мозгу башня главного здания-бумаги потрачено ужас, варианты не счесть, но покоя нет. Падает башня. Не в том ли причина, что штаб-квартира чересчур слита с мастерскими, чуть выше их ростом и башня вырастает внезапно, без перехода.
Попытаться поднять здание... Так, как поступил шведский зодчий, автор ратуши в Нарве. Он возвысил крыльцо, крышу и сузил её кверху. Башенка незыблема.
Выше, выше кровлю...
Фортификатор преодолевает себя. Мешала привычка к формам приземлённым, естественной былаг одинокая сторожевая вышка над ровным горизонтом стен. Забыть!
Ещё эскиз, ещё... Движение ввысь теперь уступами – одного восьмерика будет мало, нужен второй, под шпиль. Рождается ощущение успеха, сперва робкое... Последнее слово за царём. Доменико разглядывает рисунок придирчиво – где-то, возможно, кроется упущение. Да, надо уметь услышать жалобу конструкции, – говорил в Копенгагене коллега-француз. Сто раз представляет себе Доменико, как он показывает царю Адмиралтейство – величавое, завершённое в столице мирной, отбившейся от врагов.
– Мои фантазии, – скажет он, если волнение не лишит языка.
* * *
«...Мы чаем во втором или третьем числе будущего месяца отсель поехать и, чаем, аше бог изволит, в три дни или в четыре быть в столицу (Питербурх)».
Писано на Олонецкой верфи 28 сентября Меншикову. Впервые, чёрным по белому, царской рукой – столица. «Питербурх» – в скобках: дескать, не новость для губернатора, но напомнить надо. Подписано с лихим размахом, – итоги кампании радуют Петра, в особенности взятие Нарвы.
Тем огорчительнее поведение сына. Алексей, находясь в войсках, от службы отлынивал. От пушечной пальбы, вишь, голова болит и муть в глазах, слепота. Зрелище мёртвых истерзанных тел привело в обморок, будто субтильную девицу. Разгул солдатни в городе, после штурма, потряс до того, что приключилась горячка. Лекарь клал компрессы и поил отварами.
Никифор Вяземский, воспитатель царевича безотлучный, чтец и нянька, докладывал:
– Гипохондрия у их высочества. Мне, говорит, лучше бы в монастырь.
– Ты внушил небось, – разгневался царь. – Псалмы поёшь над ним, сопля!
– Да ни в жисть! – завопил Никифор. – Науки разные оглашаю... Про Александра Македонского...
Барон Гюйсен учеником доволен. Принц имеет склонность к географии и к языкам. Нельзя отрицать и охоту к экэерцициям, к верховой езде, фехтованию. Настроения нарвские барон объясняет молодостью лет, слабостью нервов.
Пройдёт детство... Царь не сомневается в этом. Видит наследника всех его дел, мощного монарха в столице, уготованной для него, пожавшего плоды побед. Иначе быть не может. Однако отсутствие сына среди воинов, празднующих викторию, было нестерпимо. Навестил болящего, в притворстве обвинить не смог, но и утешать не стал. В ответ на упрёки Алексей плакал, рассердил слезами. Разговора хладнокровного опять не получилось.
Наставление письменное твёрже. Поразмыслив, Пётр оставил сыну памятку:
«Я взял тебя в поход показать, что не боюсь ни труда ни опасностей. Я сегодня или завтра могу умереть, но знай, что мало радости получишь, если не будешь следовать моему примеру. Ты должен любить всё, что служит к благу и чести отечества, должен любить верных советников и слуг, будут ли они чужие или свои...»
Обдумано каждое слово. Отец не вечен – истина сия тронет же сердце...
«...Если советы мои разнесёт ветер... то я не признаю тебя своим сыном».
Упреждение столь грозное – впервые. И ладно. Проглотит сын горькую пилюлю, спохватится. Не ребёнок, скоро невесту ему подбирать. Царь дал волю негодованию и себя этим успокоил, отбросил докучливую семейную заботу. Обратился к делам неотложным.
Взяв под команду вереницу судов, доставил их в Шлиссельбург, а оттуда в Петербург. Под парусом, словно на крыльях... 11 октября вечером обедал у губернатора, был весел.
У Данилыча скопились книги, присланные царю из-за границы. Гистория знаменитых походов, расчёты кораблей, басни Эзопа...
– Тоже перевести. – Пётр листал басни. – Полезное чтение... Гляди, лягушка раздулась, лопнет, от гордости погибнет. Вроде тебя ведь.
Смеялся, совал под нос камрату картинки. Потом заговорил об Алексее.
– Попы ему фимиам кадили, не выветрилось... Царевич божьей милостью... А он в полку прежде всего сержант.
Распалившись, царь двинул кулаком по столу – посуда подпрыгнула, соус разлился.
Данилыч опешил, – вот до чего дошло у отца с сыном. Как рассудить?
– Кому талант, а кому и два, – произнёс Данилыч евангельское. – Алексей не рождён быть воином.
Свидетелей беседы – четыре стены, но, сдаётся, царевич присутствует. Самое правильное – не подливать масла в огонь, а сколь возможно оправдывать мальчишку. А то впоследствии отзовётся...
– Он править рождён, ослиная твоя башка! – крикнул Пётр. – Править, не в куклы играть.
Камрат поник виновато, полотенцем промакивал соус.
– Бургиньон-то какой пропадает... В него десять трав кладено. Версальский...
Пробыв в Петербурге восемь дней, унёсся на буере в Шлиссельбург. 25 октября вернулся, а утром, взойдя на борт шнявы, отплыл в Кроншлот. «Журнал» запечатлел разъезды неутомимые. Царь осматривал вооружение, испытывал мелкие суда – на случай баталии на Неве и в заливе. Искал место для Адмиралтейства.
Однажды вдвоём с камратом дотемна носились по волнам. Сошли на левом берегу, где прикорнула под берёзками деревушка – полдюжины хибар. Берёзы... Стало быть, почва не сильно болотиста. Пашут мужики, хлеб сеют, не тонут. Угодье обжитое, для городового дела авантажно, поверхность расчищена, удобна.
Переправились на Васильевский. Любимый остров царя, избранный для драгоценнейшей постройки. Отказаться трудно... Данилыч встал на кочку, топнул – брызнула грязная жижа. Болото же, – свай куда больше уйдёт. Забить, сготовить фундамент до зимы не успеть. А главное – резон стратегический. Всё же Пётр колебался, мучил гребцов. Наконец увидел башню будущего на левом берегу отчётливо.
«В 5 день ноября в неделю, – значится в «Журнале», – заложили Адмиралтейский двор и были в Остерии, веселились».
* * *
– Глянь-ка!
Позвала ласково, голосом грудным, воркующим. На пальце блестел перстень. Опустив поднос перед Алексеем, она поворачивала палец – и камень тлел, вспыхивал на диво ярко.
– Жжётся будто, – сказала Ефросинья.
– Врёшь.
– Потрогай!
Протянула и отдёрнула – трогать нельзя, камень этого не любит.
Уроки окончены, Никифор вышел. На подносе вишнёвая наливка, хлебцы с изюмом, сухарики с тмином – ежедневная награда ученику. От лакомства, от Ефросиньи пахнет вкусно. Таинственно влечёт недотрога перстень.
– Живой он нешто?
Спрашивает, чтобы удержать экономку. Игра, но чем-то, догадывается он, отличная от прежних, детских потешек. А камень и впрямь непростой.
– Красный сегодня. К морозу...
Бывает медовым, бледно-жёлтым. Сегодня солнце, оно льётся, дробясь, из решетчатого окошка, а у янтаря своё свечение, из глубины. Вынут камень из чрева некоего морского зверя, достался Ефросинье от матери, а та была кормилицей в баронской семье. Носить янтарь, для женского молока благотворный, ей полагалось.
Внутри камня – вроде зёрнышко. Нечто тёмное, продолговатое плавает в бездонных недрах. Вглядишься – будто произрастает что-то.
Горница натоплена жарко. Алексей выпил наливки, откусил от сдобы, потянулся к Ефросинье. Она отбежала, села напротив, на диван. Подняла руку, запрокинулась – янтарь ловил солнце. Рукав лёгкого халата сполз.
Перстень она не снимет. Можно, держа запястье, приблизить его. Вдыхать запах женщины, её водицы ароматной.
Алексей брезгливо отодвинул наливку. Приторна. Детское пойло. Пересел к Ефросинье.
– Кого задумал?
Так повелось начинать игру. Ефросинья прижалась плечом. Камень чудеса кажет, только смотреть надо долго. Тогда в разверзшейся пучине является всякое. Бывало, возникало материнское лицо – в суздальской келье, озарённое свечами. А однажды – в гробу... Алексей заплакал, катался по полу. Ефросинья утешала, обнимая точно маленького. Отца видел редко, да и не вызывал его. Неприятны и мёртвые тела на поле сражения, пожары от калёных ядер. Но камень послушен. Хочешь птиц райских – будут тебе. Хочешь заморскую страну, людей чёрных или жёлтых – явятся.
Магия тут или иное что? Никифор – тот посмеялся. Мол, забавляются ребятки. Он всё прощает. Духовник Яков хоть и строг, но не запретил, – гадай, но шибко в камень не веруй, а то воистину волхование. Вольсви же прокляты. Послушать Гюйсена, видимое в янтаре – мираж, продуцируемый воображением. Пусть так! Стало быть, отпустил грех учёный немец.
– Никого я не задумал, – сказал Алексей.
Локоть Ефросиньи на его колене. Сегодня она как-то ближе... Смотреть хочется на женщину, на белизну её тела. Ворот халата отогнут, грудь вздымается, натягивая пуговицу. На нитке держится, вот-вот оборвётся... Дурные помыслы, постыдные, но подавить нет воли.
Духовник Яков паче всех грехов порицает плотское вожделение. Из-за него мужья покидают жён, пренебрегают своими детьми, живут с наложницами. Подобно царю... Кто лишь поглядел с вожделением – уже прелюбодействовал в сердце своём. В писании начертано... Алексей дал себе зарок соблюдать непорочность – до святого таинства венчанья.
– Ты туда гляди!
Локоть не убирает, однако. Жарко так, что трудно дышать.
– Куда?
Губы онемели, слова роняют неосмысленно. Ефросинья ласково толкает плечом.
– Туда, туда, миленький...
Янтарь сверкает назойливо. Алексей жмурится, рука отводит перстень.
– Я тебя задумал.
– Меня? Зачем же, миленький. Здесь я, вся тут...
Не замечает, что пуговка отскочила, что скрытое обнажается. Нет, заметила... Отстранилась, выгнула стаи, пальцы бродили, нащупывая пуговицу, не нашли, замерли на груди недоумённо. Медленно, словно в забытьи каком, двинулись вниз. И вдруг брызнула, вырвавшись из тугого плена, помрачающая ум нагота, пресекла дыхание, затопила всего.
Длилось это один миг. Женщина запахнулась, вяло поднялась.
– Беда мне с тобой. Рубахи лежат не глажены.
* * *
Зима не прекратила работы на левом берегу. Сваи успели забить до морозов, в почву мягкую, Загодя втащили брёвна, жерди, срубы, пригнанные по воде. Мастеровой народ начал бойко, беспорядочно заселять остров, объятый Невой и Мойкой, – отныне Адмиралтейский.
«Сел верф, – указал Пётр, – делать государственными работниками или подрядом, как лучше...»
Государственные – это мужики из деревень, смена за сменой, без жалованья – только на хлеб расходует казна. Нанимать дороже, но выгоднее. Вольный работник сделает больше. Мастера постоянные, охочие, умелые нужны Петербургу. Пора сокращать труд подневольный – считает царь, но, оторванный от своего парадиза на месяцы, доверяет решение Брюсу: пусть поступает по обстоятельствам.
«...И строить по сему: жилья делать мазанками без кирпича, кузницы обе каменные в 1/2 кирпича, амбары и сараи делать основу из брусья и амбары доделать мазанками, а саран сбить досками, только как мельницы ветряные обиты, доска в доску, и у каждой доски нижний край обдорожить и потом писать красною краскою».
Строение покамест временное, о штабном здании, о башне и речи нет. Целиком каменное – оно в будущем. Так покамест хоть выкрасить под кирпич... А конторы учредить, прервав анфиладу мастерских, – пусть не жалуются господа начальники, что за стеной пилят, сверлят, колотят молотками. Сие соседство полезно.
Снег валил густо, люди торили тропы в темноте – собирались на верфи за час до восхода солнца, уходили через час после заката. Зима рабочий день уменьшила, так радости мало – на обед один час вместо трёх летом.
Делать, само собой, «с великим поспешанием».
* * *
– Бобыль ты горький, – твердит Брюс. – Прозеваешь невесту. Плюнет на тебя и укатит.
Доменико отмахивался.
– Сам я укачу...
Не ему завершать Адмиралтейство. Наймут зодчих знаменитых, не чета какому-то Трезини из Астано.
О том, чтобы отпустить архитектора, царь и слышать не хочет, намерен быть на его свадьбе. Шумели торжества в столице в честь нового, 1705 года, царь подвёл Гертруду к зодчему – танцуйте! Хвалил её безудержно. Она смеялась, Доменико чувствовал силу внушения, исходившую от Петра, пытался сбросить, и оттого даже не разглядел женщину толком. Прикоснулся к ней нерешительно, ибо казалась не настоящей, сотворённой чужою волей.
В остерии было тесно, он невольно встречал рукой её бедро, её грудь. Спросил, будет ли она в воскресенье на мессе. Гертруда кивнула в ответ, синева её глаз обдала теплом.
Зимней ночью Гертруда пришла – без кровинки на щеках, дрожащая от холода и страха. Чудилось, что кто-то крался следом. Доменико снимал с неё офицерский кафтан, башмаки пехотинца. Отвела его нетерпеливые руки, сама скинула нижнее, аккуратно сложила на лавке. Обернувшись к изображению мадонны, прибитой к стене, попросила у неё прощения и, зябко вздрагивая, упала на кровать, зарылась в медвежью полость.
Допустила мужчину не сразу. Кровать скрипела, за окном истошно выла собака, и он, изнывая от нетерпенья, согревал, покорял прохладное тело, в котором упрямо бился испуг.
Уйти хотела затемно, он воспротивился, они чуть не поссорились после первых объятий. Уверяла, что за ней следят, сплетничают и непременно донесут священнику.
Доменико заварил чай, достал пирог, присланный родными, из миндаля, зелёных апельсинов, – железно твёрдый. Гертруда быстро разгрызала его крепкими зубами. Сказала, что весной уедет к себе в Галле.
– Кто у тебя там? – спросил Доменико.
– Никого.
– Так зачем же?
Она вскинула тонкие, отливающие медью брови, глянула с укором, – до чего, мол, недогадлив.
– А куда? В содержанки к тебе?
Прямота смутила его. Она замолчала, взгляд вонзался, требовал ответа. Конечно, она не уедет, если...
– Нет, – произнёс он. – Мы поженимся.
Гертруда уловила сомнение в тоне Доменико, и они минуту смотрели молча друг на друга, задержав дыхание, словно перед прыжком.
– Мы поженимся, – повторил он твёрже.
Будь что будет, она нужна ему. Появится жена, хозяйка в унылом жилье... Потом он мысленно перенёс Гертруду в Астано, начал рассказывать об Астано, о Монте Роза, одетой сейчас цветеньем каштанов.
* * *
Январским морозным утром Петербург услышал пушечный гром. Стрелял Кроншлот. Неугомонный Майдель вздумал овладеть им внезапно – тысячный отряд совершил ночной переход по белой глади залива. «Проводник заблудился, провёл мимо, русские всполошились», – записал с чьих-то слов Адлерфельд, объясняя провал операции. В действительности Кроншлот ожидал налёта. Солдаты постоянно обкатывали лёд вокруг, создали преграду неодолимую.
Тысяча семьсот пятый год родился воином.
Брюс и Трезини в городе безвыездно – смотрят, везде ли надёжна защита. Куда теперь нацелится Майдель? Не покусится ли Анкерштерн проникнуть в Петербург мелкими судами? Какие фарватеры изберёт в дельте? Наиболее уязвимы Каменный остров и Васильевский. Архитект обрамляет их полукружиями редутов, молчальник Рольф исполняет прожекты начисто, преданно глядит в глаза. Сойдёт снег – тотчас нарядит комендант ватаги подкопщиков.
Губернатор – гость в Петербурге редкий. Прибыл в ростепель, уставший от московских пиршеств. Направлялся на театр войны. Сказал, что и женщины понюхают пороха – невеста его и Екатерина. Обеим велено посетить главную квартиру.
– А то одарят курвы – не отмоешь. А ты, Диманш, не боишься?
Итальянское имя Доменико, сиречь воскресенье, перевёл на французский. Архитект покраснел.
– С майоршей не сладилось, что ли? – допытывался светлейший. – Обижаешь свата.
Не забыл разве? Однако царь сватал усиленно – в остерии, когда праздновали закладку Адмиралтейства. Посадил Доменико и Гертруду против себя, соединил их руки, запел голландскую свадебную песню.
– Женитьба зачем? – пожал плечами архитект. – Жениться и уехать?
– Домой тянет?
– Пора уже...
– Побудь ещё... Фортификацию сдашь – потом езжай! Жалованье прибавим.
Редуты, расположение их губернатор одобрил. Радость невелика. Значит, построишь – и отправляйся! Для его светлости ты фортификатор. Может, и для царя... И больше ты не нужен. Не тебе завершать Адмиралтейство, воздвигать столицу. Царь пригласит зодчих знаменитых – не чета какому-то Трезини из Астано...
Он подозревал это. Намёк достаточно ясен. Да, не нужен больше, не нужен…
– Жалованье прибавим, – повторил губернатор.
Доменико отшатнулся.
– Нет... Прошу Baс!
Светлейший так и не понял ничего. Доменико замкнулся, затаил боль. Кинулся к Брюсу, но, устыдившись, выдавил:
– Не любит меня губернатор.
Комендант улыбнулся:
– Полно! У него семь пятниц на неделе.
Чуть полегче стало.
Зима уходила нехотя; снег, за ночь отвердевший, превращался в слякоть, душили туманы. А в Астано цветут сады... В сновидениях оживало детство.
«Я увидел козлёнка, того самого, – он лизал мне щёку. Затем мы попали на льдину, она трещала под нами, я очнулся от испуга».
Девять лет ему было... Дорога к озеру, к пристани, шла через Астано, по ней гнали скот, проданный на бойню, – кормить город Лугано. Козлёнок отстал от стада. Маленький, чёрное пятнышко на лбу, шерсть длинная, почти до земли. Доменико не окликнул погонщиков. Спрятать малыша, спасти... Привязал на винограднике, бегал туда, носил еду. Через несколько дней козлёнок пропал. Убежал, или утащили его... Доменико плакал и сквозь слёзы признался старшим в своей проделке. Отец сказал, что это воровство, отхлестал ремнём.
Сон и пережитое – всё просится на бумагу. Письмо необычно длинное. Доменико беспокоится: здоровы ли родные? «Надо мне возвращаться, хватит ходить по предательскому льду. Царь доволен мной, труднее служить губернатору. У него на неделе семь пятниц, как говорят русские. Но покинуть сейчас Петербург невозможно. Было бы нечестно бросать начатое».
«Благословите меня, я женился, – сообщил Доменико родным. – Её зовут Гертруда, она немка и нашей веры, вдова офицера, очень чистоплотная и прекрасная кухарка. После венчанья мы приняли гостей – господина Брюса с женой и вице-адмирала Крюйса[56]56
Крюйс Корнелий Иванович (1657—1727) – норвежец, сподвижник Петра I, приглашённый им в Голландии; вице– адмирал, потом адмирал, один из создателей Балтийского флота и защитник Санкт-Петербурга от шведов.
[Закрыть]. Гертруда умудрилась испечь хлеб с тмином, сладкий пирог, нафаршировала баранину. Жаль, нет у нас кукурузной муки для поленты».
* * *
Снова побились об заклад Анкерштерн и Майдель – отнять у царя Ингрию, Петербург разорить.
Сил прибавилось на море и на суше. Имеются сведения лазутчиков и добытые тайным образом карты. Анкерштерн обещает банкет на флагманском своём корабле в честь победы, не позднее середины июня. О флоте русском адмирал отзывается со смехом. Где левиафаны, которыми хвастал Пётр? Лишь с портрета грозят. Командует норвежский мужик, такелажник какой-то!
Пётр и своих привёл в замешательство, когда нацепил на треуголку Крюйса кокарду вице-адмирала. Просоленный моряк, изведавший нравы всех океанов, он воевал разве только с пиратами. Чем приглянулся царю? Ведь первая их встреча, шесть лет назад, едва не кончилась ссорой.
Волонтёр Питер Михайлов увидел Крюйса на Ост-Индской верфи за работой. Обер-мастер такелажа, он вязал хитрейший морской узел и ворчал, раздувая ноздри крючковатого носа.
– Вылупился... Шляются тут...
Ловкие, цепкие руки зачаровали Петра. А норвежец терпеть не мог праздных зевак. Тогда только подобрел, когда великан-московит сам сплёл два конца троса точно так же.
Царя предупреждали: характер у норвежца скверный. Ужиться с ним тяжело, придирчив невозможно. Стонут от него работники.
– Злой мастер, ух злой! – нахваливал Пётр. – Авось шкуру спустит с лентяев.
Нанялся Крюйс охотно. Хаживал он к Новой Земле, промышлял тюленя, с русскими ладил. Война лишь раззадорила. Для норвежца Карл – поработитель.
Первые слова, услышанные от него на российском флоте, были бранные. Подобно урагану его появление. День-деньской распекал подчинённых, вечерами строчил петиции:








