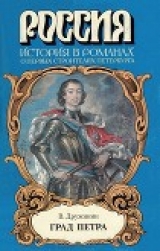
Текст книги "Град Петра"
Автор книги: Владимир Дружинин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 33 страниц)
Белые пальцы, унизанные перстнями, показывали на карте, где свои, где шведы. Куда пойдёт Карл, на Москву или на Украину, – не ясно. Врасплох не захватит. В Киеве государь-батюшка ещё в прошлом году основал каменную Печерскую крепость. Батюшка... Звучало в устах князя наставительно. Был в Жолкве совет, решено генерального сражения не давать, понеже в случае печальном армия окажется отрезанной от родных мест. Следственно – отходить, обрекая врага на лишения и на кровопускания.
– Мои драгуны...
Бросал вскользь, но дал узнать: вся кавалерия, и конники Мазепы тож, под началом, а в быстрых манёврах роль её – первостепенная.
– Жизнь у вас будет мобильная, – заключил Меншиков. – Сам бы на десять частей раскололся. А ля гер ком а ля гер.
– На войне как на войне, – откликнулся Алексей по-русски. Бойко, будто на уроке, за что корил себя после. Смутно чувствовал: нынешний Меншиков опаснее прежнего.
В канцелярии князя уже готовили подорожные, промемории, сметы, списки с указов. Неделю спустя туго набились они в сумку царевича. Направление сперва в Смоленск. Ближе к Москве, и то отрадно.
Служба унылая – запасай провиант для армии, торопи набор рекрутов, формируй полки, корми ненасытного бога войны! Вели искать беглых. На слово не верь, проверяй, попадётся вор – не жалей его, требуй наказания по всей суровости указа. Интендант хитёр, на бумаге у него всё гладко – перехитри его! Уличи помещика, который деньги за рекрутов получил сполна, а налицо их против списка половина, остальных держит в своих деревнях! И начальник уездный его покрывает!
Меншиков вызывает редко. Доволен не всегда – то рекруты больные, голодные, то лошадей недостача. Изволь покорно слушать. Меншиков – злодей, но ты от него зависим. Сколь возможно старайся, заглаживай провинность перед отцом! Делай свой манёвр!
Из Вязьмы он пишет:
«Неисправление моё, что до вашей светлости умели писать, и то нет иного чего, только что в безпредписанных целях обращаются и в том прошу вашей светлости...»
Кто-то усмотрел нерадивость, просчёт, беспечность и наябедничал. Проси снисхождения! Постоянная суета, множество задач непредвиденных... Если царь гневается – авось Меншиков заступится. Льстить князю, но умно, деликатно.
В конце концов блудный сын вернул себе доверие. Водворён в желанной Москве, но с обязательством – крепить оборону города, ибо вероятность шведского нашествия не снята. Ефросинья, друг сердечный, драгоценнейший, дождалась, поцелуи её после месяцев разлуки погружают в эдем. Из депеши Никифора, ещё в январе 1708 года, царю ведомо, что амур с чухонкой не отвлекает от трудов, не мешает ни службе, ни ученью.
«Алексей атлас изучает, грамматику немецкую, потом французскую и арифметику, в канцелярию ездит и 3 дни в неделю управляет городские дела».
От царя, вместо попрёков, вопрос в ласковом тоне: что прислать для перевода? «Прошу о истории какой, – отвечает сын непринуждённо, – а иной не чаю себе перевести». Книгу военную добровольно и не раскроет.
Есть помыслы у наследника, запрятанные глубоко. Выказывая искренность, усердие, а порой лопоча жалобы на свою немощь и прибедняясь, он прикрывает их. Отец и вообразить не сможет... Знают немногие. Угадывает Ефросинья – по отрывочным, лихорадочным речам на жарком ложе. Шведы устремятся к Москве. Алексей надеется, он уверен... Кто избавит его от отцовской власти, если не Карл? Это может произойти очень скоро. Царицу из монастыря выпустят, а его, наследника... Карл ведь не сел на трон в Варшаве, посадил поляка. Ну, там видно будет... Главное – тиранство отца рухнет.
Ефросинью обдавало волной страха. Алексей вкладывал ей в руки ядро, начиненное порохом. Тяжесть столь ощутима, что ломит суставы, мышцы. Выронишь – взорвётся, на куски разнесёт.
– Нехорошо, миленький, – бормотала она. – Нашествие, упаси бог!
– Отец виноват, – твердил Алексей упрямо. – Он заварил, он накликал.
– А мне какая доля?
Келья, острог, прядильный двор, куда уличных девок выгоняют... Ефросинья отворачивалась, холодела, сжавшись в комок. Слушала клятвы Алексея, поддавалась не сразу – пусть говорит.
А страх не отпускал. Утром вонзался с новой силой. Сто раз убеждала себя отделаться, шла в покои Никифора, через порог переступала, а непослушный язык – о другом... Что мешало? Сама не могла бы ответить. Жалость к юноше, возросшая благодарная привязанность к царскому сыну или чаяния, им внушённые? Пожалуй, всё смешалось... Уже не действовали посулы Меншикова – выдать замуж за офицера. Нет, не купил князь!
Смехом одолев неловкость, выкладывала Никифору сплетню, подхваченную на кухне.
Пугалась Ефросинья и самой себя. Какая-то отчаянность вселялась в неё, а страх изнашивался, притуплялся. Не купленная она! Сама себе хозяйка... К добру или к худу – сделала выбор.
Царевич повторяет еженощно: любит, никому не отдаст, другой женщины для него нет на свете. Если шведы придут, а его не будет рядом, друзья в обиду не дадут.
Друзей много, Алексей горд этим. В Москве Яков, Лопухины, люди лучших фамилий, отказавшиеся служить царю. А из тех, кто служит, великое число душой принадлежит к наследнику – например, в Петербурге Кикин.
Ещё летом, находясь вдали от Москвы, царевич снабдил друзей инструкцией. Камердинер его Иван – брат Ефросиньи – привёз духовнику Якову письмо.
«Король шведский намерен идти к Москве и от батюшки посланный к вам Иван Мусин[65]65
...Иван Мусин... – Мусин-Пушкин Иван Алексеевич – граф, сподвижник Петра I, участник Северной войны 1700—1721 гг.; в 1710—1717 гг. начальник Монастырского приказа, с 1711 г. сенатор.
[Закрыть], чтобы город крепить для неприятеля, и буде войска наши при батюшке сущие его не удержат, вам нечем его удержать и иным не объявлять до времени, и изволь смотреть место, куда б выехать, когда сие будет».
* * *
Кикину живётся худо. Супругу свою он оставил в Москве, пожалел. В Петербурге одиноко. Кости ноют от сырости – под полом избы вода. Перина обмякла, не греет. Сосут кровь комары и клопы. Беспрерывно свербит вопрос – невысказанный, непозволительный. Ради чего?
Который год в той же должности... Адмиралтеец, а проще говоря интендант. Другим вон как повезло... Меншикова шапкой не достанешь. Брюс, Апраксин[66]66
Апраксин Фёдор Матвеевич (1661 —1728) – сподвижник Петра I, генерал-адмирал; участвовал в создании русского флота, в 1709 г. успешно защищал Петербург от шведов.
[Закрыть], безродный Крюйс – всех обскакали. Только он, Кикин, столбовой дворянин Кикин, терпит унижение.
За что? Он ли не старался...
В Голландию поехал охотою – куда царь, туда и слуга его следом. Кикины от службы не бегали – напутствовал отец. Делай всё, что велят, не тебе – царю отвечать перед богом. Царь раздаёт чины, поместья; служи покорно, иначе не добудешь, не возвысишь кикинский род.
Новизна пленила Александра. За границей перенял модное – завёл парик, башмаки с красными каблуками. Вместе с царём посещал музеи, прозекторскую знаменитого доктора Бидлоо, который разнимал труп, показывал строение тела. Волонтёр быстро снискал монаршее расположение – любознательностью и особливо усердием на стапеле.
– Я тебя не спрошу, каков ты есть, – говорил царь. – Мне топор твой скажет.
Топором Кикин орудовал лихо, на мачту лез храбро, корабельную науку в себя впитал. Работая рядом с царём, предвкушал будущие блага. Ненавязчиво и как бы шутя оказывал Петру мелкие услуги – заботился о свечах для него, о стирке, о починке куртки. За это и за привычку пришепётывать получил от царя ласковое прозвище – «дедушка».
Мнение о человеке Пётр составляет сразу и менять не склонен. Когда Кикин, томившийся за Ладогой, в мачтовом лесу, скулил в письмах – тоскует-де, жаждет лицезреть благодетеля, – царь не проникал в скрытое между строк.
Перевод в Петербург – подъём небольшой. Метил в генералы – обманулся. Интендант, лакейская должность... Промахи свои Кикин сваливает на подчинённых, на погоду, плачется.
Царь велел прислать померанцевый цвет, смешанный с табаком, а получил не то – померанец в масле, для курения негодный. Велено было Кикину заказать московским печатникам морские сигналы – сделал, но проглядел ошибки в тексте. На кораблях нехватки. То верёвок мало, то смолы, то провианта – в море не выйти.
«Многого не обрёл, что потребно, – с раздражением писал Пётр, осмотрев судно, – а именно большого котла, оконницы ни единой, тако же ни стола, ни стула».
Воры тащат древесину в свои дома, провиант разоряют – адмиралтеец в ответе. Разве уследишь за всеми? А царь гневается, прочитав петицию, – и вот опять пакет от него, с обвиненьем.
«Снетков ржавых и воду солдаты две недели употребляли, отчего без невелика 1000 человек заболели и службы лишились, отчего принуждён я ваш закон отставить и давать масла и мяса, и для того по вашему расположенью месяц убыл. Правда, когда бы шведов так кормить, зело б изрядно было, а нашим я не вотчим».
Родным отцом для воинов следует быть. В письмах царя не только гнев, но и удивление. Что произошло с Кикиным, бравым волонтёром? Воров не ловит, обленился... Но из круга близких он не изгнан. Одумается «дедушка», исправится... По-прежнему он в числе тех, кого царь, извещая об успешной баталии, поздравляет. В Петербурге будучи, не преминет пожаловать.
Пётр любит явиться гостем незваным, внезапным. Так, совершая обход друзей, нагрянул и к адмиралтейцу. Да не один – с Екатериной своей. Кикин наслышан о ней – девка могучая, как гренадер, государь без стесненья с ней ездит. В армии за ней слуги с корзинами вина и деликатесов – угощает офицеров и рядовых, сама пьёт. Не покраснеет...
Екатерина вошла в избу, пригнув голову, – косяк и ей и царю был низок. Ошеломила Кикина. Не женщина – гора женского... Тут бы ему ублажить политесом – ведь набрался же за границей... Беда, сковало язык. Поклонился неуклюже. Царь сверлил взглядом вопрошающе. Перед его лицом Кикин растерян всегда, а великанша, красивая грозно – Диана-охотница, подумал он потом, – вконец лишила языка. Почувствовал, что далека она, не заступница, нет... А ведь хотел растрогать их, попроситься в войска, в главную квартиру, прочь от интендантских хлопот.
Увы, не носить генеральского золотого шитья!
Что мямлил, чем угощал тогда, – забылось начисто. Царь упрекал. Дом, вишь, псиной воняет, хозяйки нет. Отчего жена в Москве – Петербург нехорош, что ли? Проводив гостей с крыльца, в ночь, Кикин воровато притаился.
– Скушни шеловек, – ударил грудной голос Екатерины. – Скушни шеловек, это нехорош шеловек.
Голос женщины, сознающей свою власть...
Царь ответил не сразу. Кикин струной вытянулся – и расслышал. Так и повисло это над ним – «нехорош шеловек». Словно приговор...
С тех пор не раз подступал к царю, чтобы высказать наболевшее, – да где там! Перебегали дорогу другие. Либо заставал царя недовольным – дай бог оправдаться!
Весной 1708 года царь заболел. Горлом хлынула кровь. Врачи опасались – не выживет. Владыки тоже смертны... Кикин ощутил не сострадание, а щемящий соблазн перемены.
Ожидался приезд царской родни. Приглашение, равносильное приказу, послано было с одра болезни. Экая уверенность! Ещё не поправившись, он взошёл на буер, повязав шарф небрежно. Встречу назначил в Шлиссельбурге. Кикин наблюдал, как сходили на берег высочайшие особы, измученные путешествием. Старая царица Марфа[67]67
Старая царица Марфа... — Марфа Матвеевна (1664—1715) – вторая жена царя Фёдора Алексеевича, урождённая Апраксина.
[Закрыть] – вдова царя Фёдора, вдова царского брата Ивана Прасковья – тоже в летах, царевны Наталья и Марья. Все, кроме храбрившейся Натальи, шатались после качки, крестились – должно, благодарили Николая-чудотворца за спасение на неприветливой Ладоге. Царь, перецеловав прибывших, сказал Апраксину во всеуслышанье:
– Я приучаю семейство моё к воде, чтоб не боялись впредь, чтоб и в море ходили... И чтоб Петербург понравился... Кто хочет жить со мной, пусть привыкает.
Этак-то гнёт он всех на свой салтык! Кикин жалел уставших, перепуганных женщин. И они рабски повинуются – точно так же, как он... Просить царя бесполезно, не отпустит он из Петербурга, из парадиза, куда загоняет силой. Таковы тираны...
Собственного сына восстановил против себя... Слышно, Алексей был самовольно в Суздале, у матери. Евдокия говорит: если бог не укоротит век царя, надежда только на Карла. Бояре московские без стрельцов немощны.
* * *
Карла пожирало нетерпенье. С датчанами, с саксонцами он справлялся быстро – московиты всё ещё отбиваются.
– Нарвские беглецы, – роняет он, стараясь выразить презрение.
Кличка старая, звучит неубедительно, но штабные повторяют её. Русские отходят, и, значит, необходимо утверждать: король побеждает. Но вот парадокс! В столкновении с беглецами, азиатами, варварами не было за последние годы ни одного крупного успеха. А они непостижимым образом наносят урон. В прошлом году под Калишем, в этом – у Доброго.
– Снова Меншиков, – рассказывал Адлерфельд, камергер и летописец. – Двинул своих драгун, когда пехота уже попятилась. Сам дрался как дьявол.
Обычно король не желал знать подробностей неудачи. Он скривил капризные губы.
– Мужик, неуч... Неужели провидение хранит его так же, как меня? Смешно...
Взять реванш, отстоять честь скандинава... В проклятых лесах – то ли польских, то ли русских, чёрт не разберёт – беглецы не дают себя разгромить. Так отобрать у царя Петербург, не пожалеть сил, хотя подкрепления нужны и здесь, очень нужны...
Майдель, не выполнивший задачу, смещён, разжалован, коротает век в именье. На его месте генерал Либекер, отлично действовавший в Польше. Выборгская армия усилена: девять тысяч стрелков, четыре – конницы.
Четырнадцатого августа 1708 года Либекер выступил. В то же время шведский флот – двадцать пять вымпелов – появился в Сестрорецком заливе. Камергер-летописец Адлерфельд обойдёт молчанием начавшуюся операцию – потомкам поведает петровский журнал.
«Генерал-адмирал по прибытии в Нарву получил ведомость из Петербурга, что неприятель из Выборга идёт к Неве-реке, и по тем ведомостям немедленно приехал в Петербург».
Город взялся за оружие. Пехотинцы, пушкари заняли островные траншеи и редуты, смотрящие на север. Но лобового удара не последовало; Либекер повторил тактику предшественника. Прощупав оборону Петербурга и найдя её крепкой, он направился в обход. Переправа через Неву у Тосно удалась ему, но провиантские склады не достались – русские успели их сжечь. Генерал-адмирал Апраксин разгадал замысел противника – ничего нового, протаптывает маршрут Майделя, полукругом к морю.
Остриё полукруга, верно, окажется у Копорья. Апраксин пустился наперегонки со шведами. Они опередили, начали укрепляться – решили создать у Копорья опорный пункт. Там и завязалась схватка.
«Майор Греков и порутчик Наум Синявин с гренадеры траншемент обошли морем вброд, и тако неприятеля от моря отрезали и привели в конфузию, которой хотел оттоль в другой траншемент засесть, но наши не дали и за ними во оный траншемент вошли, и неприятеля побили так, что ни един не ушёл, но или убит или взят...»
Опять решил манёвр, для врага неожиданный. Помогло знание местности. Прибрежные броды были разведаны заранее, как и фарватеры в Копорскоы заливе. Королевский флот появился выручать Либекера, но достаточно близко подступиться не смог.
«Во время сего штурма адмирал Анкерштерн зело жестоко по нашим с кораблей стрелял, однако ж вреды никакой не учинил».
Над окопом курился дымок. Шведы жгли бумаги, но не дожгли – Апраксину принесли ворох канцелярщины. Там были остатки карты – два обгоревших куска. На одном – западный край Васильевского острова с редутом, на другом – часть крепости Петра и Павла.
Не ждали такси находки. Чертил Петербург пленный, который при архитекте, – больше, кажись, никто. Сличали, прикидывали – так и есть, копия с той самой карты, единственной.
Откуда она у противника?
Молчальник чинил перо, когда вошёл Брюс. Веснушчатое лицо было напряжено. Роман громко заговорил с архнтектом о буре, унёсшей в море плоты. Заготовленный вопрос терзал его. Мучительно было нести подозрения в дом, ставший близким.
– Копии все наперечёт, – сбивчиво объяснял Роман. – Где он ловчился? Рука-то евоная...
Почерк выдавал молчальника. Копии нумерованы. Правда, одну нечаянно спалили, одну потерял в походе пьяница поручик и был за то скинут в солдаты.
Запёрлись в горнице. Брюс шептал, задыхаясь от волнения, и заставлял себя глядеть на друга в упор. Просил вспомнить, не давал ли шведу лишней воли. Может, оставлял одного надолго... Перечертить карту – какое время потребно? Не минуты же, часы...
Архитект соглашался – часы... Нет, не имел такой воли. Дьявол, что ли, помог успеть и пронести? Пронести – не меньший фокус. За пазуху, в штаны? Всё равно заметно.
– Мадонна! – воскликнул Доменико. – Я виноват.
Роман отшатнулся.
– Минуты, – сказал архитект. – Минуты... Сегодня, завтра, месяц... Украдывал...
Подходящее слово вдруг выпало, Доменико сжал кулак, бил себя по лбу.
– Украдкой – да? Немножко каждый день... На маленький листок. Можно – сюда...
Он сунул руку за ворот. Ничего не стоит запихнуть листок. На улице безопасно – без нужды не обыщут.
– Я виноват, мадонна миа! Я не смотрел...
Архитект страдал неподдельно. Обер-комендант слушал с облегчением, позволил кончить пылкое самобичевание.
– Верю, Андрей Екимыч, – сказал он. – Как другие, не поручусь, а я верю.
Положили молчальника не трогать, на допрос не тянуть. Доказательств нет. Разумнее следить за ним. Если шпионит, так не в одиночку же, – почтальон есть, а то и цепочка почтальонов.
За ужином Брюс шутил, пытался развеселить архитекта. Доменико отвечал невпопад. Гертруда уловила неладное. Потом, выведав причину, всполошилась.
«Моя жена побуждает меня уехать, наше Астано чудится ей бог весть каким раем, а теперь к тому же и прибежищем от постигшей неприятности».
Посвящать родных Доменико не собирался – изливалось будто невольно.
«Весьма вероятно, мой служащий воровским образом снабжал шведов важными секретами. Боже, что за мука! Я не имею права забыть, выбросить из головы, что нахожусь рядом с злоумышленником. Это предположение бродит во мне, превращается в уверенность, и я боюсь поступить неосторожно. К счастью, господин Брюс доверяет мне. Но иногда я перехватываю косые взгляды. Я понимаю русских – здравый смысл диктует обвинить иностранца. Что делать? Уехать сейчас было бы малодушием и подкрепило бы худшие догадки на мой счёт. Ожидаем царя».
Пётр примчался в свой парадиз осенью, изголодавшийся по парусу, по веслу. В следующем письме Доменико, просветлённый духом, извещал:
«Его величество властно оградил мою честь. Он заявил во всеуслышание, что вероятнейшим виновником считает поручика, утратившего карту. «Брат мой Карл брезгует пользоваться шпионами», – заметил царь одобрительно. Как бы то ни было, несчастный поручик погиб где-то у реки Тосно, искупив свою небрежность».
Молчальник ничем не подтвердил подозрения. Всё же Брюс, сжалившись над архитектом, убрал шведа, зачислил в маляры. Ободрённый царём, Доменико удвоил рвение. На нём кроме каменных работ в цитадели прожекты заселения острова Котлин – ведь смелого намерения сделать его главным в столице Пётр не оставил. Прибавили хлопот и петербургские католики – избрали Трезини старостой церкви, им построенной.
Проклятый молчальник тускнел в памяти. Однажды топчан его в бараке военнопленных оказался утром пустым. Исчез бесследно, будто растворился в холодной мгле.
Весной 1709 года Доменико писал:
«Швед признал этим поступком свою вину. Молю бога, чтобы мне нашли в помощники русского, тогда я смогу спать спокойно».
Русский, который станет помощником Трезини, ещё учится в Москве[68]68
Русский, который станет помощником Трезини, ещё учится в Москве... — Земцов Михаил Григорьевич (1688—1743) – русский архитектор, участвовал в строительстве Петербурга и пригородных дворцовых комплексов, в составлении первого русского архитектурно-строительного трактата «Должность архитектурной экспедиции».
[Закрыть], в гимназии, основанной Эрнстом Глюком.
* * *
«Здравствуйте, плодовитые, да токмо подпор и тычин требующие! Отверсты вам врата умудрения. Нива неделана не носит пшеницу, лишь волчец и осоты».
Тело пылкого просветителя покоится в земле, а призыв его не умолк. Славянские литеры выведены броско, разузорены искусно. Приглашают от имени царя, повелевшего «тьму от очей утирати», обращаются «к российским юношам, аки мягкой и удобной ко всяческому изображению глине», – ко всем юношам, не исключая простолюдинов.
Прохожие косятся на афишу недоверчиво. Какое такое умудрение? На что? Ловушка для православных, растление души...
Из нарышкинских палат, сгоревших по неизвестной причине, гимназия перебралась в другие, тоже первостатейные, у Покровских ворот. Царь их содержит и ещё ученикам, которые бедные, отваливает кормовые. Известно – потакает... Нет, благочестивая Москва гимназию осуждает. Школа не церковная – стало быть, противна церкви. «Плодовитые», запуганные родителями, откликаются слабо – из сотни вакантных мест заполнено меньше половины.
Михайло Земцов не убоялся. Сердце его забилось радостно, когда он нашёл себя в списке принятых – между солдатом Захаровым и сыном певчего Емельяновым. В том же классе – князь Голицын, сын московского губернатора. С первых же дней Михайло, простой посадский, с ним в соперничестве. Нынче обогнал князя, заслужил кормовые по высшему разряду – на год двенадцать рублей.
Учится посадский, спит и ест в хоромах, под расписным потолком: в трапезной – солнце золотое и планеты над головой, в классе – венки из цветов и лавровых ветвей сплетённые. Греется Михайло, закоченев на уроке, у печки, бродит пальцами по дивным изразцам. Не печь – башня крепостная, сказочная, грозящая не пушками, а клыками и когтями чудовищ. Дрова она поглощает по-боярски. Завезённые скупо, они к середине зимы почти иссякли. Вода в рукомойнике замерзает. Пробуждаясь, Земцов стряхивает иней с волос. Голодные крысы носятся по опочивальне, грызут башмаки школяров и без того у многих дырявые, а одна норовила вцепиться Михайле в ухо. Иззябший, он вставал раньше шести часов – до ежеутреннего колокольного боя – и бегал с приятелями по переулкам. Тут выхватят жердину из забора, там подберут полено.
Два часа читают вслух, оглушая друг друга, Евангелие натощак, ибо сытое брюхо к ученью глухо. Потом грамматика, латинская либо немецкая, французская, за ней география по трактату чеха Яна Коменского «Обрис пиктус», сиречь «Картина мира». В полдень истомлённые желудки получают немного жидкой кашицы, обрызганной льняным маслом. Краткий отдых – и экзерсисы в русском правописании либо в латинском, да на чужих языках разговоры. Изволь ещё вместить гисторию, арифметику, философию, упражнения в риторике, разбор творений Вергилия[69]69
Вергилий Марон Публий (70—19 гг. до н. э.) – римский поэт, автор произведений «Буколики», «Георгики», эпической поэмы «Энеида» и др.
[Закрыть] – особливо «Метаморфоз», сиречь превращений в обиталище античных богов и героев. Лишь в семь часов ударит колокол шабаш, объявит долгожданный обед. Повар раздаст щи и кашу. Кусок мяса в сих разносолах попадает редко, зато сыт интендант, жадный пуще крысы, а ты, школяр, будь духом мясным доволен!
Ложиться ещё рано, а праздность – всех пороков мать. Юношам надлежит повторять пройденное и писать письма родным слогом возвышенным. В зале, на фигурном натёртом полу, посадский усваивает танцы – немецкий гросфатер и французский менуэт, а во дворе его ждёт «конский мастер», обучающий «кавалерским чином ехати и лошадей во всяких манирах умудрити». Старая боярыня, отселившаяся из хором в садовую светёлку, охает сокрушённо и машет на пришельцев клюкой – ишь взыграло подлое отродье! Перевернулся свет!
Гарцуя в седле по-кавалерски, посадский Земцов, солдат Захаров, сын певчего Емельянов взирали на маковки Москвы, сиявшие за оградой победно.
Приют и фавор в гимназии нашли воспитанники евангелической общины города Галле – очага вольномыслия. Они гораздо менее, чем прочие лютеране, уважали обряд, выше ставили значение добрых дел, а значит, и роль человеческой воли. В таком духе наставлял гимназистов Христиан Глюк – сын основателя, последователь Декарта. Розовый толстячок с выражением лица полусонным, философ на уроке зажигался, пухлыми короткопалыми ручками махал вдохновенно. Мир, сотворённый богом, материален, материя есть субстанция единственная, достоверность всего сущего человек постигает умом. Неслыханно! Где же тогда неисповедимые божьи соизволенья? Земцов первый решился спросить, поднялся, а губы выдавили:
– И царь в это верует?
Смутился и сел, сердитый на себя, – ляпнул не то, что приготовил, царя приплёл нагло. Новизна услышанного ошеломила его. Грамоте и счёту обучал приходский псаломщик, затем Михаил набирал познания беспорядочно, о Декарте ведать не ведал.
– Верует? О, майн готт!
Едва не взлетел над столом кругленький философ. Замахал, зачастил. Декарт не верует, а знает, составил себе идею о вещах. Кому нужна слепая вера? Что можно добыть ею? Ничего! Если хочешь познать – сомневайся! Да-да, сомневайся в том, что видится, кажется...
– Вы видите, досточтимый доктор, мне приходится объяснять им простейшие истины!
Христиан в пылу красноречия обращался к портрету Декарта. Мыслитель прятал улыбку сарказма под большим, отвислым носом. Он посмеивался над невеждами. Земцову стало бесконечно стыдно.
Конфуз сей произошёл в прошлом году, в самом начале курса. Сейчас готов хоть в огонь за Декарта. На дуэль вызвать того, кто скажет о нём плохое. Выбежать на Красную площадь и выкрикивать максимы, затверженные, как «Отче наш»:
«Я мыслю – следовательно, существую!»
«Дайте мне материю и движение – и я переверну весь мир!» Глюк, к тому же, доказал убедительно: его величество царь поступает как картезианец. Он правит Россией на основе знания и внедряет просвещение. Теория без практики мертва, – учит Декарт. Его величество того же мнения.
Занятия философией – для Земцова любимые. Отлично успевает он и в языках. А сверх наук обязательных увлекается рисованием. Часто, оборвав запись в тетради, начинает возводить дома, храмы, зубцы кремлёвских стен. Невдалеке от отчего двора строилась церковь – Михайло тянулся туда, подсоблял, зарабатывал монетку на пирожок, на калач.
Много раз повторен в тетради Декарт. Сомнение, мерцающее в тени насмешливого носа, передать было трудно. Земцов работал месяцами, благоговейно. Копия сделана. Свой Декарт, свой собственный, заперт в деревянном сундучке, поедет в Петербург...
О новом городе, о царском парадизе, в Москве говорят с недоверием и ревностью, с опаской. Для гимназистов он – неизбежная судьба. Прежде всего Петербургу, будущей столице, нужны образованные люди.
Должность, уготованная Михаилу, известна. Иностранцев там сотни, к кому-нибудь из них приставят переводчиком. К кому? Примется мечтать посадский – возникает постройка. Дом, корабль, воздетый на стапель, крепость...
* * *
В июне 1709 года Доменико заканчивал второй каменный бастион – канцлера Головкина, остриём к протоке. Туда же смотрит кронверк, насыпанный на том берегу. Работные, коих и на сей год потребовалось сорок тысяч, облицевали его дёрном, а вал крепости по всей северной стороне разрыли, раскидали, босыми ногами примяли. Ухают копры, глубоко вгоняют толстые сваи – опору для каменной кладки.
В эти дни в армии, подтянутой к осаждённой шведами Полтаве, Пётр созвал военный совет. Надлежало решить, «каким бы образом город Полтаву выручить без Генеральной баталии (яко зело опасного дела), на котором положено, дабы апрошами ко оной приближаться даже до самого города».
«Зело опасное дело...» «Журнал» повествует словами Петра – это его лаконизм, его прямота. Призрак нарвского несчастья, первого столкновения с Карлом, витал под низким потолком хаты. Тёплый ветер колебал рушники на оконцах, свечное пламя замирало и вспыхивало, король-победитель возникал неотвязно – все победы последних лет не могли его истребить. И Пётр, глядя на генералов, вдруг с новой остротой ощутил тяжесть беды, тогда постигшей. Неужели опять та же участь? Будущее, всегда доступное ему, всегда отзывавшееся, отгородилось непроницаемой завесой. Опасно, зело опасно вступать в баталию... Никто не произнёс это вслух, но сказанное генералами к тому сводилось, и теперь они сидели молча, каждый со своими сомнениями. Постаревший Шереметев; измученный недомоганиями, интригами подчинённых, ссутулившийся под царским взором Репнин.
Беспечная улыбка Данилыча казалась врезанной навек, широкие плечи Боура, кряжистого латышского мужика, – он понуро изучает свои ладони...
Прошло время, когда Пётр – молодой, неопытный – искал поддержки, совета стратегов старших. Генералы ждут. Похоже, разучились думать... Жаждут, чтобы заговорил царь, рассеял колебания, отпустил с приказом. А Пётр медлил минуту-две, надеясь на что-то. На что же? Он вряд ли мог бы ответить. Казалось, будущее всё-таки уступит, откроется – вдруг чьим-нибудь голосом даст о себе знать.
– Карл-то подох, говорят, – бросил в тишину Меншиков. – Упокой, господи!
Репнин дёрнулся от смеха – по угодливости. Остальные промолчали. Данилыч сверкал в полутёмном углу хаты золотым шитьём, играл белками выпученных глаз. Кафтан к совету надел новый, – меняет он их чуть ли не ежедневно.
– Я ему смерти не хочу, – твёрдо, нахмурившись, сказал Пётр. – Сожалел бы весьма... Нам сперва посчитаться нужно.
На миг противна стала улыбка камрата. Смех некстати. Выходка пирожника, глупая. Князю не подобало бы...
– Так хоть завтра, батюшка...
Камрат не хвастает, кинется в сечу стремглав, как бывало не раз. Зарвётся, пропадёт...
– Рано, господа генералы! Попробуем помочь Полтаве. Чтоб и оттуда урон шведу нанести...
Звук собственного голоса ободрил. Образ короля-победителя бледнел. Нет, не ему в угоду продиктовано решение – единственно целесообразностью военной.
Траншеи-апроши на другой же день начали. Вскоре они упёрлись в болото, в речную заводь, а иные засыпал пулями и снарядами противник. Коммуникация с осаждёнными – для отправки подкрепления – не состоялась. Между тем защитники Полтавы выскребали из магазинов последние горсти пороха.
Откладывать неизбежное больше нельзя. Снова собрались военачальники в хатке, занятой царём. Пётр почти не слушал их – он нетерпеливо повелевал. Армия перешла Ворсклу, расположилась в боевой порядок. Зашевелились, повернулись фронтом и шведы. Раненый Карл, привстав на носилках, звал гвардейцев служить ему верно, как всегда. Не Швеции – лично ему, вдохновлённому всевышним. Призрак же Карла прежнего, победившего под Нарвой, отступал и являлся вновь перед царём, перед начальниками и солдатами, и все вели сокровенную с ним борьбу. Он был осязаемо близко, когда Пётр напутствовал армию в канун сражения.
«Ведало бы российское воинство, что оный час пришёл, который всего отечества состояние положил на руках их: или пропасть весьма, или в лучший вид отродитися России...»
Карла же ни боль в забинтованной ноге, ни предостережения соратников не лишили апломба. Он приглашал свою свиту на обед в царский шатёр.
– Будут отличные кушанья.
Сулил торжественный въезд в Москву и уже назначил коменданта ей – генерала Шпарра.
Баталия разгорелась утром 27 июня и длилась всего два с половиной часа. Исход наступил стремительно, ошеломив победителей и побеждённых. Карл не чуял своей обречённости, Пётр не сознавал в полной мере созревшей русской силы.
«Доносим вам о зело превеликой и неначаемой виктории», – писал Пётр сразу после боя. «Неначаемой» – то есть дивной, превзошедшей всяческие надежды. Одно это слово свидетельствует, как трудно было решиться, бросить жребий. И как радостно Петру теперь.








