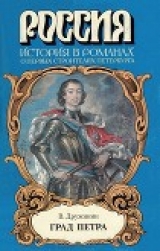
Текст книги "Град Петра"
Автор книги: Владимир Дружинин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 33 страниц)
– A-а, иди на расправу!
Мастер, поднятый на воздух с последней ступеньки трапа, охнул – так обнял его государь. Потом, подкинув словно ребёнка, расцеловал в обе щеки.
– Кощей ты костлявый.
– А корма-то... Не разжиреешь. Я думал, помру и не сподоблюсь твою милость лицезреть.
– Помри только, – царь погрозил кулаком. – С того света выволоку.
– Надолго ли к нам? Спускать вместе будем, а?
– То фатер небесный ведает.
Отшучиваясь, встал у штурвального колеса, любовно погладил рукоятки, потом сжал крепко. Мысленно сдвинул скампавею, повёл корабль к морю. Виделись пушкари у мортир, разинувших лягушачьи рты. Шагнул из рубки, показал, стуча тростью, как разместить артиллерию. Спросил про Кикина: здоров ли? Понимай – исправно ли служит. Скляев ответил уклончиво:
– Скучает без тебя, батюшка.
– Ты не юли! – царь внезапно вспылил. – Покрываешь его? Сговорились тут... Бракуешь мачты?
– Было намедни...
– Всыплю я ему... Плакальщик! Пишет что? Отправление дел без вас слабое, света нет без вас... Тьфу ты! На других кивает, а сам... Обиженный ходит господин адмиралтеец. Не чувствует, сколь высоко поставлен... Не сметь покрывать! – и ярость вновь исказила лицо Петра. – Разбаловались... Один Крюйс не врёт.
– Ястреб, – сказал Федосей с восторгом. – Ух, когтистый! Кляуз тут на него...
– И от тебя тоже?
– Не-е... Он зря-то не налетит. Офицеры серчают.
Про матросов, про солдат ругатель писал царю, что у них «храбрости и смельства довольно». Иное мнение о начальствующих: «Мы бы ещё в службе государевой много к лучшему чинили, а нынче, как по пряму речить, так у меня здесь дело идёт истинно с неправедными людьми, которые у адмиралтейских дел есть».
Но случалось и осадить Крюйса. Напомнить, что отнятие шпаги у офицера допустимо лишь за самую тяжкую вину – к примеру, за измену.
– Фатер мин, – сказал Скляев, – поубавить бы нам фонов-баронов.
Царь тряхнул кудрями.
– Надо бы, мастер...
– Не сумлевайся, фатер! Немец умён, да и лапотник не глуп. Вон лебёдушка твоя! Плоха разве?
Повёл царя к стапелю, где выгнет корпус яхта «Надежда». Подлинно лебедем поплывёт. Строит Гаврила Меншиков, тоже из мужиков, однофамилец губернатора. Учился у англичан, у венецианцев, а – уверяет Федосей – мог бы их поучить.
Подоспел Кикин. Раздобрел на новой должности, взобрался на стапель с одышкой.
– Отец родной... Вот счастье-то... Маялись, ожидаючи...
Кинулся лобызать и осёкся – царь отстранился.
– Спишь ты долго... Спишь, пузо растишь. Не видишь, какой лес тебе суют. Палки мокрые...
Дал слово повесить, если переломится на бригантине мачта либо стеньга. Потом до полудня бегал Кикин за царём, оправдывался, вымаливал прощение. Пётр учинил осмотр всем мастерским, заглядывал в каждый закоулок и, находя небрежение, мрачнел. За штабелем досок работные варили щи на костре, да не успели затоптать огонь – царь сшиб ногой котелок, одного отдубасил, остальным велел дать по двадцать пять ударов.
– Ещё раз попадутся – казню.
Разведение огня, курение – карать! Пётр вслух произносил указ, складывавшимся в уме. Ну, по-первости, хватит десяти ударов... А кто повторит...
– Обвязать тросом, да под килем судна протащить. Нет, мало! Кнута ему сотню раз.
– Утоплому? – вырвалось у Кикина.
Он семенил рядом, ёжился, охал, будто самого волокут в реку.
– Выживет, – бросил царь. – Дураки живучи.
Пришибленный, причитающий, Кикин только разжигал злость. Царь уже упивался казнью. И сотни ударов мало. Сто пятьдесят...
– Не сдохнет – сослать. Каторга навечно. Спалите мне флот...
Озноб пробирал Кикина.
– Христианская ведь душа, христианская, – бормотал он, защищая несчастного табачника и себя, виноватого сегодня во всём.
Пётр ускорил шаг.
– Дураков не жалею. Христос что сказал? Блажен, кто учит и кто приемлет учение. Прочие же не лучше скотов.
– Правда твоя, отец мой. Слово божье истинное, – ронял Кикин, хотя изречение было ему внове. Петру в юности попалось Евангелие, писанное от руки, церковью непризнанное, – оттуда и взял.
Прошли под аркой штабного здания, затем в ворота, пробитые в насыпи, и через ров с палисадом, по подъёмному мосту – на площадь. Открылось зрелище разоренья-канавы, бугры навоза, остатки печей. Городской люд селился самовольно, вплотную к Адмиралтейству и к невским пристаням. Велено было постройки отодвинуть на двести сажен, опасаясь пожара.
– А это что? Зеваешь, сучий сын. Прогоню вот обратно в лес.
Опять проштрафился Кикин. Возле рва нахально вырос пяток татарских шатров. Адмиралтеец бросился опрометью, кликнул караульных. Царь не двинулся с места, пока они тормошили шатры, шумели. Орал и Кикин, срываясь на визг, пихал кулаками, сулил петлю на шею. Степняки, не понимавшие по-русски, кланялись, путались в длинных халатах. Насмешили царя.
Нервный смех ещё не отпускал его, когда Кикин вернулся. Считая, что гроза миновала, осведомился, не угодно ли государю откушать у него.
– Меня Корнелий накормит, – отрезал царь.
Дом Крюйса – первый в ряду, протянувшемся от Адмиралтейства на восток. Флотский флаг полощется над крышей – синее полотно с белым крестом. Горница на манер кают-компании – оконца малые, вроде амбразур, железный фонарь имеет вид парусника. Судовой колокол висит – созывать слуг. На стенах, в поставцах, стоймя – расписные тарелки, как заведено у норвежцев. Хозяин нещадно и задыхаясь дымит трубкой, рявкает во всю глотку на жену, а она, не нуждаясь в команде, проворно ступает по половикам в мягких оленьих туфлях, и улыбка не сходит с её невозмутимого полного лица.
– Звал меня Кикин, – сказал Пётр, садясь за стол. – Я погожу... Сперва попробую, как он матросов угощает. Какова у них в экипаже похлёбка.
– Худой похлёбка, – кивнул Крюйс и засопел, явно настроился обличать непорядки. Царь остановил на полуслове. Ему с утра портили свидание с Петербургом. Скинули с линейного корабля, с левиафана, которым мысленно управлял, погрузили в сегодняшнее, в пучину несделанного, упущенного, растраченного зря. Хозяин словно уловил настроение гостя. Поднялся, отыскал что-то на поставце, под тарелкой, затем скорчил торжественную мину.
– Император Клаудиус.
Завитки волос, мелкие как у барашка, да ухо – более ничего не сохранилось от парсуны, выбитой на монете. Три буквы латинские, едва различимые...
– Откуда у тебя?
Капля тусклого серебра на ладони Петра – маяк, мерцающий из Древнего Рима...
– Пастор нашёл. Мудрый был человек. Жалко, бог призвал.
– Где нашёл?
Чем славен Клаудиус? Небось христиан губил, львы рыкающие пожирали христиан в Колизеуме. Пётр вопрошал, тёр императора полой кафтана, чтобы яснее глянул, ответил. Напрасно... Портрет не выражал ни жестокосердия, ни милости.
Пастор Толле нашёл не одну денежку, много, целый горшок их набрал. Где? Недалеко отсюда – в Старой Ладоге. Раскопал могильный холм. Царь ковырял остывающее жаркое, ёрзал – терпения нет, как тянет Корнелий. Значит, есть ещё монетки? У кого? Эх, бес побери! Уплыло! Пруссак один купил и увёз. Корнелий пробовал утешить, – золотых вроде клад не содержал.
– Мелешь ты! – и царь топнул под столом гневно. – То дороже золота. Пища для ума.
Поворачивал монету, любуясь, опустил в стакан с вином.
– Выпьем за Клаудиуса, упокой его Юпитер. Ведь куда дотянулся! До Ингрии – из Рима-то... Ай да Клаудиус! Слушай, на кой ляд он тебе? Подари, а? Не мне нужно – столице моей для обозрения.
Исчезло свиное жаркое, покрывшееся застылым салом, исчезла пятистенка контр-адмирала – распахнулась Кунсткамера, задуманная давно, – собрание разных художеств, раритетов, монстров. Вот и римские древности есть в сём северном крае. Кунсткамера будет богатейшая, на зависть столицам европским.
Честь и место в ней Клаудиусу, засылавшему сюда купцов. Может, он и храмы тут воздвиг, и гимназии... Проведать, отрыть!
* * *
«Никогда не знаешь, чего ждать от царя. Вчера к нему попала римская монета, обнаруженная где-то в окрестности. Он в восторге и показывает её всем, валя в ней добрый знак».
Доменико писал эти строки, сидя у раскалённой пенки. Разбуженный до петухов, он прибежал в крепость. Царь повлёк его на бастион. Гудел ледоход, ветер противился течению. Нева выталкивала льдины, они вползали на вал и таяли. Земля, напитанная влагой, оседала, тонула. Царь не замечал холода, сорвал с себя треуголку и размахивал ею, словно отражая ледовую рать.
– Вот она, Лета разрушительная... Земли сколько хошь сыпь – проглотит. Может, Клаудиус сыпал, а где его след?
Сам император вообразился Петру – среди римлян, возивших с балтийского побережья янтарь. И может, здесь, на Заячьем, имели они пристань свою и редут.
– Каменного строения тут не было, чуешь, мастер? Мы первые...
У зодчего голова кругом – снова десятки тысяч копальщиков, муравьиный труд... Недавно возвели фортецию – теперь раскидать её, сооружать заново. Класть стены кирпичные. О, могущество царское, почти равное божьему! Не было каменного строения, так будет. Оплот против текучих вод, против беспощадного времени.
– Тут вот вытянем мысок – а, мастер?
Царь показывал, где добавить грунта, где срезать. А начать строить на севере, на главном направлении. Шагая по валам, вышли на бастион Меншикова, встали над протокой. Она посинела, но не тронулась, фрегаты в оковке льда торчали недвижно. Царь вынул из кармана компас, с которым не расставался. Сколь непрочно насыпанное! Остриё бастиона скосилось. Строить, сверяясь со стрелкой.
Вечером царь пришёл к Доменико смотреть чертежи. С женитьбой поздравил, хозяйку похвалил, тминной домашней настойки отведал с удовольствием. Набросков крепости зодчий приготовил несколько – крутизна стен, расположение ворот, форма сторожевых башенок – на выбор. Одну Пётр со злостью перечеркнул ногтем – чем-то напомнила Москву. Проще делать, проще – оно и для казны легче!
На панораме вздымается церковь Петра и Павла. Тут царь оказался щедрее – пусть стоит покамест деревянное здание, но одного шпиля мало. Как вымпела распускать? Сделать ещё два! Видел ли мастер где-нибудь двухмачтовый храм? Нет? А чем худо?
Сюрпризы на этом не кончились. Пётр отвернулся, притомившись, поиграл с собачкой, ластившейся к нему, – очень похожа на его Лизетту. И вдруг:
– Нарисуй мне Петербург, мастер!
Зодчий не понял сразу.
– Ну, какая столица нам подобает? На сих островах... – и Пётр, схватив чистый лист, начал судорожно набрасывать устье Невы, архипелаг. – Видишь, мастер? Вон куда сей флот вышел!
Палец царя подвинулся до Котлина и остановился. Зодчий смотрел заворожённо. В самом деле – острова проросли башнями, острыми крышами. Острова-корабли...
– Так где флагман? – услышал Доменико. – Укажи, мастер!
«Эти слова его величества вызвали во мне сильнейшее сердцебиение, равное которому я испытал лишь перед алтарём, когда сочетался браком с Джованной. Царь желал, чтобы я расположил город по своему разумению, и этот город – столица гигантской России. Святая Мария! Ни одни Трезини не удостоился такой чести».
Но что ответить царю?
– Я думал, – произнёс зодчий несмело, – вы уже сделали выбор. Васильевский остров...
Каналы, густые их скрещения – новый Амстердам, давняя мечта его величества... Лишь конец острова, у Малой Невы, против цитадели, оставлен чистым – для дворца Меншикова, для сада его и служебных построек.
Пётр молчит, и глаза его насмешливы. Палец с надколотым ногтем – недвижно на Котлине.
– Подумай ещё раз! Где флагману быть? В толпе разве или в хвосте?
Так неужели... Тягостная немота постигла зодчего. «Безумие!» – хотелось ему воскликнуть. Безумие... Котлин, клочок суши, закинутый в море, отделённый морем от России... Котлин – флагман, центр столицы...
«Царь до такой степени влюблён в море, что и Петербург свой уподобляет эскадре, пустившейся в плавание. Головной её корабль – остров, более всех удалённый от материка. Никакие трудности царя не смущают».
Два раза в году Котлин в изоляции – ни проехать к нему ни проплыть. К тому же он под ударом неприятеля. Доменико, набравшись смелости, изложил эти доводы, но без успеха. Форты, форты по берегам Котлина – остров неприступен. Запасать оружие, харч, всё потребное заранее.
– На буере ездил когда, мастер? Покатаю тебя... Лёд встанет – птицей полетим.
Теперь Васильевский остров – второй по значению. Высшая власть государства, дома начальников армии и флота – на Котлине. Там же мастеровые, купцы. Да, купцы, которые суда торговые содержат, при себе и гавань имеют.
«Его величество отдаёт себе отчёт, что нельзя слепо копировать Амстердам, где средоточием многих улиц, идущих с острова на остров, является площадь у дворца, некогда королевского. Натура архипелага здесь особая, протоки очень широкие, и, где бы ни была центральная часть, каждый остров – тоже город».
Подобной столицы Европа не знала. Доменико рисовал, мачтами вздымались башни на островах. Города в городе... Проводив царя, снова взял перо. Гертруда спала, лохматый Буби посапывал, грел ноги. Унесённый в будущее, Доменико пытался в нём удержаться. Отгонял сомнения, но они возвращались.
Утром, в крепости, встретил Брюса. Прожект царя не новость для него.
– И мне дивно, – сказал обер-комендант. – Ну, не о том забота сейчас.
Петербургские укрепления от снега свободны. Осмотреть их, приготовить к действию. Швед не успокоился, поди... А кирпич для цитадели заказан, скоро начнут подвозить.
Заложили каменную крепость Петра и Павла 30 мая. Царь поцеловал первый кирпич благоговейно, как святыню, и под пушечный гром опустил. Веселились не шибко. На празднике не хватало Меншикова. Ждали от него вестей – о судьбе армии, покинувшей Гродно.
* * *
Алексей, отпущенный в Москву для поправки здоровья, обрёл свободу. Сброшена армейская лямка, кончились понуканья отца и Меншикова.
Война снится иногда. Сыплются снаряды, ноги вязнут в месиве крови и грязи. Бежать... Он вырывается с криком, с плачем – и вдруг спасенье. Руки женщины, чудом нашедшие его на поле боя, горячее её тело... Отступает ужас, забывается в амурном неистовстве. Потом, нежась на подушках, отнимают друг у друга заветный перстень.
– Чего там? – теребит Алексей. – Не ври только.
Фроська повизгивает от восторга – похоже, и впрямь волшебство.
– Тебя вижу. Христом клянусь. Вижу, вижу... Ты царь. Корона большущая...
– Не я – король чей-то. У нас шапки. Вот скатаю в Преображенское, привезу.
Во дворце, где царевичу отведены покои, много лежалых уборов, пересыпанных порошком от моли. Старых, запретных... Однажды он примерил шапку, отороченную соболем, атласный, в самоцветах охабень. Дня два тешился, выносил колкости царевны Натальи, потом надоело. Снял долгополое облаченье, натянул привычное: короткие штаны, камзол. Пробовал бороду вырастить – пробилась хило, болотными кусточками. Сбрил.
Тоска берёт во дворце. А бывало, грезились сержанту бомбардирской роты эти вздыбленные крыши, фигурные коньки, резные крылечки, наличники, столбики, прищуренные терема, задиристые башенки. Но без матери там пусто. Пыль на её ларцах. Пыль на деревянных лошадках, на самопалах, на качелях, на домике, в котором жила когда-то Феклуша, милая сердцу черепаха.
Отлучается Алексей всё чаще, дни и ночи проводит в доме Вяземского, с Ефросиньей. Здесь он не ребёнок – мужчина. Покоряясь ему, Фроська уверяет: не ведала, не воображала мужчины сильнее. Его женщина... Эти четыре стены – цитадель Эрота. Никифор нос не смеет сунуть.
Жалкий он человечишка, Никифор. Одно названье, что хозяин. Командует Фроська. Из подлых, а вот поди же... Да точно ли? Не дворянского ли семени?
– Отстань, законная я! – отвечает Фроська на расспросы. – Не гожусь, так прогони.
– Полно тебе...
– Всё равно мне слёзки. Твой батюшка прогонит. Тебе вон невесту сватают.
Известно, затем и поехал за границу Гюйсен, бывший наставник. Царь на немке хочет женить.
– Меня кнутиком, да прочь, – пригорюнилась Фроська. Выдавила слезу.
– А батюшку – Карл кнутиком, – разозлился Алексей.
– Грех так говорить, миленький.
– А жену в монастырь сослать не грех ему? С курвой жить не грех?
– Царская воля, миленький. И меня в монастырь. А то удавят.
И снова, полушутя, гадают на перстне. Если долго глядеть – откроется будущее. Для Алексея былинка, затопленная в пучине, превращается в гроб. Царь там лежит, более не опасный. Грешно желать этого. Но духовник Яков Игнатьев прощает.
– Государь бога обидел в гордыне своей, – возглашает он и гвоздит ястребиными глазами. – Десница господня укоротит век его.
Речи бунтовские, Алексей внимает им боязливо, но с наслаждением. Духовник похож на архистратига Михаила – только меча огненного не хватает.
– Петербург – город проклятый. Господь уничтожит его, как Содом и Гоморру, за всякие мерзости. Вертеп богохульников, развратников...
Вдохновенно перечисляет мерзости Яков. Царь и ближние его отступили от веры, в пост едят скоромное и солдат к тому принудили. Тьмы-тьмущие мужиков не пашут, не сеют, землю роют там... А чего роют? Могилы себе... Кидают царские слуги тех православных в ямы, ровно собак, без савана, без отпеванья. Оттого град тот терпит наводнения, мор и глад. Люди бегут оттуда. Царь набрал себе всякой сволочи – с нею и правит Россией. Кто у него в почёте, в высоких чинах? Чернь безродная. А дороже всех иноверцы, еретики. Из старых фамилий мало кто служит царю с охотой.
– Мало, мало, – вторит Алексей. – Проклятый город... Содом и Гоморра...
Само собой, жить он будет с матерью в Москве. Благолепие храмов, образа чудотворные, мощи святых угодников – тут они. Столица истинная.
– Готовься! – взывает Яков. – Готовься принять помазание! Достоин ли? Созрел ли для бремени сего? Слабый ты... Скорблю, нет в тебе отцовской силы.
Указывает, грозя перстом, кого избрать в советчики. Дядю Авраама прежде всех – муж, наделённый мудростью, твёрдый в вере, царю не поддался. Настанет срок – униженные возрадуются.
– Возрадуются, – шепчет наследник.
Лишь потом пробуждается обида. Неужели он слаб? Отцовская сила враждебна, но рождает зависть. Да, слаб, лебезит перед старшими. Царь двинул бы Якова, схватил за патлы, воняющие прогорклым маслом.
Пуфендорф[59]59
Пуфендорф Самуэль (1632—1694) – немецкий юрист, представитель естественно-правовою учения в Германии XVII– XVIII вв.
[Закрыть], учёный немец, различает три манеры управления: монархическую, когда один властвует, аристократическую – иде же помогают благороднейшие, и демократию – сиречь владычество народа. Монарх бывает тираничен, пример тому – отец, хоть и славит Пуфендорфово сочиненье. Чернь груба, необузданна. Стало быть, предпочтительно царствовать, окружив себя благородными.
Учился Алексей прежде лениво, теперь, повзрослев, стал прилежнее. Учителя, приходящие к нему, довольны, Никифор – воспитатель по должности – ликует. Царь велел и рукам дать работу – что ж, Алексей не против, посещает Людовика де Шпеера, искусного токаря. Получил для отсылки отцу свидетельство.
«Ваш сын многажды в моём доме был и изрядно точить изволит», – написал мастер.
Из гистории ясно: народы идут от варварства к просвещению. Верно, такова божья воля. Без наук ныне не царствовать. Прежде цари обходились, замкнутые во дворцах. Лишь на богомолье выезжали, Алексей же не прочь повидать Европу. Любопытны чрезвычайно описания различных стран, нравы и обычаи в них, этикеты чужих дворов. Не хуже отца будет начитан... Математику не любит, но вникает, притом с некоторой надеждой. Задобрить отца, да испросить награду за успехи. Свиданье с матерью.
– Выкинь из головы, – отрезал Яков. – Не проймёшь, чёрствая у него душа.
И тётки ладят – глупость, напрасное мечтание. Гнев обрушит царь. Фроська разревелась. Разлучит царь, обратно в службу упечёт. Одно остаётся – ехать в Суздаль тайно.
– Духовные меня не выдадут. Жалеют мать. А здесь – никому про это...
– Никифору-то можно?
– Нет, и ему нельзя. Брату твоему скажем погодя... Игумена упредить бы надо.
Вяземский сидит в своей половине безвылазно. Часами составляет отчёты. Мусолит, переиначивает – хулить царевича не за что, а хвала излишняя подозрительна. Писанье освещает лучина, зажатая в зубах серебряного грифа. Потрескивает тихо, приятно, словно мурлычет.
Фроська вошла и плотно закрыла дверь за собой. Огляделась в полумраке, попрекнула хозяина скупостью – свечи, что ль, не по карману? Затем передала разговор с Алексеем – слово в слово.
– Матушка!
Бледная, вялая рука поднялась к сердцу. Женщина смотрела с презрением. В деды годится, а он – матушка!
– Как быть-то? Пропадём мы с тобой, коли поедет. Ишь ведь, подрос, коготки кажет. Несчастье наше... Авраам настраивает, аспид. Сговор, матушка, сговор! Ох не своей смертью умру! Чую – на плахе...
Брезгливая усмешка застыла на Фроськином лице. Противны причитания, противен Никифор, состарившийся прежде времени, погасивший в себе мужское.
– Плетёшь ты... Где сговор? Мне одной доверил.
– Ой ли?
– Уж я-то знаю. Трусит он.
– А вдруг поедет...
Ефросинья ответила насмешкой. На плахе помирать – пустяк. Раз – и покатилась башка. Мячиком – вскрикнуть не успеешь. Вогнала Никифора в озноб, потом выложила резоны. Докладывать царю покамест нечего – надо обождать. Царевич запрет не нарушил, лишь выразил намерение. До дела ещё далеко. Решится ли он, болезный, – неизвестно.
Никифор разволновался. Письмо, адресованное сиятельному Меншикову, получилось небывало многословным. Вспоминал все предметы, коими царевичу забивают мозг.
«Царевич учится по вся дни по 4 часа, сперва читает лёгкие разговоры во французских и немецких языках, потом пииту, филологику, политическое, начало жития нынешнего короля Франции, книги о воинском деле водою и сухих путях, фабулы Есоповы, описание езды Олеариуса, введение в гисторию Пуфендорфа, также географию, генеалогию, науку о печатях королей. Арифметику и геометрию нарочито выучил и начал писать на обоих языках кратко сочинения из всяких историй. Употребляет ведомости немецкие и французские и Библию немецкую ежедневно»...
Подумал и добавил – «и по воскресеньям».
* * *
Коллекция Гарлея пополнилась – небольшой томик стихов лежал на его колене, отливая золотом. Палец государственного секретаря скользил по ручейкам тонкого узора, растёкшегося по зелёному сафьяну.
– Берегитесь, – улыбнулся Дефо. – Ваш прославленный переплётчик ускользнёт от вас.
– Почему?
– Царь Пётр перекупит. Он шарит по всей Европе. Новый набор мастеров.
– Ну, эти два молодчика вряд ли его обрадуют, – и государственный секретарь щёлкнул по бумаге, лежавшей на столике, у кресла. – Пропьют царские денежки. Или наймут таких же проходимцев.
– Зато от музыканта мы избавились.
Письмо кавалера ван дер Элст, проделавшее долгий путь из Белоруссии, скопированное в Петербурге Вудом, гласило:
«Дорогой дядюшка!
Вы проклинаете меня за моё молчание – я угадываю это по приступам сердцебиения, постигающим меня. Судьба не торопилась дать мне человека, пригодного для отправки корреспонденции. Да и что я мог сказать вам? Военная ситуация переменчива, как здешняя осенняя погода, движения войск непредсказуемы – по крайней мере для моего недалёкого ума. Способа сноситься с нашими непосредственно я не нашёл. По правде говоря, совесть моя не очень страдает – наш обожаемый монарх, конечно, не лишён информации самой свежей. В Петербурге я сделал всё, что мог, с немалой опасностью для жизни, и не моя вина, что наши стратеги не сумели воспользоваться плодами моих стараний. Судите сами, достоин ли я маленького добавления к моему гербу. Я думал об этом, рисуя герб Меншикова, – император утвердил княжеский титул, и манифест должен прийти из Вены со дня на день. Поймёте ли вы решение, принятое вашим покорным слугой н любящим племянником? Мой друг, генерал-инженер Ламбер, едет по приказу царя за границу привлекать на русскую службу разного рода знающих лиц. Меншиков предложил и мне эту миссию. Что было делать? Я его слуга. Допустим, я отказался бы... Не вижу пользы ни мне, ни нашему королю. Моим уделом была бы немилость, а возможно, и свирепое наказание. Итак, мы едем вместе – и я, и милый маркиз. Напишу вам из Голландии или из Франции. Наконец-то я увижу Париж! У Ламбера там множество связей. Поверьте, дорогой дядюшка, повинуясь царю и князю, я пребываю неизменно предан его королевскому величеству и вам лично».
– Лягушонок, кажется, вильнул в сторону, – сказал Гарлей. – Закусил удила. Что-то насчёт герба...
– Графскую корону вымаливает. И напрасно... Карл суров, за неё кровь надо пролить. Да и то... Дядюшка в отставке – парень без протекции. Притворщик... Знает ведь, наверняка знает, а виду не показывает.
– А кто такой Ламбер? Попадался нам? По-моему, нет.
Дефо опустил письмо.
– Мне попадался. Тоже пройдоха... Подозревают, никакой он не инженер. Правда, храбрый вояка и не бездарный. Чему-то выучился. Лучший ученик Вобана – так подавал себя. Говорят, Вобан ведать не ведал... В России дорвался до больших денег и злоупотребляет спиртным. Возможно, потому и посылают с провожатым.
– Теперь царь разборчив. Генерал-инженера уволил. Да что! Огильви выставил вон, фельдмаршала. Не поперхнулся... Признак силы, ваша честь, согласитесь.
– И всё же он отступает.
– Выиграв несколько сражений. Обстоятельство существенное. Я бы сказал – отводит войска, завлекает в ловушку. Помяните моё слово!
Книжка в руках Дефо некоторое время оставалась неподвижной. Потом он встрепенулся:
– Что слышно от нашего посредника? Добьётся Мальборо чего-нибудь? Вообразите: Англия в новой ипостаси! Голубок с веточкой мира в клюве...
Государственный секретарь развёл руками.
* * *
Письмо кавалера ван дер Элст, приведённое выше, – последнее. С тех пор он канул в безвестность. А след его спутника в 1706 году не потерян. Осенью Ламбер напомнил о себе петицией:
«Пришедший в Амстердам имеет дерзновение вам донести, что он к службе царского величества чинить помощь будет, ежели царское величество в прежнем намерении получить достойных инженеров, но понеже ничего без денег сделать невозможно...»
Из дальнейшего явствует, что уехал он со скандалом. В Гродно недополучил, если верить ему, пятьсот сорок рублей жалованья – то есть за девять месяцев. И нанимать ему не на что. Деньги надлежит выслать на его имя в Париж, а покамест он вынужден находиться в бездействии.
Отвечено внизу листа отказом: «Ушёл со службы, давать ему нечего, сперва пусть найдёт инженеров».
Во Франции российскую державу представляет Андрей Матвеев[60]60
Матвеев Андрей Артамонович (1666—1728) – граф, сподвижник Петра I, посол в Голландии, Австрии, Франции, Англии.
[Закрыть]. Цидула от него гласит:
«Явился в Париж француз Ламбер, называется генералом и инженером, и кавалером ордена святого апостола Андрея, считает себя за восьмую особу среди вельмож московских, и будто был одним управителем всех осад в службе его царского величества».
К послу хвастун прибыл на извозчике – подобающего выезда у него нет. Вообще же Ламбер, по сведениям, ведёт себя непотребно, «по Парижу с бездельными людьми пеш волочится».
На всех парижских углах поносит Огильви: он-де «имел корреспонденцию с шведом и будто под арестом». Не иначе – строгий фельдмаршал и прекратил карьеру Ламбера. Раскусил авантюриста, заменил человеком более сведущим. Матвеев подобрал два определения для беспутного маркиза: «лукавец» и «сквозной ведомец», то есть беспардонный сплетник и лгун.
Ламбер каялся послу, клялся исправиться. Продолжал строчить просьбы и обещания. В письме из Данцига уверял, что он «из всех слуг царя самый преданный и навербует сколько угодно инженеров». Ответа не последовало. Ламбер значится дезертиром. Он скитается по Европе; задержанный русским послом в Берлине, бежит из-под стражи, по слухам, в Италию.
В 1710 году в Париже выходит из печати книжка, озаглавленная «Принц Кошимен». Автор не указан, но называют Ламбера. Говорят, забулдыга остепенился, решил попробовать силы в литературе. В предисловии он отрекомендовался главным инженером «великого Кама», владыки Тартарии.
«Здесь нет ни волшебных сказок, ни похождений, присущих роману, отсутствуют чародеи, таинственные машины, прогулки по преисподней или по райским полям».
Тартария – огромная страна, простирающаяся от Белого моря до Китая, – эти названия автор не изменил, пусть читатель догадается сразу, что действие идёт в России.
«Великий Кам смолоду путешествовал, учился, своими руками строил корабли». Он создал три флота – на трёх своих морях, а реки, впадающие в них, велел соединить каналами. «Эти труды – признак великого гения». Ближайший помощник Кама – человек, «происхождение которого неизвестно, как многих выдающихся людей». На улицах Самарканда «он, покрикивая, продавал вразнос булочки». В его личности «все шармы молодого человека и ум опытного старца».
Новшества Кама вызывают ненависть знатных «гояр». Их вождь – могущественный Дамилко. Кошимен влюблён в его дочь-красавицу. Он получит её, если вручит заговорщикам ключ от монаршей спальни. Охваченный безумной страстью, Кошимен согласен, Дамилко торжествует. Убийцы прокрались, отперли дверь, занесли кинжалы и... схвачены телохранителями. Чувство долга пересилило, Кошимен спас жизнь своего друга и государя. Дамилко казнён, «гоярышня» заточена в тюрьму.
Снова заговор. Заодно с врагами – сын великого Кама. Вина доказана. Отец выносит смертный приговор – интерес государственный превыше всего. У наследника есть бесконечно преданный ему юный воин. Он в отчаянии бросается к Кошимену:
– Ах, позвольте мне умереть на эшафоте! Мы поменяемся одеждой...
Кам смотрит на казнь издали, из окна. Всё острее вонзается в сердце раскаяние. Мучения невыносимы.
– Где мой сын? – восклицает он. – О, я несчастный! Не будет мне отныне покоя.
Кам пытался убить себя, когда в комнату вошёл Кошимен.
– Не теряйте надежды, повелитель! Молитесь, вседержитель вернёт вам сына.
– Нет, нет, я не заслужил такого чуда.
– В чудесах нет надобности. Ваш сын жив».
Наследник со слезами обнимает колени отца. Кам прощает заблудшего, поддавшегося «гоярам» по наивности. Как отблагодарить Кошимена? Любовь его к дочери Дамилко не угасла, Кам освобождает её.
Я заканчиваю эту историю так, как заканчиваются романы, – свадьбой. В другой раз я расскажу о подвигах принца Кошимена, который обрёл бессмертную славу, исполняя приказы императора и по достоинству встал в ряд с героями Тартарии».
В Париже бойко раскупались дешёвые «чёрные романы»– сентиментальные, с лихо заплетённой фабулой, с персонажами часто экзотическими. Дебют Ламбера этой литературе сродни. Мастерством маркиз не блеснул, сюжетные ситуации использовал уже избитые – секрет успеха книжки в другом. Автор учёл интерес к России, широко пробудившийся. Личность Петра завоёвывает у многих симпатию. Привлекателен Меншиков, поднятый из низов, презираемый вельможами, – он легко узнаваем под переиначенной фамилией. Сам Ламбер, сидя над рукописью, очевидно добром вспоминал долгое покровительство «принца Кошимена» и милости «великого Кама».








