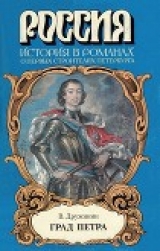
Текст книги "Град Петра"
Автор книги: Владимир Дружинин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 33 страниц)
Втянуло в сей поток людей, покамест зодчему неведомых. – Ярославского уезда, монастырской деревни Сельцо крестьянина Порфирия с дочерью и сыном.
* * *
Буланый страдал от слепней. Скрипел сбруей, топал, бил по оглоблям хвостом. Порфирий замешкался и подбежал к телеге, как шальной схватил за ногу дочь:
– Слазь, тетеря!
– Чево? Зажрут коня-то...
Лушка, помахав на кровопийц, вмялась в сено, голову откинула на тюк с тряпьём. Отрешилась от родного двора. Скорей бы уж...
– Стрелу обронил.
Цыкнул и брат:
– Вилами тя снимать...
Сдвинулась, покачала полными босыми ногами. Тело медлило отозваться. Брат и отец, потерянные, злые, бродили у крыльца. Вяло спрыгнула в густой, пыльный подорожник и охнула. Нагнулась. Так и есть... Подобрала и ткнула в ближайшего – то был брат Сойка.
– На-ко!
– Затмилась, – проворчал отец, выхватил заветный предмет и сунул в зипун, за пазуху. Лушка, прислонясь к телеге, чесала пятку.
– До утра бы искали...
В голубых глазах теплился смех. Ушла во что-то своё. Обиды, невзгоды туда не проникали. И соседи говорили о ней – затмение пало. А так невеста по всем статьям завидная – круглолицая, сильная, волосы чистый лён. Порфирий, знамый на весь уезд печник, приданое, поди, припас.
Телега скрипела, когда он усаживался, наматывал вожжи. Мужик видный, широкий в кости, – дочь в него уродилась. Сын – в покойницу мать, поджарый, шустрый, с татарскими упрямыми скулами. Сойка он оттого, что крестили в день святого Сосипатра. Не ломать же язык!
Девка лежала на спине. Не жмурясь, уносилась в жаркое небо. Навёртывались лёгкие слёзы, смеха не гасили. Изба с обожжённым крыльцом удалялась. Может, навсегда... Осколком синего неба повисла стрекоза, заискрилась, Лушка улыбнулась ей.
Неволя гонит из родного гнезда. Другая бы ревела навзрыд. Лушка наслушалась в последние дни попрёков – кукла-де беспонятная, колода...
– Чай, везде люди, – отвечала она. Утешала мужиков и этим только хуже сердила.
Порфирий ворчал: лучше бы гроза всю хоромину спалила. Брошена почти целая. Молния ударила косо, сожгла столбик крыльца и ступеньку. Навес валился, пришлось сорвать. Илья-пророк вроде знак подавал. И ты, мол, убирайся!
Однако крепился мужик. Минул год – глядь, он один с семьёй в Анкудинове. Дворы кругом пусты. Ни человека, ни скотины. Стонут на ветру колодезные журавли, ночью спать мешают.
Куда полоснул Илья-пророк, там – учат старики – обрящешь стрелу его. Береги свято! Порфирию повезло: из земли, перерытой, истолчённой у крыльца и под ним, вытащил заострённый, обкатанный серый камешек. Стрела, не иначе...
Ждали добра от небесного царя. А земной крут, – ещё и ещё подавай, солдат, коней, денег! Недоимки росли, уезд нищал, и заказчик в дверь не стучался. Надвинулась нужда. Кто же наймёт на печную работу?
Отбиваясь от тучи кровопийц, буланый пустился рысью, но скоро выдохся. Кроме трёх седоков, поклажа – бочонок с салом, бочонок с капустой, сухари, котёл, да ковши, мисы, ложки, издававшие деревянный звон. Впрочем, едва слышный. Всё перекрывало тарахтенье колёс по сухой ухабистой дороге, окаменевшей от зноя. Лушка крепко прижимала к себе икону, обёрнутую чистой сорочкой. Порфирий то подхлёстывал, то, жалеючи, обмахивал буланого вожжами.
– Дышит трапезная ай нет... Поправим, коли не дышит… Задышит у меня…
Говорил он, по обыкновению своему, на весь белый свет. Обращался к дуплистой берёзе, к ветряной мельнице на пригорке, к заполоскай, поросшим ольхой.
Кто выручил монастырскую братию? Он – Порфирий... Трапезная наполнялась дымом – задохнулась тяга. Какие-то мастера копались... Думали перекладывать всю огромную печь. А там один кирпич мешал, причинный. Недаром Порфирий в поминальник записан – во здравие.
– Примай, отец игумен, примай...
Чада слышать не могли, но, глядя на отца, мотавшего головой, догадывались. Надежда общая. Сойка, скупой на слово, хмуро сводил брови:
– Засов поцелуем.
Сестра жевала травинку. Выплюнула.
– Каркай!
Ходит слух – Никольский монастырь отжил. Оказался в числе тех обителей, которые царь счёл лишними. Отцу не верится. Четыреста лет стоял Никола – неужто рухнет?
Добрались на другой день, в обед. Озерко, вытянутое полумесяцем, отражало златоглавую надвратную башню – она делила его пополам. Раздались удары топора – глухие, далеко за стеной. Вышел старый монах с ведром. Уставился на Порфирия, не узнал.
– Поштосюда? Нету никого.
– А ты?
– И меня нету. Изничтожены... Антихрист хвостом вымел.
Игумен в Москву подался, но вряд ли выпросит милость. Монахов – в солдаты, кто помоложе. Многие разбежались.
– И колокола спущены. Царь забирает.
– Царь? – крикнул Сойка, приподнявшись. – Немец царствует. Немец проклятый...
Когда отъехали, Порфирий, на диво спокойный, обернулся к сыну:
– Чего расшумелся?
– Неправда, что ль? Знамо, немец. Нашего царя удушили. В бочку заделали, да в окиян...
– В бочку? Канители-то, – усмехнулся печник. – Сам заделывал?
Лушка беспечно хохотнула. Сойка, пуще озлившись, ткнул её локтем, бросил:
– Уйду я от вас.
– По До-о-ну гуляет... – пропела Лушка.
Выехали на ростовский шлях.
– Вишь, молоко течёт в Дону, – сказал Порфирий и хлестнул буланого.
– Воля там, полная воля.
Мерещится Сойке Дон. Отцу странно: ремесло есть в руках – чего ещё надо? Ремесло надёжное... Ужель хватит дурости уйти, расстроить семейную артель? Порфирий мысли не допускает. Но строгостью пария не унять.
– А насчёт царя... Малые мы судить его. Николу мне не жаль. Ничуть не жаль. Авось бездельников поменьше будет.
Этими словами печник удивил сына и дочь. Никогда прежде не порицал святую обитель. Опасался смущать младые души.
Перья писцов запечатлеют потом, спустя годы, судьбу сих путников, и они зримо возникнут перед потомком. Буланый отмерил покамест первые вёрсты по большаку, ведущему к Ростову. Порфирий и там показывал своё уменье.
Желтели соломой крыш, отползали в марево деревни – им не надобна артель Порфирия.
В Семибратове – большом торговом селе – остановил барабанный бой. На площади, у храма, пятеро в военных кафтанах. Старший – краснорожий сержант – видно, хватил медовухи. Унял грохот, почал читать:
– Указ великого государя... Царя всея Руси... Вседержителя нашего...
Порфирий подмигнул сыну, крякнул. К царскому званию, искорёженному, припутал божеское. Но больше никто не заметил ошибки. Толпа внимала, затаив дыхание.
– Всея великия и малыя России самодержца, – поправился сержант. – Повелел государь...
– Белую Россию забыл, – вырвалось у Порфирия со смешком. Голос не рассчитал.
Сержант строго погрозил кулаком:
– Чего ржёшь? Кто ты таков, чтобы ржать мне?
– Из Анкудинова мы... Никольского монастыря... Порфирий, значит...
– Печник он, – заговорили в толпе. – Печник, ваша милость.
Кто-то подтолкнул Порфирия вперёд. Сержант дохнул ему в лицо перегаром.
– Батогов просишь, печник? Отлуплю за смех.
Мужик смотрел в упор, всем своим видом показывал, что не напуган.
– На царя ржёшь, харя! Батогов ему!
Два солдата уже схватили дерзкого под руки.
– Ладно, государь милостив. Не хошь батогов, так послужишь царю нашему... Печник ты? Вправду печник?
– Истинно, господин.
– Ну, так в Питер пойдёшь.
Целый день трещал барабан, созывая сельчан и проезжих, сержант охрип, заманивая на городовое дело, оглашая выгоды – каждому жалованье, да хлебные деньги, на семью изба и земля при ней. Набор шёл туго. Дурная слава о Питере – губит он людей, яко чудище ненасытное.
Сойка дёргал отца за рукав беспокойно – Порфирий слушал сержанта и кивал. Оттолкнул сына локтем…
– Батогами не стращай! Я охотой пойду.
* * *
В первый день октября, с полудня, к Васильевскому острову потянулись лодки, устланные коврами. Порывами налетал вест, Нева орошала брызгами епанчи с золотыми застёжками, шляпы с плюмажем, бледные от болтанки вельможные лица. На гранитных ступенях княжеской пристани кипел прибой, лакеи захватывали суда баграми. Непривычных к воде вытаскивали, словно кукол.
Крыльцо обозначено платформой – три колонны с навесом ещё на чертеже, у архитекта Фонтаны. Трубы, однако, дымят, обещают тепло и угощенье.
– Завтра я, может, у врат небесных, – говорит Данилыч входящим. – Крови фунтов девять ртом вышло.
Лечиться, ждать царя, откладывать новоселье некогда. Зовёт армия. Вид у светлейшего страдальческий. Точит не только недуг. Гости перешёптываются – князь проштрафился. Завладел в Польше чужими поместьями. Магнаты обижены, явили претензии государю. Уж коли на Меншикова гневается, другим подавно не спустит.
Княгиня Дарья, располневшая, в тисках французского корсажа едва дышит, но обычай блюдёт – потчует водкой, подставляет губы для поцелуя. В ответ слышит:
– Здравия вам! Бонжур! Бог вас благослови!
Сени ещё устланы досками. И здесь встанут колонны, а дальше будет парадная лестница. Сейчас помещение пустое, выстуженное. Справа дверь в кордегардию, где охраняет светлейшего дежурный офицер с подначальными – мимо них в жилые покои не пройти. Дверь из сеней слева – в залу. Стены наспех одеты шёлком, там и тут княжеский герб, вышитый на ткани либо вырезанный, по немецкому обычаю, из дерева и раскрашенный. По углам, под окнами цветы из оранжереи хозяина – в китайской вазе и в простой кадке, заморские, в Петербурге невиданные.
– Девять фунтов, девять фунтов, – повторяет Данилыч. – Эх, была не была! Повеселиться напоследок... Простите убожество моё, не обессудьте!
Передают за верное: в подвалах у него не счесть драгоценной посуды. Серебро на столе – генералам, для прочих же олово. Вина, однако, вдоволь – венгерского, рейнского, французского. Гости расселись сразу, торопясь согреться. Выпив за государя, погрузили ножи в телейка, зажаренного на вертеле целиком, в молочных поросят, в гусей, фаршированных гречей с чесноком.
Доменико – гость незнатный, лакеи его не заметили – выбрался из лодки сам, зачерпнул в башмаки, и чулки до колен промокли. Блюдо перед ним оловянное.
– Князь прибедняется, – сказал Фонтана. – Хитрец, каких мало.
Зодчие сидят рядом. Соседи их не поймут, один Скляев, учившийся в Венеции, подмигнул.
– Монарх не делает различии, – сказал Доменико. – Он принимает всех одинаково.
Нахлынула музыка. За спиной, в грозной близости, усатые гвардейцы били в литавры – грохотал разудалый марш.
– Ко мне Кикин прилип, – прокричал Фонтана в ухо. – Строиться решил... Доит Адмиралтейство как корову. Займись-ка!
– А ты?
– Нет, нет... Подведу под крышу – и до свиданья. А тебе советую... Клиент полезный.
– Полезный?
– Даже очень, в случае перемен... Нож точит на князя. Новость для тебя? Мадонна, как ты наивен, дорогой мой!
– Такой родился, – ответил Доменико, рассердившись. – Если он вор, то наниматься к нему, это... это хуже наивности.
– Конечно, вор, – засмеялся Марио. – Палаццо ведь... На жалованье, что ли? Удивительный ты человек.
– Повесит его царь.
– Кто повесит и кого, неизвестно, – понизил голос Фонтана. – Верёвок в России уйдёт много, помяни моё слово. На изготовление петель.
Губы щекотали ухо, Доменико отшатнулся. Оркестр умолк. В другом конце зала ораторствовал Меншиков. Он выпил и сделался хвастлив:
– Союзники – дрянь. Передо мной на задних лапах... Что саксонский алеат, что датский, что прусский... Я государя молю – гони меня в Померанию! Дозволь, скину шведа в море! Вишь, три короля не управятся!
Войска без него осиротели. Обносились, голодают – царевич не накормит. Не умеет царевич распорядиться, вокруг пальца обведут его.
– Намедни мне что писали? Прибытие вашего сиятельства в армию нам яко солнце, рассеявшее тучи, яко возвращение отца-благодетеля к чадам. Так где же тут лечиться? Девять фунтов крови... Наплевать! На алтарь отечества... Я прошу государя – пусти меня в Померанию, трактовать с королями! Шереметев – хворый, не выдюжит старик, побереги его... Душевно прошу... Рвут короли, что из-под шведа взято, рвут каждый себе – саксонский, прусский, датский...
Толстый офицер-саксонец, один из немногих иностранцев, толкал Доменико в плечо. Выловил лишь одно слово из пьяной скороговорки. О чём это князь?
– Хвалит вашего монарха.
Фонтана снова загудел в ухо:
– Ты нет дурак всё же... Светлейшего заносит. Смешно! Кто поверит? Добрый! Ха-ха! Выживает Шереметева, выживает бессовестно. Старик отдыхает после Риги, так этому не сидится...
Толстяк между тем вскарабкался на стол и, придавив башмаком тарелку, рявкнул:
– Хох! Виват!
Он качался, опрокинул соусник. Доменико мотал головой, освобождаясь от Марио. Хватил лишнего сам. стараясь избежать простуды. Возник Меншиков. Офицер спрыгнул со стола и, не удержав равновесия, распластался на полу. Зодчие вскочили, князь обернулся к ним:
– Братцы швейцарцы! Пить, не дурить! – светлейший тыкал в них чаркой. – Фонтане вот горька наша водка, ох горька! Ариведерчи! Домой хочет... Нам, говорит, вдвоём нечего делать в Петербурге – слышь, Андрей Екимыч!
Так вот она, истинная причина... А что болтал? Верёвки, верёвки на петли... Доменико ощутил как бы удар в сердце.
– Почему нечего? – произнёс Доменико. – Почему? Глупости! Ваша светлость!
Князь отошёл, не ответив. Зодчий двинулся за ним. Надо помешать, надо объяснить... Марио уедет и будет обвинять его, Доменико, очернит его в Астано, в Лугано, повсюду… Позор, нарушение заповеден ремесла. Срывались бессвязные слова, летели в спину светлейшего. Пробился в толчее мужчин, плясавших вприсядку, догнал.
Выпученные глаза Меншикова обдали неудовольствием.
– Чего тебе? Не моя воля, царская... Тебя царь любит, радуйся! А ты скулишь чего-то... Юрод ты, что ли? Два медведя в берлоге – знамо, тесно. Радуйся, благодари царское величество!
Милости царя велика, но хотелось принять её иначе, никого не обижая. Князю толковать бесполезно. Доменико побрёл назад, к Марио. Он-то обязан понять. Неужели вспыхнула давняя семенная вражда из-за проклятого виноградника, из-за жалкого клочка...
Наутро Доменико вспоминал – земляк успокаивал его и отшучивался. Казалось – неискренне. Встречались они после новоселья мельком.
Родным в Астано зодчий написал:
«Чужая душа темна. Марио уверяет, что он соскучился по дому, что он опасается перемен в России. Князю он сказал иначе – одному из нас необходимо уйти. Не могу представить, что он будет рассказывать, но, во всяком случае, клянусь вам всем святым, я не вымолвил про него ни одного дурного слова и никаких козней против него не замышлял. Видит мадонна! Царь предпочёл меня, вот и всё. Марио не пожелал быть в положении подчинённого – бог ему судья!»
* * *
Порою он завидовал земляку. Насколько удел Фонтаны легче! Зимой, когда работы замедлились, пожалует в столицу на неделю, на две – и обратно в обжитую, сытую Москву. А он, Доменико, первый архитект, бессменно под рукой царя – милостивой, но и жестокой, справедливой, но и тяжёлой.
Карлсбадскими водами Пётр подлечился, хотя безделье томило страшно. «Честная тюрьма, – писал он Екатерине с ворчливым юмором. – Поят, как лошадей, брюхо раздуло». Рад был вырваться. Екатерина ждала его в Торуни, оттуда вместе – в Петербург. Остановки в Риге, в Ревеле сокращали, дабы Новый год встретить в парадизе.
Ещё гуляли сквозняки в Зимнем дворце, выгоняли ароматы пиршества, – царю понадобился зодчий.
Доменико пришёл с отчётом полным. Никогда ведь не угадаешь, каким вопросом, каким решением ошеломит его величество. Последние месяцы архитект и гезель строили и перестраивали модель собора Петра и Павла.
Царь был в сорочке, вправленной в штаны. Бледен от бессонной ночи, но напорист. Эскизы, планы собора глядел рассеянно, почти равнодушно.
– Котлин управил мне?
Нет, не передумал, не отставил странный своп прожект.
Неужто земли у нас мало? Так, бывало, сетовал доверительно Скляев. Слова жгли язык архитекту.
– Ты человек горный, – сказал Пётр осуждающе, не встретив обычного воодушевления. – А мне тошно в горах. Карловы бани в щели, солнца не видать. Ровно могила... Копошатся христиане, от рождения до смерти. Нет уж, по мне, горе-злосчастье в горах!
Далеко замахнулся царь. На Котлин закидывает столицу, почти в открытое море, – и добро бы обслугу её, гавани, амбары и прочее, так нет, главные её строения! Остров намного крупнее Васильевского, Городового, однако целиком разлинован каналами и улицами – приказ его величества покорнейше выполнен. Земцов трудился, копируя начисто – чертит он и рисует лучше учителя. Тем нелепее этот план, этот рыбий скелет, накрывший Котлин. Из конца в конец – центральный проспект, от него под прямым углом дома, вдоль каналов, на осушенной земле. Вот где могила ещё сотням работных!
Большой город. Остров – вытянутый петлёй на плане – стягивает семь тысяч двести семьдесят восемь дворов, заполнен до отказа. Второй Петербург... Цифра внушает доверие, царь доволен.
А собор в цитадели? Отменит... Напрасно трудились...
– Славно! Пускай Европа поглядит – вон куда мы бушприт выставили! Знать, не робки, знать – силу имеем. И гостям рады... Коммерсант не глуп, живо на ус намотает, где ему товар сложить. Сюда брести, песок скрести, либо на Котлин, по глубине. Ты-то соображаешь, мастер?
Одного согласия мало – изволь радоваться. Досада прольётся в письме.
«Это чистейшая прихоть. Царя ничто не остановит. Он уже живёт на Котлине, задуманное существует для него. А между тем его собственные дома ещё не отделаны, в Зимнем дворце холодно, печи сложены плохо и дымят. Мастера, которых я нанял, не получили вовремя жалованья и, спасаясь от голода, разбежались».
Вскоре Доменико прочёл указ. 16 января 1712 года царь повелел заселять Котлин под страхом суровых кар. Отправить в первую очередь тысячу дворян, пятьсот лучших купцов и сто средних, тысячу ремесленников. Правда, не теперь, а тотчас по окончании войны. Мир кажется близким царю, как всё желанное.
Понятно, архитекту не сидеть сложа руки в чаянии мира. Готовить Котлин, всячески поспешая. И отнюдь не ослаблять смотрение на островах невских. Храм Петра и Павла и прочие дела не забывать.
Столица ширится. Цепочки домишек разбежались по берегам, у воды стало тесно. Где посуше, там загустели слободы. Сами собой возникли площади – рыночные либо перед церковью. Стихия, которую надобно укротить. Но как? Не один час архитект и царь проводят над картой, добиваясь ответа. Проблема коренная – дороги. Столицу питают внутренние российские области: хлеб идёт с юга, лес с востока, из-за Ладоги. Прибалтика не оправилась от военных невзгод, от чумы, но будет кормить и она. Три дороги – и сходятся они, как ни прикидывай, к левобережью Невы.
Из них важнейшая – южная. На Новгород и далее – на Москву. Проторённая башмаками пехотинцев, колёсами пушек, копытами драгунских да казачьих коней. Укатанная ныне возами с сеном, с мукой, капустой и живностью всякой, исход имеющих у базара, что возле Адмиралтейства.
Пётр взял перо, взмахом выпрямил улицу, петлявшую в застройках, рассёк десятка два усадеб. Вынеслась за город чёрная стезя – скорее чтоб, короче до большака. Лес тут – жалко его, зато першпектива.
– Шведов выгоним в лес. Завтра же...
Время, время... К весне блеснёт просека – будущий Невский, один из трёх расходящихся на плане лучей. В конце его новая башня – монастыря Александра Невского. Основанный несколько лет назад на месте битвы сего витязя со шведами, он покамест деревянный.
– Тебе делать, мастер!
Не забывать и храм в цитадели. Пусть будет... Того, кто пожалует дорогой приморской, встретят две башни слитно – адмиралтейская и соборная, а потом разойдутся – точно как маяки перед штурманом, который ведёт судно по створам.
Слава богу – уцелел собор!
А камня нехватка. Но и дерево взрастает в цене. Довольно бревенчатых изб, довольно пятистенок – царь запрещает. Дома ставить мазанковые. Уже немало таких – костяк из древесины заполнен глиной, гравием, галькой, булыгой, снаружи побелён, а брусья на этом Фоне чёрные, словно экзерсис по геометрии. Запестрит столица по-немецки, по-голландски, прежде чем оденется в камень.
«Пленные свалили толстую сосну, и я видел лицо царя в этот момент. Он испытывал живейшую боль. Он погладил ствол, как будто просил прощения. Не дай бог губить зря – хоть годовалое деревцо, хоть куст. Недавно попались двадцать мужиков и один полковник. Все были наказаны плетьми».
А Фонтана язвит:
– Плеть нависла и над тобой. Берегись!
А потакать кичливому сановнику – разве лучше? Меншикову поблажка, ведь дворец его уже сейчас здание общественное, место празднований. Роскошь личная не дозволена даже царевичу.
Алексей и Шарлотта приедут в следующем году. Где их поместить? Архитект заикнулся о дворце. Пётр потемнел.
– Ещё чего? Поживут в избе.
Деятельность сына в Польше, видать, неугодна. Однако у принцессы, вероятно, солидная свита. Маленький Вольфенбюттель самолюбив.
Доменико спорил, царь уступил. Ну не изба, так несколько срубов вместе. Царь продиктовал:
– Светлица с перерубом да ещё три светлицы... Сени да подклет для провианта... Три печи...
Дом такой нашёлся готовый – на Городовом острове. Раздражение не прошло – царь в тот день обрушился на знатных.
– Превыше всего я ценю старание и честность. Качества, кои среди высших редки.
И эти слова переданы в Астано. К ним прибавлено:
«Его величество сознает опасность. Он не желает отдавать созидание столицы на волю алчности и фамильных притязаний».
* * *
До утра светили окна Зимнего царского дома. Наперекор февральской вьюге гремела музыка. Свадьба Петра и Екатерины свершилась, о чём велено сообщить всенародно.
За столом, рядом с Апраксиным, с Шереметевым, земляки царицы, рижские купцы.
К весне супруги переедут в Летний дом. Работы самые необходимые спешно заканчиваются.
«Московский боярин, – пишет Доменико, – счёл бы это жилище бедным. Входящий ожидает увидеть широкую парадную лестницу, но встречает стену. В будущем на нём предстанет Минерва, вырезанная на дереве. Сбоку – простая узкая дверь и столь же простая лестница, подняться могут лишь два человека в ряд».
Комнаты небольшие. Жильё царя ничем не отличается от европейского купеческого средней руки. Разве что Пётр выставит для обозрения гостей разные диковинки натуры, купленные в Голландии.
Лепного декора, задуманного государем, на доме пока нет. Мастер отыскался как будто. Немец Андреас Шлютер[73]73
Шлютер Андреас (ок. 1660—1714) – немецкий архитектор и скульптор, виднейший представитель немецкого барокко; по приглашению Петра I с 1713 г. работал в Петербурге.
[Закрыть] – ваятель, художник и зодчий. Служит у короля Пруссии, но, слышно, не поладил там и склонен ретироваться.
Солдаты бережно вносят картины – большей частью голландские морские пейзажи. Что более, кроме моря, способно усладить зрение царя!
В кабинете его – высокие, до потолка шкафы. Заполняются библиотекой. Царевна Марья зашла, любопытствуя, и осудила брата – божественного-то малость! Царский шут, спившийся князь Шаховской, тотчас отозвался. Ходит, раскрыв атлас, гнусаво тянет:
– Святой географии, да преподобной геометрии, да пречистой гистории чте-е-ни-е-е-е!
Получил от царя щелчок по лбу и взвыл. Издеваться над науками не сметь! А книги прибывают. Изделия разных печатных станков, из разных наций, приобретённые царём и послами России, трофейные, дарёные. Расположить надо по предметам, кои трактуются. Что ж, на это сил не жаль. Доменико вместе с Земцовым задерживаются вечерами, разбирая главное царское сокровище.
Врывается Пётр, неизменно в спешке, в расстёгнутой епанче – похоже, зимний ветер не смог его догнать. Снимет с полки толстый фолиант.
– Читай мне, мастер!
Голландские, немецкие авторы самому доступны. Поймёт и французов, но с помощником быстрее отыщется нужное сегодня – в многотомной «Морской энциклопедии», у де Стреда в «Описании мельниц ветряных, ручных, водяных и конных», у Буйе в «Способах сделать реки пригодными для судоходства».
Часто требуются трактаты зодчих. Новые идеи – опять же из Франции, но царь обращается и к Виньоле, к Палладио, Скамоцци[74]74
Палладио Андреа (1508—1580) – итальянский архитектор и теоретик архитектуры позднего Возрождения.
Скамоцци Виченцо (1552—1616) – итальянский архитектор, работавший в стиле позднего Возрождения и барокко.
[Закрыть].
– Корень сего художества в Италии, – твердит царь и слушает Доменико подолгу. Наступает разительная перемена – грозный властитель внимает безмолвно, упоённо, как юный ученик.
Альбомы чертежей, гравюр, учебники архитектуры, фортификации – Доменико насчитал их сотню. Ещё больше пособий для корабела, для навигатора, и запылиться они не успевают. Царь заносит цифры, схемы в записную книжку, захватанную, в пятнах пота и копоти, а то берёт увесистый том и кладёт рядом с собой в сани, мчится в Адмиралтейство.
«Полтаву» спустят, как только растает лёд. И залог жат второй линейный корабль – «Ингерманланд». Судно, каких не бывало, уверяет Пётр, его создатель.
– Гляди, Андрей Екимыч! Вишь, восходит на волну, вишь – рубит её, ровно масло...
Потрудитесь, люди сухопутные, оценить итог расчётов, форму носа, разбивающего козни своенравного Нептуна, глубину погружения кормы, – этак вот руль утоплен, не выйдет из воды, не станет махать зря! Чуждых корабельному делу не должно быть в столице, в островном парадизе.
Близится весна. Пётр целыми днями на стоянках флота. В протоках Невы, где зимуют галеры; на Котлине, где гавань фрегатам. Немедля проверить всё, способное плавать, экипировать к лету по всем статьям! Доменико реже видит царя, зато жалует в Летний дом царица. Архитекта узнала. Вспомнила пастора Глюка.
– Святой ш-шеловек...
Земцову протянула руку для поцелуя, потом потрепала волосы гезеля, давно не ведавшие ножниц. Велела постричься, почистить ногти. Картины, размещённые в покоях, при ней раза три перевесили. Меняли убранство кухни, спальни, детской – во все мелочи вникала Екатерина, рачительная экономка Глюка. Приводила с собой дюжину служанок, коих наставляла дотошно.
Заведённое пастором – высший для неё образец. Там, в Мариенбурге, весело пылали камины.
– Почему нет камин? – спрашивала царица, выпячивая красные сочные губы огорчённо. – Почему, майи герр?
К Доменико обращалась по-немецки. Что же, убран, печи? Известно ли её величеству – здесь даже июль бывает холодный.
– Камин, битте! – отчеканила царица и топнула ногой, обутой в солдатский башмак.
Ах, непонятливый синьор! Приставить к печам, соединить дымоходом – зо! Доменико поклонился. Уродство! Жаль заслонять живописные, ладные каменки, сказочных птиц и чудища на русских поливных изразцах.
Памятен будет для Доменико сей каприз Екатерины, обернётся нежданно...
А сейчас хлопотная предстоит поездка в канцелярию городовых дел, добывать печника. Работа хитрая. Приказать легко – кто сумеет исполнить?
* * *
В канцелярии – длинном мазанковом строении на Васильевском – писцы сидят плечом к плечу. Душит свечной чад, горький дух сургуча. Громоздятся бумаги. Начальник – шумливо добродушный Ульян Синявин[75]75
Синявин (Сенявин) У. А. – генерал-майор, в 1709—1715 гг. и с 1720 г. управляющий Санкт-Петербургской городской канцелярией (канцелярией от строений).
[Закрыть] – стонет, вытирая пот на лбу.
– Кхо, кхо! Тонем, братцы!
Жалобное издаёт кудахтанье, за что прозван курицей. Охотно поменялся бы местами с братом Наумом – флотским офицером. У того море, а тут океан бумажный, конца-края нет. Народ на вечное житьё прибывает – всех пиши! Всех, с жёнами и с чадами...
– Пропадаю я, Екимыч. Казнь египетская... На каждого Вавилу трать чернила...
Плотник он лапотный, этот Вавила, либо столяр, каменщик, маляр, – честь ему, какая и не снилась мужику. В деревне достаточно слова господского – здесь подрядная запись. С номером и подшитая...
Пиши его, мужика нечёсаного, полным именем, да товарищей его, которые в артели, поимённо. Кто они, откуда родом, да что обещаются делать... А он, тетеря дремучая, неграмотный, условия надо читать ему вслух. И перо ему подай, чтобы нацарапал крестик. Экие церемонии!
Доменико привык – Ульян сперва поворчит. Скажет ещё, что нет у него печников хороших. На бумаге числятся, а в наличии…
– Вчерась удрали двое, от Апраксина... Кхо, проклятые! Видать, не биты.
– Полно, Ульян, – сказал архитект. – Знаешь ведь, отчего бегут.
– Знаю, милый.
Проступила на миг, смягчив жёсткое лицо, посеревшее взаперти, природная сердечность.
– Дай-ка мне... В крепости работал, в казарме – как его? Порфирий? Да, Порфирий.
Был такой, с сыном и дочерью. Сам третей, как говорится по-русски. Запомнилась и третья – точнее, сохранилось впечатление от женщины, резкое как ожог.
– К тебе охотой пойдёт. Ты не дерёшься... Ищи его – меня, вишь, теребят!
Протянул толстую тетрадь. Листки, испещрённые то церковной манерой письма, то новой, с цифрами арабскими, ответят – кем нанят мастер, где кладёт печи. «Волею божьей умре» – кольнула глаза строка, вдавленная будто с отчаянием. Нет, не Порфирий...
Возникли подряд два Ивана, два Василья. Невелик выбор у сельского священника – вот опять Василий, с его слов прошение, прямо царю.
«Живёт он в Санкт-Петербурге, а жена и дети в Костромском уезде и имеют от приказчика и старост немалые обиды и неправедны поборы...»
Затянет иной раз строка, зацепит, как колючка в лесной чаще. «Умре»– повторяет тетрадь. «Жена волочится по миру, пить и есть ей нечего, молит отпустить в дом отца её, чтобы ей голодом не помереть». Тетрадь замкнула кожаным своим переплётом вдовий плач, голоса обиженных, которым не выплатили хлебных денег, не дали сносного жилья, а то безвинно стегали, мытарили в остроге. Доменико словно брёл сквозь толпу оборванных, измождённых. Бесстыдные аферисты наживаются на них, сколачивают богатства... Мудрено ли, что бегут люди? Ему, архитекту, слишком хорошо известно. Грабители растаскивают хлеб, овёс для лошадей, брёвна, доски. Дивиться надобно вот чему – столица всё-таки строится. Чудом каким-то, из последних сил человеческих...
«У посадского человека Степана Тарасова куплено скоб дверных лужёных 24 скобы, ценой заплачено 1 рубль 6 алтын 4 деньги, да петель дверных...»
«На гончарном дворе делает он, Тимофей, разных фигур кафли и посуду управляет…»
«Вотчимы поручика Травина крестьянин Митрофан Иванов с товарищи... Плата им с тысячи кирпичей положенных по 30 алтын 3 деньги. Воду, известь творити и на дело носити им самим».
Мужики, коими жив Петербург... Одни знакомы архитекту, другие примелькались в тетрадях. Перестанет Митрофан посылать оброк поручику, сумеет затеряться – его счастье. Не докличется поручик. Удержит столица доброго мастера, по крайности засчитает помещику как рекрута, взятого в армию. Многие беглые стали в столице свободными – беспощадна она к тем, которые работы не вынесли, скрылись, – ловить их, наказывать кнутом, возвращать...
В губерниях про Петербург толкуют разно. Удачи там мало, больше горя. Город – губитель. Город антихриста – и такое слышал Доменико от работного, пригнанного в цепях, полубезумного. Пытался бежать с дороги – избили, заковали. Целые партии прибывают в железах.
«Тысяча с лишним, – расскажет Доменико, – рассеялись по лесам в нынешнем году, ускользнув от свирепых конвойных. Сотни две погибли в пути от истощенья, от болезней. Для царя все средства пригодны для достижения цели – теперь должны отвечать и родственники беглого крестьянина. Бедняг сажают в тюрьму. Его величество как будто не надеется долго прожить – иначе мне трудно объяснить лихорадочную его поспешность».








