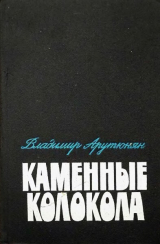
Текст книги "Каменные колокола"
Автор книги: Владимир Арутюнян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц)
Слух о разгроме кавалерии Мурада поразил Япона, ведь он нисколько не сомневался, что эскадрон легко преодолеет абсолютно безопасный Селимский перевал.
От страшной вести Япон не мог опомниться, когда буквально на второй день после выступления из Кешкенда, спасаясь от красного батальона, сорок кавалеристов с тремя лошадьми и двадцатью восемью винтовками объявились в гарнизоне, ведомые неким младшим офицером.
Это были остатки разбитого эскадрона, которым удалось за одну ночь унести ноги от Синей крепости.
– Где кавалерия?! – гремел Япон.
– Ваше превосходительство, я уже доложил.
– Какой доклад?.. Мне нужен не доклад, а кавалерия!..
– Она разбита, ваше превосходительство.
– Где Мурад?
– Его нигде не нашли.
– Мурад!..
– Я сказал, что никто не видел его, ваше превосходительство. Быть может, убит.
– Как я обманут, боже!.. Зачем я понадеялся на этого сопляка?
Он стал что-то орать на офицеров, одному из них без всяких видимых причин закатил оплеуху.
– Я обманут, – шагая по комнате, выкрикивал он. Объявись вдруг Мурад в эту минуту в кабинете, Япон не колеблясь изрубил бы его на куски.
Домой комиссар не пошел. Этот человек, закаленный в неудачах, ни при каких обстоятельствах не отчаивался. Не потерял головы и на сей раз. Он распорядился вызвать председателя национального совета. Тот уже прослышал о поражении кешкендского эскадрона и вызов в штаб сразу увязал с недобрыми событиями. Он вдруг явно почувствовал, как вокруг шеи затягивается виселичная петля. «Будь что будет, бог не выдаст, свинья не съест», – подумал он и отправился в штаб.
В кабинете он сел подальше от комиссара.
– Когда проводилась последняя мобилизация? – как можно спокойнее спросил Япон.
– Четыре месяца назад, ваше превосходительство.
– У вас есть списки всех мужчин уезда?
– Какого возраста? – забеспокоился председатель.
– Всех возрастов.
– В общем-то есть, ваше превосходительство.
– Мобилизовать всех.
Председатель национального совета обалдело уставился на Япона. Он не мог слова вымолвить.
– Всех! – повторил Япон. – Если не призвать их сегодня, завтра их мобилизуют большевики.
– Даже стариков и... детей? – испуганно уточнил председатель.
– И инвалидов, – добавил Япон. – Ты их собери в Кешкенде, а уж я решу, кого оставить, а кого отправить обратно. Выполняй приказ!
– Ваше превосходительство...
– В твое распоряжение предоставляю взвод солдат, – перебил его Япон. – Мобилизацию провести сегодня же ночью, и никаких отговорок. И еще: по всему уезду нужно собрать не меньше двухсот лошадей.
Председатель национального совета выглядел полным идиотом.
– Так ведь еще в ту мобилизацию лошадей не осталось.
– Осталось. Соберешь сто, остальных раздобудем мы.
– Где их взять?
– Где хочешь, там и бери, а уж моя забота достать остальных.
– Ваше превосходительство...
– Встать!..
Председатель национального совета вскочил со стула.
– Даю четыре дня времени. Об исполнении доложишь. Если через четыре дня гарнизон не будет пополнен солдатами числом пятьсот человек и двумястами лошадьми, тебя как изменника я публично расстреляю.
Выпроводив председателя национального совета, Япон отправил приказ командиру карательного отряда немедленно вернуться в Кешкенд. Покончив с официальными делами, он распорядился хоть из-под земли, но найти и доставить в штаб Сого.
Сого, ни о чем не ведая, явился и с вызывающим видом встал перед комиссаром.
– Мне сказали, что ты ищешь меня. В чем дело?
– Где твой щенок? – без околичностей спросил Япон.
Рука Сого невольно потянулась к кинжалу, рука Япона – к маузеру. Сого отвел руку. Япон также.
– Пока что я – ага, за счет которого кормится тысяча собак.
– Собака ты или ага – дело твое. Куда сбежал твой щенок? Загубил целую кавалерию. – При этих словах в груди Япона заныло. Упомянув о дикой, невосполнимой утрате, он еще сильнее разъярился. – Я прикажу сейчас же арестовать тебя, конфисковать твое имущество и купить лошадей, триста лошадей для гарнизона.
– Продай хоть всю мою вотчину, а триста лошадей не купишь.
– Куплю. Уходи, пока жив, пораскинь-ка мозгами. Даю тебе сроку два дня. Триста лошадей, или ты будешь повешен.
Сого хотел что-то сказать, но Япон заорал так, точно в кабинете пальнули из маузера. Едва сдерживая бешенство, Сого вышел из кабинета, растревоженный судьбой единственного сына.
Япон недолго пробыл в штабе. Про себя он уже принял решение и иного выхода не видел, кроме как самому возглавить поход против партизанского красного батальона, разгромить, уничтожить всех до последнего человека.
По возвращении домой, отобедав, Япон нацепил оружие и собирался было выйти из дома, как, что-то прикинув в уме, обратился к жене:
– Меня дня три не будет, ты не беспокойся.
Магде все уже было известно, но виду она не подавала. Женское чутье ей подсказало, что мужа нужно любой ценой удержать от этого рокового похода, который бог знает чем мог на сей раз кончиться, не всегда же судьба будет благоволить к нему!
– Не уходи, – со слезами в глазах взмолилась Магда. – Если ты уйдешь, мы больше не увидимся. Сердцем чую...
– Я тысячу раз просил тебя не вмешиваться в мои дела, – рассердился Япон.
Магда была непреклонна. Она упала, обняла мужа за ноги, стала целовать сапоги.
– Смотри, как я унижаюсь перед тобой. Умоляю, ради нашей единственной дочери, не уходи. Ты окружен врагами, не заметишь, кто поднимет на тебя оружие. Родной мой, послушайся меня на этот раз.
Япон мало считался с предчувствиями. Он поднял жену с пола, усадил ее на диван.
– Перестань, – сказал он отчаявшимся голосом. – Не дави на меня своими слабостями. Баба я, что ли?
Умоляющие глаза Магды обезоруживали его.
– Я никогда не вмешивалась в твои дела. Была тебе покорной женой. Твое достоинство для меня дороже всего на свете. Любила тебя и буду любить до гробовой доски. Сейчас я чувствую, что творится вокруг тебя. Меня интуиция не обманывает. Умоляю тебя, ради моей любви, ради себя, ради Сатеник, послушайся меня на этот раз... Не уходи... не уходи...
Япон дал уговорить себя. Он пообещал отправить вместо себя кого-нибудь другого, поклялся именем Сатеник, и лишь тогда Магда успокоилась.
Долго раздумывал Япон, кому доверить ответственный поход против партизан, и наконец остановился на поручике Тачате. За ним был отправлен адъютант. Поручика велено было проводить в дом комиссара.
Тачат явился через полчаса. В приемной он слащаво улыбнулся Магде. Та в свою очередь, зная, зачем поручик вызван, любезно и подкупающе улыбнулась ему и проводила к мужу.
Япон за руку поздоровался с Тачатом, пригласил сесть. Магда отметила, что муж старается выглядеть спокойным. Сочтя это хорошим началом, она удалилась.
– Поздравляю, поручик, вам представляется повод отличиться и сделать карьеру, – заговорил наконец Япон, предварительно справившись о его здоровье. – Считайте, победа у вас в кармане, а за наградой дело не постоит.
Поручик задумался всего лишь на мгновение, прикидывая, во сколько оценится такая победа, затем смело спросил:
– Предложение заманчиво, но, ваше превосходительство, чем вы гарантируете, что не произойдет наоборот?
Япон был уязвлен, но виду не подал.
– Если случится такое, то одного нашего прошлого достаточно, чтобы большевики вздернули нас обоих на одном суку, рядышком. В наших руках есть шанс на победу, и не воспользоваться им – глупо. Кстати, мне стало известно, что красные подразделения стянуты в Ленкорань на подавление мусаватистского восстания. Как видишь, у них не все идет гладко. Я распорядился обнародовать это сообщение.
– Ваше превосходительство, голод опаснее большевизма. Кто может гарантировать, что завтра мои солдаты, почувствовав в желудках пустоту, не переметнутся к красным партизанам?
– Я и это продумал, – сразу же отозвался Япон, точно ожидая этого вопроса. – В Малишке заберите припасов на пять дней. Кстати, могу обрадовать, – поменял разговор Япон, – англичане обязались помочь нам хлебом и оружием. Они оказались более деловыми, чем американцы. Я вчера получил телеграмму. Скоро прибудут в Кешкенд представители их миссии. Я уверен, что все уладится.
Беседа кончилась согласием поручика. Япон проводил его до лестницы. В приемной Магда снова улыбнулась ему. Смысл ее улыбки теперь уже был понятен пройдохе поручику. «Вы согласились?» – спрашивали глаза Магды. «Согласился», – улыбкой на улыбку ответил поручик и тут же подумал: «Будь у меня такая жена, я бы больше ни о чем не мечтал».
Лучезарная улыбка Магды еще долго не тускнела в воображении поручика. В ней было нечто чарующее, что делает жизнь прекрасной. Он знал, что адресованная ему улыбка фальшивая, а настоящей ее улыбки поручик не знал. Люди улыбались ему только из страха.
В нем вдруг возникло непреодолимое желание в ту минуту встретить кого-то родного, поделиться своими думами, и тут он со скрытым страхом отдал себе отчет, что никого у него нет, чужой он всему свету. Чувство одиночества было жестоким и тяготило его.
Шел Тачат по улице, кто-то здоровался с ним, кто-то молча проходил. Тачат людей не видел, они скользили мимо, как неодушевленные тени. Жизнь показалась ему убогой, бессмысленной. Где-то витают идеи, но они для идеалистов. Все обман и иллюзия. Есть лишь одна правда – золото. Это оно воздвигает дворцы и темницы.
Навстречу ему шла под конвоем большая группа стариков и женщин. Поручик сразу узнал несчастных, арестованных по подозрению в связях с большевиками.
– Вон тот мерзавец! – выкрикнул кто-то из группы, показав рукой на поручика.
Раздались проклятия женщин:
– Чтоб сдох ты, безбожник!..
– Будь проклят, собака!..
– Молчать! – заорал одни из конвоиров и хлестнул кнутом по голове крестьянина. – Еще слово, и раздавлю, змея!
Тачат понял, что арестованных гонят в Ереван, держать их в Кешкенде уже опасно. Он ускорил шаги и сам не заметил, как очутился возле дома вдовы. Ему показалось, что в отчужденности Кешкенда возникла какая-то далекая сердечная связь между ним и этой отверженной женщиной. Она тогда могла запросто застрелить его, мстя за свое унижение, а он в порыве бессознательной признательности отпустил ее на свободу. Поручик подошел и постучал в дверь. Вдова вышла и, увидев поручика, растерялась.
– Не бойся, – сказал он. – Я пришел к тебе как друг.
Он вошел в дом, окинул взглядом облупленные стены, нищенскую утварь. На столе лежал узел.
Поручик пощупал его.
– Арпик, ты можешь петь? – неожиданно спросил он.
– Что спеть, братец Тачат?
– Что?.. Песню...
– Какую?
Тачат тихо запел:
– Как дни зимы, дни неудач недолго тут – придут-уйдут...
«Боже мой, – подумала вдова, – да ведь это была любимая песня моего Арташа. Как могут люди любить одну и ту же песню и стрелять друг в друга?»
Поручик умолк, посмотрел на вдову:
– Спой.
– Нет, братец Тачат, я не могу.
Тачат вздохнул и вспомнил про узел под рукой.
– Ты куда-то собралась?
– Нет, нет! – испуганно ответила вдова.
Поручик спокойно развязал узел, увидел пару вязаных мужских носков, старое женское платье, фотокарточку убитого Арташа и кусок черствого хлеба. Он с подозрением покосился на вдову:
– Ты собралась следом за Варосом?
В глазах вдовы мелькнул ужас. Поручик пристально смотрел на нее. О чем он так долго раздумывал? В его воображении вновь возникла чарующая улыбка Магды. Неужели женщины могут так красиво улыбаться? И те тоже, которые недавно проклинали его на улице... и эта несчастная вдова... Она так улыбнется Варосу, когда разыщет его. Почему одним дарят улыбки, а других страшатся?..
Вдова вдруг бросилась поручику в ноги:
– Не выдавай меня, прошу тебя... Никого нет, кто постоит за меня. Что я сделала? В чем моя вина? За что со мной так жестоко обращаются?
Поручик взял ее за руку, помог подняться с пола и тихо сказал:
– Выслушай меня, не уходи из Кешкенда. Тебя все равно схватят по дороге. Есть приказ расстреливать на месте всех подозрительных независимо от возраста и пола. Скоро начнутся жаркие бои. Еще много женщин овдовеют. Оставайся в Кешкенде; если тебе повезет, Варос сам придет, найдет тебя.
Он повернулся, толкнул дверь и ушел не оглядываясь.
«Пойду-ка я в казарму... пора готовиться к походу...»
Командование партизанского батальона решило воспользоваться всеобщей сумятицей, возникшей в Кешкенде, прорваться в Айназур, Елпин и поднять на ноги крестьян прибрежных сел вдоль Арпы, привлекая в батальон всех укрывшихся от службы в гарнизоне. Лазутчики доносили о передвижении пехотного взвода под командованием поручика Тачата. Было срочно созвано совещание.
– Япон не сунет шашку в ножны до тех пор, пока не расправится с нами или сам не поплатится головой, сказал Овик. – Его противник ни на минуту не должен терять бдительность. А поручик Тачат – это вам не Мурад. Он ни одного шага не предпримет, пока полностью не уверует в победу. У кого есть предложения?
– Япон направил пехотный взвод против конного батальона, – сказал Сагат. – Следует воспользоваться оплошностью Япона. Он запамятовал, что мы отбили лошадей у его кавалерии.
– Лошадей нужно сберечь, – заметил Овик. – Гокча в тяжелом положении. Для подавления восстания дашнаки бросили против них большие силы, у нас есть достоверные сведения. Необходимо перерезать путь дашнакам, а это сделают наши конники.
Никто не стал возражать.
Конный ударный отряд был сформирован. Командиром назначен Левон. В состав отряда включили и Вароса, как опытного конюха. В тот же день отряд без всяких помех перешел Селимский перевал и взял направление на Гокчу. Пехотный батальон двинулся через леса Гергера и начал по пятам преследовать отряд поручика Тачата. Выслушав донесения своих лазутчиков, Тачат поспешил в ущелье Чайкенда, готовый к бою. Отряд занял удобную позицию и замаскировался.
– Можешь пожаловать, душа моя, ты уже наверняка чуешь запах жареного, – потирал руки Тачат, предвкушая легкую победу над бывшим штабным переводчиком.
Вскоре стало известно, что партизанский батальон, минуя засаду, устроенную поручиком, прошел к ущелью Аствацацн.
– Котенок! – сладко улыбнулся Тачат. – Он еще и хитрит.
Тачат спешил нагнать мятежников, чтобы, используя численное преимущество, разгромить на месте, не дав им опомниться. Плоды молниеносной победы были известны – слава, золото! А после плевать ему на всех воюющих, пусть хоть до последнего перебьют друг друга, Тачата это больше не интересовало бы.
Овик хорошо знал коварного поручика. С ним следовало держать ухо востро, быть осторожным и изобретательным. Отступить перед поручиком означало допустить, чтобы дашнакская партия подняла невообразимый шум, оглашая свою победу, и тем самым задушила бы в уезде революционный дух. Батальон следовало сохранить любой ценой.
Передохнуть удалось, лишь одолев Чайкендское ущелье, откуда двинулись к ущелью Аствацацн. Местность была всем хорошо знакома. В батальоне царила железная дисциплина – приказы командиров выполнялись точно и без промедления.
– Здесь дадим бой, – сказал Овик на командирском совете, – не то поручик может выиграть время и обойти нас.
– Нам отступать некуда, – поддержал один из десятников.
– Об отступлении не может быть и речи, – заметил Овик. – В случае надобности можем оттянуться в Мартирос, а куда денется поручик?
– Товарищ командир, никто никуда не денется. Одолеет сильный.
– Если многоопытный комиссар батальона с пятьюдесятью солдатами пройдет в Мартирос, он обеспечит нам свободный проход к ущелью, а что может предпринять поручик?
Десятник ничего не ответил. Знание Овиком военного ремесла было очевидно – не зря он служил в русской армии!
Спустя полчаса отряд из пятидесяти человек прошел беспрепятственно в Мартирос. Остальные, заняв позиции, расставили дозоры, и партизанский батальон готов был встретиться с дашнакской пехотой, возглавляемой поручиком Тачатом.
Тачат не заставил долго ждать. Неподалеку от ущелья Аствацацн его люди подкараулили и схватили одного подпаска, привели к поручику. Его даже не пришлось пытать, он сразу же выложил, что видел, как в ущелье спустился батальон. Сведения были важными, и поручик смилостивился над пастушонком.
– Отпустите ягненка, – сказал он, – подрастет, бараном станет.
Противник был обнаружен. Пехотинцы Тачата пробрались в овраги и балки, тщательно замаскировались и по первому же приказу готовы были ринуться в бой.
– Померяемся силами, – заявил поручик, – места тут хватит всем – и живым и мертвым.
К бою стремились и Овик и Тачат. Момент для схватки назрел, и упустить его не собирались ни тот, ни другой, оба они имели почти равный военный опыт. Вначале обе стороны затеяли беспорядочную перестрелку, взаимно прощупывая боевые позиции. Первой ринулись в атаку пехотинцы Тачата. Тщательно замаскированные партизанские пулеметчики отбили атаку. Овик приказал отступить и закрепиться на новых точках. Поручику нужно было во что бы то ни стало вывести пулеметы противника из строя. Он бросил к огневым точкам несколько групп. Партизаны заманили их в глубь ущелья. Пехота оказалась в мешке. Оставшиеся в живых сдались в плен, поручик и глазом не успел моргнуть, как был разгромлен начисто.
Контратака партизан была внезапной и ошеломительной. Пехотный отряд дрогнул, и, даже толком не приняв бой, дашнакские вояки кинулись бежать. Взбешенный поручик, выскочив из своего укрытия, разряжал маузер, не щадя своих. Те, кому удалось выкарабкаться из ущелья, на краю обрыва попали в перекрестный огонь. Поручик одержим был одним желанием: любой пеной сохранить хотя бы остатки разгромленной пехоты. В Мартирос войти уже не было возможности, по всей линии им преградили путь вышедшие из укрытия партизаны. Разумным было обойти как-нибудь деревню.
До позднего вечера партизаны собирали раненых, хоронили своих павших товарищей и солдат противника. Потери в батальоне оказались невелики. Уже темнело, когда батальон вошел в Мартирос.
Тачат был взбешен молниеносным и тяжелым поражением. То и дело он разряжал маузер под ноги взводных и в луну, орал, ругался непотребными словами, срывая на безропотно слушавших его подчиненных злость. Он всю ночь не сомкнул глаз. Взводные докладывали о потерях. Были убиты, ранены и пропали без вести более ста солдат.
– Тьфу на вас!..
В голове поручика созрел хитроумный план, который помог бы ему одним махом и расправиться с партизанами, и оправдаться перед Японом.
Он собрал офицеров на совещание.
– Господа, – торжественно начал он, улыбаясь как ни в чем не бывало, – нас обманули. Нас отправили против банды бунтовщиков, заверив, что они собой ничего не представляют. На поверку оказалось, что столкнулись мы с регулярной армией. Я не ошибусь, если скажу, что численность ее превышает две тысячи человек. Хотя и наш отряд самоотверженно сражался и нанес противнику большой урон, но мы вынуждены были отступить, потеряв при этом сто солдат, противник же – вдвое больше. – Он снова улыбнулся собственной лжи, точно говоря: «Дурачки, так думаю я, а что думаете вы – мне плевать». – Об этом следует доложить в рапорте уездному комиссару. Надеюсь, комиссар пришлет нам двести пехотинцев, четыре пулемета и две пушки из малишкинского арсенала. Мы, друзья мои, сровняем с землей Мартирос. Село продержим в осаде, пока не прибудет подкрепление. Никому не позволим улизнуть оттуда. Нас ждет впереди жаркие бои.
На следующий день рапорт был в руках Япона. Тачат подробно расписал, сколько взводов регулярной армии им обнаружено и как, к счастью, он вовремя заметил подстроенную противником западню и отступил, понеся незначительные потери, затем окружил противника, загнал в угол. Далее поручик перечислял, что требуется для поголовною уничтожения неприятеля. О своих потерях Тачат скромно умолчал.
Япон поверил всему, но никак не мог взять в толк, о какой регулярной армии идет речь. Он приказал бросить на помощь поручику триста пехотинцев, четыре пулемета и нескольких лучших офицеров гарнизона. Повод Япону представился исключительный, и потому для искоренения большевистской заразы ему ничего не было жаль. Единственное, в чем было отказано, это сдвинуть с места пушки.
С кошачьей осторожностью Тачат окружил село, расставил пулеметы, распределил командиров по группам. Свой бивак разбил на террасе, окруженной скалами.
Он терпеливо выжидал, чтобы бунтовщики вылезли из своих укреплений и предприняли контратаку. Но партизаны медлили. Тачатом были затеяны несколько ложных атак с целью выманить партизан, в ответ раздались лишь несколько одиночных выстрелов, а партизаны так и не показались. В конце концов Тачат решил, что лучше блокировать партизан, чем, затянув потуже пояс, шляться полуголодным по плацу кешкендского гарнизона.
Как всегда и в условиях лагерной жизни, поручик прежде всего позаботился о себе. Жил он в легкой палатке. По утрам плавал в речной излучине. На завтрак и обед ему всегда подавали шашлык, жареных кур и вино. (Его телохранители и ординарцы небезуспешно обменивали в окрестных селах солдатский паек на домашние продукты: относили муку и сухари, приносили домашнюю птицу и вино.) По нескольку раз на дню поручик гляделся в зеркало. С тайным удовольствием одергивал гимнастерку на кругленьком животе. Со стороны показаться, что он подлещивается к своему пузу, благосклонно принимавшему подношения, добытые хитрым языком и льстивыми словами. Тачат себя чувствовал в лагере уездным комиссаром.
В Кешкенде Япону было доложено, что еще две недели полного довольствия пехотному отряду, осадившему Мартирос, и гарнизон останется без припасов. Япон тут же отправил Тачату следующую депешу: «Ликвидировать Мартирос в течение трех дней и вернуться в Кешкенд».
Получив депешу, поручик и бровью не повел. Он был не на шутку растревожен слухами, полученными косвенным путем: пал Алекполь, вот что было важнее комиссарских депеш.
Тачат и не сомневался, что пока он нужен Япону в этой неразберихе, чтобы тушить за комиссара огонь, а после – хоть трава не расти. У поручика была своя философия: не соваться в чужие дела и избави бог нести за что-то ответственность. Это он считал уделом неполноценных людей. Если же подобная ответственность сулила выгоду, то он становился самому себе рабом. А в остальных случаях рассуждал, что незачем пачкать руки: чем он хуже тех, кто носит белые перчатки? Япону дает золото весь уезд, и пусть даже рухнет мир, он и крупицей его ни с кем не поделится. Так вот самому надо позаботиться о себе, и не медля, не теряя ни минуты, не считаясь с обстоятельствами.
Поручик и не думал штурмовать ставку партизан и, не дай бог, сложить при этом голову. Он спокойно выжидал, пока от голода те сами не перегрызут друг другу горло. Зачем рисковать самому, когда для этого сидят на позициях опытные офицеры. А Япон все же выполнил угрозу: урезал наполовину лагерное довольствие. Однако это поручика не обескуражило, благо он научен был стилем работы комиссара. Через своих людей он вызвал местных старост из деревень Горадис и Алмалу и довольно долго заставил их ждать перед своей палаткой, пока не разрешил наконец войти, напустив при этом на себя угрюмый вид. Разговор был коротким.
– Явились, предатели... мерзавцы!.. По какому праву, продажные души, вы уже второй год отказываетесь платить налог государству?
Он потряс кулаком перед их носами и, не дав опомниться, продолжил:
– Я с вас шкуру спущу, ослы... сию же минуту расстреляю вас.
Старосты недоумевали. О поручике они только слышали, а теперь он воочию предстал перед ними во всеоружии своих полномочий.
– Стало быть, вы утверждаете, что хлеба у вас нет, как это заявили представителю национального совета. Попробуйте-ка и меня убедить. Я из ваших трухлявых шкур велю трехи сшить. Хлеба, видите ли, у них нет... Меня на мякине не провести. А золото, родные мои, золото у вас есть? Хлеб мы и в Иране достанем. Войско осталось без припасов. Завтра, самое позднее – послезавтра чтобы каждый из вас сдал в войсковую казну пятьдесят золотых. Понятно? Мои представители пойдут с вами... А теперь проваливайте!..
Пятьдесят золотых были не ахти каким налогом для деревни. Старосты, для того чтобы избавиться от мороки, согласились и воротились в свои села в сопровождении представителей поручика.
Вечером следующего дня Тачат сладко жмурился.
В его кармане позвякивали сто золотых. От радостного возбуждения он не мог ночью сомкнуть глаз. Назавтра возле палатки сидели старосты других деревень.
– Я вас вызвал, чтобы именно здесь, в этой палатке, учинить расправу. Предатели!.. Голодные солдаты удерживают позиции, а вы и в ус не дуете? Ослов из национального совета заверяете, что хлеба у вас нет. Тогда дайте золото. Хлеб мы и сами в Иране купим. Завтра, самое позднее – завтра же вечером, чтобы каждое село внесло 100 золотых в гарнизонную казну. С вами отправятся мои представители. В случае срыва даю им право на месте же содрать с вас шкуры. Ступайте.
Один из старост в село больше не вернулся. Как удалось ему улизнуть и скрыться, осталось невыясненным. Остальные облавами, обысками, угрозами собрали требуемую сумму. С кругленького лица поручика не сходила улыбка. Его золотая лихорадка усиливалась по мере того, как уезды и села Армении один за другим сдавались большевикам и объявлялись советскими. Мания к золоту у поручика была близка к безумию. Подлили масла в огонь и два английских офицера, неожиданно объявившихся в лагере.
Правительство Армении откровенно выражало недовольство позицией правительства Соединенных Штатов. Американцы организовали два сиротских дома, а взамен замышляли вывоз медной руды из Кафана. Им удалось бы беспрепятственно прибрать к рукам богатство недр армянской земли, если бы в Кафане не установилась советская власть. Верховный комиссар Армении мистер Смит упрямо твердил, что первоочередной задачей правительства является освобождение Кафана от большевиков. Правительство же Армении резонно замечало: для этого требуются припасы и оружие. Американцы гарантировали военное снабжение лишь при условии захвата Кафана дашнаками. Порочный круг замыкался, союзники никак не могли договориться.
Как раз в это время Смитом была получена санкция из Соединенных Штатов о том, что в условиях бурной политической активизации большевиков идея получения выгоды от Армении бесперспективна. Вкладывать какие-либо средства в нее неразумно. Разногласия между армянским правительством и его верховным предводителем-иностранцем катастрофически расширялись. За его спиной дашнаки стали вести переговоры с англичанами, тут же выразившими готовность выполнить все экономические требования и помочь избавиться от большевистской опасности.
Англичане не привыкли упускать малейшую возможность, сулящую выгоду, и тут же схватили, как говорится, рыбу за жабры.
Было утро. Поручик только кончил завтракать и по одному вытирал пухлые пальцы салфеткой, когда доложили, что к лагерю приближается какая-то пролетка. На подступах к лагерю пролетка была остановлена патрулем. Приезжих было трое, они показали документы, и их проводили в лагерь.
– Не сойти мне с места, если это не англичане, – сказал один из солдат и добавил: – Сбрею усы, если это окажется не так.
Поручик взглянул на его густые усы и позавидовал солдату, про себя же решил при первом же случае ощипать их.
Офицеры в английских военных френчах были уже отчетливо различимы. С самой любезной из своего арсенала улыбкой на лице поручик поспешил навстречу представителям британской миссии, приветствовал их и пригласил в свою палатку.
Когда расселись, одни из представителей миссии, которого звали майор Килон, сказал:
– Я глубоко сожалею, господин поручик, что вы день ото дня теряете уезды, а ваши шестьсот солдат здесь обречены на безделье, когда в них такая нужда.
Выслушав, поручик обратился к переводчику:
– Душа моя, скажи майору, что взять Мартирос штурмом невозможно. Бунтовщиков следует обречь на голодную смерть. Наша задача – продолжать осаду, чтобы большевистская зараза не выползла из Мартироса. Объясни ему, душа моя.
– Совершенно верно, – ответил майор, – в Мартиросе обретается зараза, но, например, очаги холеры не блокируются, а предаются огню, сжигаются дотла.
– Сжигаются, – согласился поручик, – но как их сжечь, если руки до них не доходят?
– Нет ничего невозможного. Сегодня мы вместе с вами обсудим позиции противника и сообща разработаем, так сказать, план нападения.
До самого позднего вечера англичане изучали местность. Майор Килон искусно составил топографическую карту, разметил возможные направления штурма и расстелил карту перед поручиком.
– Уездный комиссар гневается на вас. Надеюсь, что с этим планом вы в течение одного дня ликвидируете логово большевиков и реабилитируете, так сказать, ваш офицерский престиж.
Проводив англичан, Тачат мельком взглянул на карту и отшвырнул, бормоча:
– Сволочи! Ведь не предложат: поручик, ты начерти план, а уж мы пойдем в атаку.
Он лег на узкую походную койку и задумался. Было далеко за полночь, когда он вызвал к себе ординарца.
– Ты веришь в эту войну? – без околичностей начал Тачат. Ординарец идиотски уставился на него. – Скажи правду, душа моя, не бойся.
– Вам виднее, – уклончиво ответил ординарец.
– Мне известно, чем все это кончится, но я хочу, чтобы и ты знал. Выкурим ли мы большевиков из Мартироса или нет, все равно власть уже фьюить!.. – не наша. И головы нам не снести, если ты не настоящий мужчина. Золото, золото, милок, вот что может нас спасти, не то пиши пропало.
Ординарец сообразил, что у поручика на уме.
– Ваше благородие, я знаю, где взять его. Мано имеет в Азатеке конный завод, он получает с него крупные барыши. Триста рысаков в год не шутка! Мне доподлинно известно, что он их на золото продает.
– Ну, скажем, Мано, а кто еще? ..
– Манташ из Пашалу. Я его знаю, бывал у него. До войны у него было четыреста овец, он их распродал в тот год, а теперь прикидывается нищим. Брадобреем стал.
– Кому из наших ребят можно довериться?
– Позвольте подумать, ваше благородие... Есть один такой.
– Ладно. – Поручик протянул руку: – Отныне мы братья.
Братство было скреплено рукопожатием.
По горам и долам искал Сого сына Мурада. Обходя селение за селением, он сталкивался с ранеными, которых выходили местные жители.
– Не видели моего Мурада?.. Скажите мне что-нибудь о нем...
Кому-то было жаль Сого, кто-то с ненавистью отворачивался. Но ответ у всех был один:
– Не знаем... не видели...
В ущелье, где произошла схватка с партизанами, он переворотил каждый куст, каждый камень. Из глаз Сого уже сочилась кровь вместо слез.
Поздно ночью брел он к деревне Горс. Залаяли собаки. Сого вытащил кинжал.
– Стой, кто идет!.. Эй!..
Это была патрульная группа. Солдаты подошли, узнали Сого.
– Сого-ага, в этот поздний час...
– Мурада моего ищу, Мурада, – жалобно отозвался тот.








