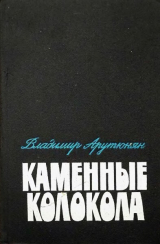
Текст книги "Каменные колокола"
Автор книги: Владимир Арутюнян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 30 страниц)
Сатик в испуге попятилась в комнату, быстро закрыла дверь.
– Сатик!..
– Нет! Нет!.. Если ты не уйдешь, я отравлюсь!
– Пока ты мне не ответишь, не уйду!..
Но в ответ раздались тихие рыдания.
Старуха успокоила Салвизар:
– Не тревожься, у тебя еще дня четыре есть.
Поднялась Салвизар, просить стала, чтоб старуха хоть часок у нее побыла, но старуха нашла повод, чтоб уйти:
– У меня обед в тонире стоит, я сноху не предупредила, чтоб последила.
Вышла с такими мыслями: «Ежели увижу, что сноха к соседям пошла, волосы ей повыдергаю. Будь у нее муж, другое дело».
Пришла домой – наружная дверь открыта, а дверь в комнату изнутри заперта.
– Ты что, девка, плакала?
– А что – мне плакать не о чем?
«Мужа вспомнила, – подумала старуха, глубоко вздохнула, пожалела сноху и мысленно обратилась к небу: – Ну и черный же ты бог, раз с моими молодыми такое сделал...»
Под вечер Сатик занемогла. Матушка Наргиз, наспех помолившись, тоже легла. Сатик сказала, что дверь заперла, а то старухина бессонница ей покоя не дает. Среди ночи, того и жди, о чем-нибудь спросит. И кажется, что наготове у нее для снохи ругань: «Потаскуха! Шлюха!..»
Лунный луч скользнул по стенке, коснувшись неоседланного красного коня. И вдруг Сатик почудилось, что Даниэл прячется под тахтой – сейчас вскочит, распахнет двери, схватит ее на руки, и... поминай как звали.
«Я б тебя прямо сейчас украл, ежели ты согласна...»
Представила, как Даниэл крепко держит ее в объятиях и мчится на коне Монархиста Ваче в Кешкенд. Из груди невольно вырвался вздох. Тут старуха шевельнулась, потом заворочалась, задышала прерывисто и вдруг тревожно окликнула ее:
– Сатик!..
Сатик медленно приподнялась, ощутила темноту комнаты и собственное одиночество – Даниэла не было.
– Что с тобой, мама?
Старуха зарыдала, обняла сноху:
– Сатик, доченька... единственная моя...
– Мама...
– Без тебя я и дня не проживу.
– О чем ты, мама?
– Мне дурной сон привиделся...
Сатик тоже заплакала.
Дорога от Кешкенда до Арпы извилистая, вдоль Айназура проходит.
На попутной телеге двинулся Овак в Кешкенд, на попутном фургоне возвращался – добрался до Айназура. В доме знакомого своего перекусил и пошел пешим ходом домой. А весть о нем как на крыльях долетела сперва до Чивы, потом до Арпы. Монархист Ваче встретил его уже за околицей.
– Ваче, из уездкома приехать сюда собираются, чтоб на партсобрании коммуну утвердить.
– Стало быть, мы с тобой теперь родня, – похлопал Ваче его по спине не очень искренне.
«Хороша родня, – подумал Овак. – Коня пожалел дать...»
– Что же ты у меня коня не попросил, Овак, когда в Кешкенд собрался? – будто прочел Ваче его мысли. – В другой раз надумаешь ехать и не попросишь, смертельно меня обидишь.
Асатур бегом примчался в дом к Оваку. Тот сидит за столом, перед ним хлеб, сыр и студеная вода в глиняном кувшине, ест с аппетитом, водой запивает.
– Узнал, что коммуну утвердили. Дай тебя в лоб поцеловать.
Обнял Овака, поцеловал.
– Садись, Асатур, перекусим.
– А как же, надо это дело отметить.
Он сходил в лавку, купил бутылку водки. Лавочник Даниэл, узнав про коммуну, задумался: «Коммуна, стало быть, будет. Асатур с годик проработает, а потом заявит: мы с женой уже старые, пусть коммуна нас содержит. Этот своего не упустит... А кто же у них будет казначеем?»
Он прихватил еще одну бутылку водки, сунул в карман и направился с Асатуром к Оваку.
Закусили, и Овак принялся толковать о политике:
– Мы строим социализм. Это значит, надо обобществить землю, имущество. А потом работать, строить, чтобы у всех всего было поровну. Не по душе тебе колхоз – вступай в коммуну. Вольному воля. Мы должны окрепнуть и ударить по частному сектору. Пока частник не исчезнет, коммунизм невозможен. По моему убеждению, коммуна – самое верное оружие против частника. Я лично за коммуну. Я и в Кешкенде говорил, и где угодно скажу: частную собственность надо уничтожить одним махом. А то вон как землю поделили: это тебе, а это колхозу. И каждый себе кусок побольше утянуть старается. Вот увидишь, что в конце концов победа будет за коммуной.
Даниэл терпел эти речи скрепя сердце. Ему хотелось послать коммуну куда подальше, но с губ срывались лицемерные слова: «Джан коммуна!»
– Коммуна – мужественная организация. Сердце у человека должно быть твердым, чтоб он мог сразу отказаться от своей собственности, а общественную собственность беречь как зеницу ока. Коммуна – это истинное братство.
– Говорят, она к нам из Франции пришла. Верно?
– Верно.
Даниэл оживился:
– Кум Овак, не хочу тебе перечить, но ведь Франция – капиталистическая страна. Нам вроде бы совестно ей подражать. Нужно все по-другому, по-советскому обмозговать.
Асатур изумлялся уму Даниэла: «Вылитый отец. И тот был башковитый». Взглянул на Овака: «Давай отвечай».
– А ведь Даниэл верно говорит, Овак. Франция капиталистическая страна, а мы – советские. Так что давайте придумаем что-нибудь свое.
Овак сурово посмотрел на Асатура, и взгляд этот означал: «Туповат ты, Асатур».
– Коммуна – это идея. И француз ее принимает, и советский гражданин. Кулака мы прогнали? Прогнали. И, значит, можем осуществлять идею. Как только французы своих капиталистов и помещиков уничтожат, они тоже создадут коммуну. Всего у всех станет поровну.
Асатур обратился к Даниэлу:
– Ты вроде бы грамотный, а иной раз такое ляпнешь. Какое отношение имеет Франция к нашей коммуне? Разве ж у французов есть Красная Армия? Как французам коммуну-то создать, а? Ведь буржуи тут же на дыбы встанут. А у нас другое дело. Мы советские. Все равны...
В селе шло веселье. По улицам разносился аромат мяса. До полудня из ердыков валил дым. А в полдень раздались звуки зурны и барабана.
– Джан-джан!.. Играй, парень, туш! Ведь равенство!..
Кто-то двух своих баранов зарезал – собрал родню, друзей.
– Бейте в барабан, ребята! Джан коммуна! – Распростерши руки, он танцевал и пел. – Будь проклят отец того, кто не выпьет за здоровье коммуны!
Асатур увидал такое, призадумался: «Не послушал я свою старуху, курицу резать не решился, а эти вон баранов зарезали... Эх ты, голова!..»
Он поспешил домой.
– Давай, мать, нож – я козу зарежу.
– Ты что, спятил?
– Ведь коммуна ж! Что ж я, в ее честь козу зарезать не смею?
Зарезал козу, дал старухе кое-какие указания и вышел на сельскую улицу.
– Народ, а у меня что же, дом не дом? Я что – не член коммуны? Ко мне прошу пожаловать с зурной и барабаном!
Монархист Ваче украсил коня шелковыми шалями и принялся гарцевать на сельской улице. Сынок его вел двух ягнят.
– Зарежьте на площади, – велел он. – Пируйте, веселитесь – ведь общее братство!
И посылает мясо матушке Наргиз. Матушка Наргиз возвращает ему мясо с парой теплых слов. Ваче делает вид, что не слышит.
– Ешь, танцуй, народ!..
Увидал все это Овак и подумал: «В счет коммуны режут свой скот. Асатур считает, что, зарезав свою козу, он угощает народ за счет Ваче. А Ваче – за счет Сегбоса. Пока из Кешкенда уездкомовцы прибудут, чтоб собрание провести, ни одной овцы не останется».
И вдруг он почувствовал себя в ответе за все происходящее. Крупными шагами подошел к толпе, встал в ее центре:
– Что вы ножи повытаскивали – скот изводите? А завтра в коммуну что сдадите? Хочешь, Асатур, всех овец зарежь. И ты, Ваче. Режьте, режьте. А потом шерсть понадобится – кто ее вам даст? Возле вас молодежь стоит – не сегодня завтра свадьбы предстоят. Так ведь? На чем молодым спать? На голых паласах? Что – завтра ваши ребятишки хлеба не попросят? Стыд и позор! В чьем бы хлеву ваш скот ни стоял, он все равно ваш. Орете о равенстве, а каждый что-то себе прикарманить спешит.
У Салвизар начались схватки.
– Овак, иди за повитухой.
Пошел. Заговорил тревожно, а матушка Наргиз выслушала его спокойно.
– Как я и сказала... Я еще ни разу не ошиблась. – Потом, обращаясь то к Оваку, то к снохе, велела: – Овак-джан, ты в мое дело не вмешивайся. Хоть ты и коммунист, помолись про себя святому кресту. А уж от меня требуй здорового ребятенка... Сатик, никуда не ходи.
Запрись и сиди. Я, может статься, задержусь... Овак, бегом домой, воды наноси, лохани наполни... Сатик, ежели кто стучать будет, не отворяй...
Овак заспешил домой, еще двух соседок поднял на ноги и, как велела повитуха, взял ведро, пошел за водой. Матушка Наргиз направилась к роженице, деловито приосанившись. Из окна своей лавки Даниэл увидал это и смекнул: «Видать, ее к Салвизар позвали». Запер лавку и направился к дому Овака – поглядел издали, увидал бабью суматоху и обрадовался: «Мое счастье. Пусть бог хранит младенца Салвизар, а мне такого случая упускать нельзя».
Сатик не захотелось запираться среди бела дня. Села, прясть принялась. И до того она себя в тот день чувствовала молодой и беззаботной – прямо как в девичестве. Вроде сроду и в снохах не ходила. Хоть и была сурова с ней старуха – не смей и взглянуть ни на кого, – только разве ж запрет помеха? Задорно крутилось веретено, и руки Сатик легко вспархивали в воздух, и грудь ее вздымалась, и юная вдова испытывала блаженство от свободы собственных движений. Ей казалось, пряди она так вот неделю, месяц – не устанет.
И вдруг дверь распахнулась – явился Даниэл. Вдовушка ойкнула, покраснела, растерялась, но... кричать не стала, чтоб голос ее, не дай бог, не донесся до ушей соседей, чтоб они не пришли, не застигли гостя...
– Зачем ты явился?.. Уходи! Уходи!..
Нет, лавочник не затем пришел, чтоб сразу уйти. Он чуть отступил, встал в сторонку.
– Сатик!..
Сатик поднялась. Даниэл почувствовал, что она сейчас соображает, как бы удрать. Преградил ей путь:
– Ты, козочка, меня не бойся. Я пришел за тобой, украсть тебя хочу...
Сатик попятилась назад, вся съежилась, глаза ее наполнились слезами, она взмолилась:
– Нет, нет, ни за что... Уходи!..
Даниэл приблизился к ней. Сатик, почувствовав опасность, закричала. Лавочник в испуге отпрянул.
– Я тебя все равно украду. Будь готова завтра, послезавтра. Клянусь, что в другой раз без тебя я из этого дома не уйду.
Опасаясь соседей, он поспешил удалиться.
Сатик прижалась к печке и долгое время не могла опомниться. Как теперь быть? Кричать, звать на помощь, молчать?
Кругом было тихо.
Дома суматоха, а Овак сидит во дворе на камне, вобрал голову в ладони, мучается: «Очаг мой проклят, это так. Но за что же все-таки дети мои помирают?»
Прислонился спиной к стене. Почудилось – стена непрочная, рухнуть может. Представил усопших своих ребятишек подросшими. Того, что от кори помер, – в синей одежде, худого, печального. Того, которого змея ужалила, – сильным, молодым, храбрым. А резвого болтушку-малыша, который утонул, – веселым умным студентом. Стоят трое за его спиной, а он... Чем он виноват? Исчезли – остался он у непрочной стены один-одинешенек. И горы вроде бы заволокло какой-то мутью, и улицы потемнели, и прохожие из людей в тени превратились.
«Да отчего ж ни одно дитя мое не выживает?»
...Салвизар грохнулась на колени, орет:
– Помираю!.. Помираю!..
Женщины успокаивают ее:
– Тише, девка! Не впервой рожаешь. На улице услышат – совестно.
А она им не внимает:
– Помираю!..
Под коленями ее земля звенит, дрожит. Откуда-то из недр земных шипение исходит. У всего есть свой голос, и все вопит от боли.
– Помираю!..
Село живет своей жизнью. Ваче коня в ручье моет.
К нему подходит Даниэл:
– Ваче, а коня ты отдашь в коммуну?
– Что?
– Коня, говорю, отдашь?
– Кому?
– Коммуне.
– Коня?
– Да.
– Наверно, нет.
– Заберут.
– Силой?
– Уговорами.
– Не дам.
– Заберут. И на глазах у тебя его запрягут. Коммуна и впрямь хорошая штука, Ваче. Если коня потребуют, не перечь, отдай.
Асатур в прошлом году продал в Шаруре бычка, купил ковер – с мягким ворсом, красными да зелеными узорами.
– Асатур-джан, спросить хочу, только ты не обижайся, – благоговейным голоском начала жена, – ковер ты коммуне отдашь?
– Что? – Асатур вроде бы не слыхал.
– Ковер, говорю, отдашь?
– Кому?
– Коммуне.
– Говоришь, ковер?
– Ага.
– Откуда знать, собрание утвердит коммуну или не утвердит...
– А ежели утвердит?
– Тогда, может, потребуют, а может, и не потребуют.
– А ежели потребуют?
– Может, отдам, а может, не отдам, – и вдруг неожиданно вскипел: – Я ведь велел тебе курицу поймать, чтоб зарезать!..
Салвизар все еще надрывалась:
– Помираю!.. Помираю!..
– Ну потерпи еще чуток...
Земля, сделавшись вдруг малой горстью, ускользала из-под ее колен. Что-то невыносимое, мучительное должно было вот-вот отделиться от нее и утащить половину ее существа.
– А-а-а-а!..
Пол, потолок, стены – все обрело голос.
Дом наполнился жизнью. Прекратились содрогания недр. Вещи заняли свои прежние места, потолок перестал ее давить. Салвизар попыталась повернуться, чтобы взглянуть на дитя. Ее поостерегли:
– Потише!..
– Свет очам твоим, Салвизар! Сынок!
Матушка Наргиз, которая напряжена была в течение всех родов, с облегчением перевела дух:
– А ну, Салвизар, пересчитай бревна в потолке.
Роженица по предыдущему опыту знала, для чего заставляют бревна пересчитывать. Попыталась исполнить приказ повитухи. Приподняла голову. Бревна отчего-то стали разбегаться. Но она все-таки принялась считать.
– Сколько?
– Восемь?
– С восемью сыновьями за столом сидеть будешь.
Одна из женщин вышла на улицу, с хитроватой улыбкой подошла к Оваку:
– С тебя причитается.
И вдруг сделалось светло и солнечно, горы и ущелья обрели положенные им краски, а прохожие из теней превратились в людей.
– В долгу не останусь.
Он чуть было не расцеловал женщину. Та вовремя улизнула от такого позорища. Уже ничего с него не надобно, только б головы не терял.
Хотела было войти в дом, да вдруг обернулась:
– Что расселся? Заберись на крышу да пальни из ружья три раза.
– Мальчик или девочка?
– Парень!
– Джан! Пальну, да еще как пальну!
Овак знал, что из ружья стреляют, когда рождается ребенок, для того чтоб изгнать злых духов из дому. Сам-то он в них не верил, но решил угодить Салвизар: «Заберусь на крышу, стану палить, Салвизар услышит выстрелы, догадается, что я сидел возле порога, ждал, и обрадуется».
Залез на крышу и тут же об этом пожалел: «Люди меня увидят, нехорошо это». Спустился, завернул за угол дома, достал наган и трижды выстрелил.
Село узнало, что родился человек.
На выстрел явился Даниэл:
– Кто, Овак, – мальчик или девочка?
– Какая там девочка, ты что! Мальчик!
– С тебя причитается.
Овак тут же позабыл, что когда-то ненавидел Даниэла. Обнялись, поцеловались. И Даниэл в свою очередь забыл, что хотел к Оваку подлизаться. В воображении его возникла Сатик и родила ему лучезарного младенца. Малыш просиял улыбкой и исчез. Даниэл искренне порадовался за Овака и ощутил в своем сердце сладость отцовства. Сбегал в лавку и вернулся с бутылкой водки и стаканом. Всем прохожим протягивал стакан:
– У нашего Овака сын родился, выпей и доброе слово скажи. Только попробуй не выпить...
Никто не отказался. Каждый пожелал младенцу счастья расти с отцом-матерью.
И в душе Овака плеснулось счастье.
Повитуха не спешила отрезать пуповину, чтоб новорожденный жил подольше. Помазала ему щечки кровью, чтоб краснощеким рос. В люльку теплой золы насыпала, уложила мальчика. Салвизар посмотрела на младенца – губки его сами собой искривились. И в груди Салвизар сладостно защемило. Она знала, что без этого существа только боль найдет пристанище в ее сердце. Великая нежность разлилась по всему ее телу, а по лицу улыбка, заключавшая в себе тайну. Она легонько коснулась его рукой. И в душе ее родились для него наитеплейшие слова.
Повитуха положила на таз с мукой кусок соли, покрутила трижды над головой роженицы и передала таз пробегавшему по улице босоногому пацану:
– Отнеси своим.
Буденовку Овака нахлобучила на голову Салвизар, чтоб злые духи подумали, будто в постели лежит мужчина, и отступили. Сняла со стены старую кобуру, сунула Салвизар под подушку:
– От нее мужичий дух идет. Пусть возле тебя будет.
С гор пригнали отару. Асатур отобрал своих овец, погнал домой.
«Двенадцать голов. И всех до одного заберут. У Овака сын родился. Надо ему в подарок барана дать. Не все ли равно, из чьего он хлева, – из моею ли, из его ли – все едино, из нашего общего».
И погнал барана к воротам Овака.
– Салвизар!
На оклик вышла повитуха.
– Я дитю его долю выделил. Пусть растет большой, да не одни, а с десятью братьями-сестрами.
Повитуха благословила его, загнала барана в хлев и поспешила к младенцу. Смочила пеленку в теплой воде, обтерла новорожденному попочку, ножки и зашептала:
– Иисус Христос, святой Оганес, святой Арегак, святой Лусняк, жизнь дитю этому продлите на долгие годы.
Велела Овака с улицы позвать. Передала новорожденного отцу:
– Пусть растет с отцом-матерью.
Нанизала на шампур три белых луковицы, вышла из дома и, обратив лицо к востоку, принялась молиться:
– Я, грешная, молю тебя, господи боже, дай дитю его долю от щедрот своих, от небес и земли пусть возьмет он то, что пожелает.
Вошла в комнату и осенила крестом углы:
– Да хранит тебя отчая десница.
Провела бутылкой круг, в центре которого находилась роженица, чтоб злые духи не могли проникнуть за заговоренную черту, не могли приблизиться к матери с младенцем.
Дала Салвизар хавиц[16]16
Хавиц – сытное мучное блюдо.
[Закрыть] и чай с медом.
Овак наблюдал за всем этим, но не вмешивался:
«Ежели им это по душе, пусть делают...»
Пришли женщины проведать Салвизар. Принесли ей разной снеди. Повитуха передавала младенца из рук в руки и брала угощение за отрезание пуповины. Кое-кто спрашивать стал: «А с пуповиной что сделали?» Повитуха ответила: «Под тониром зарыли, чтоб ребенок хозяйственным вырос».
Женщины это одобрили.
Лавочник Даниэл бахвалился на улице:
– У меня в лавке не меньше двадцати пуповин зарыто, чтоб дети к торговле пристрастились. Что там ни говори, а торговля штука хорошая, в ней вкус и смак жизни.
Кто-то из комсомольцев возразил:
– Хочешь – зарой пуповину, хочешь – на помойку выкинь, а ребенок будет повторять то, что рядом видит.
Даниэл с ним не согласился:
– Не говори зря. В Ереване у меня знакомый есть, так его дочку с улицы в дом не загонишь. Мать на чем свет стоит повитуху клянет, говорит: «Мне назло пуповину на улицу выкинула».
Стемнело. Заглохли голоса на улицах, тьма поглотила домишки. Даниэл запер дверь лавки изнутри, сомкнул деревянные ставни на окне, накинул железную скобу и принялся считать недельную выручку. Раздался стук в дверь.
– Кто там?
– Это я, Асатур!
Спрятал деньги в ящик, отпер дверь.
– Я тебе тут кое-что принес.
И кинул на прилавок ковер:
– Продаю.
Даниэл ухмыльнулся:
– Продаешь, чтоб коммуне не достался?
– Это уж мое дело.
– У меня с деньгами туго, Асатур.
– Потом отдашь.
– Да на что мне твой ковер?
«Зачем мне в это ввязываться? Узнают, пришьют еще дело. Будет нужен мне ковер, в Ереване куплю».
Как ни настаивал Асатур, как на расхваливал свой товар, как ни пытался уступить его по дешевке, осторожный Даниэл не поддался на уговоры. Асатур вздохнул, свернул ковер и ушел понурив голову.
Не успел он уйти, не успел Даниэл за ним дверь запереть, как явился Ваче:
– Давай с тобой столкуемся. За моего коня мне хорошую цену дают, ты сам знаешь, но я хочу тебе его продать. Прямо сегодня с этим и покончим.
– Да хоть даром отдавай, я все равно не возьму, мне конь не нужен.
– Ладно, тогда пусть этот разговор остается между нами.
Лунный луч скользнул по картине. Конь закачался, закачался – вот-вот сорвется с картины и примется скакать во дворе. И появятся Даниэл с Ваче. Вдруг раздался окрик:
– Сатик!
Это был голос мужа.
Сатик в ужасе натянула одеяло на голову: «Господи боже мой... Господи боже мой...» Стала заклинать, чтобы покойник исчез. Но он не исчезал.
Явился и засмеялся, как смеялся когда-то. Явился и обнял ее, как при жизни. И вдруг мигом представился ей холодным и страшным мертвецом. Сатик охватил ужас – хоть бы был рядышком кто-то сильный и спас ее от ночного бестелесного гостя.
– Сатик!
Голос был живой. Раздался он с крыши, из ердыка.
Глянула наверх, а там, в ердыке, голова. Сатик вздрогнула.
– Ты кто?
– Да не бойся, это я, Асатур. Дверь отвори.
«Может, его Даниэл подослал. А может, и сам он тут с ним – меня похитить хотят».
– Не отворю, свекрови дома нет.
– Послушай, девка, я ковер принес, хочу, чтоб вы у себя его подержали. Оставлю и тут же уйду.
– Все равно не отворю.
Так и не отперла. Асатур поворчал, позлился, да и ушел ни с чем.
Матушка Наргиз выплеснула на спинку младенцу полный кувшин воды и сказала:
– Ну, с богом!
А купая его дальше, заговорила с ним ласково:
– Это покой тебе даст, сладкий сон принесет. Во сне к тебе святой Саргис придет, и ты ему улыбнешься. Рукой коснется он тебя, ты сильным сделаешься, богатырем вырастешь. Ревой-коровой не будешь...
Она завернула младенца в новую простынку, уложила в новую кроватку. Зарыла возле порога золу и драное тряпье – от дурного глаза.
Явилась женщина, которая в свое время проклинала Салвизар, встала в дверях, послала мальчишку повитуху кликнуть.
– Ежели войду, Салвизар не осерчает?
Салвизар услыхала ее голос, ответила:
– Не приходи, пока ребенку сорок дней не исполнится. Я зла на тебя не держу, только все равно лучше не приходи.
Та домой к себе воротилась, хавиц приготовила, передала с соседкой. Салвизар к еде не притронулась. Зато матушка Наргиз с аппетитом принялась есть и громко нахваливать – хотела, чтоб зло ушло из сердца Салвизар, а то молоко прогоркнет.
Девчонка совсем еще маленькая была, а ее уже учили шерсть теребить, прясть, носки вязать. Ничего не поделаешь – в магазине только шелковые женские чулочки продаются. А мужчинам как же – босиком, что ли, ходить? Магазинные чулочки непрочные, тут же рвутся, их только весной носить можно, свекрови снохам не велят их зимой надевать. И каждая мать дочку свою наставляет: «Ноги в тепле держи...»
Матушка Наргиз подслеповата, носки у них в доме Сатик вяжет. Она опустила ноги в тонир, прикрыла колени шалью, и спицы мелькают в ее руках.
Матушка Наргиз вернулась с полным передником всякой снеди, а в кармане ее звенели медяки. Придирчиво оглядела комнату – кругом чисто. Искала, к чему бы придраться, – причина состояла в том, что больно уж долго невестушка ее одна в доме находилась, уже одно это злило старуху.
– Ты чего-нибудь состряпала, девка?
Сатик кивнула.
– Чай поставила?
– Ага.
– Сахар в доме есть?
– Не.
– Почему нету? Я ведь кусок в горшке припрятала.
Сноха пожала плечами – мол, не знаю.
Старуха сунула руку в горшок – пусто. Запамятовала, что сама сахар оттуда вынимала.
«Видать, мать ее навещала, она ее чаем поила, та наставляла дочку...»
Поворчала, достала из кармана деньги:
– Сходи сахару купи.
У снохи сердце екнуло: «В магазин к Даниэлу? Ни за что!»
– Ты сама сходи, мам.
Матушка Наргиз валилась с ног от усталости, а то бы, конечно, сноху не посылала, чтоб та лишний раз носу из дому не казала.
– Это тебя мать подучила. Стоит ей заявиться, тебя как подменяют.
Невестка поникла – не пойдешь, загрызет свекровь.
Взяла деньги, накинула шаль на голову, лицо наполовину закрыла и направилась в кооператив. Спросила сахару.
– Сахар у Даниэла...
Превозмогая себя, пошла в лавку. Завидев ее, Даниэл удивился, сердце его наполнилось нежностью.
– Сатик!
Сатик лицо еще больше прикрыла, деньги протянула:
– Дай сахару.
Даниэл взял деньги. Сатик отошла от прилавка, отвернулась к стене, понурилась. Даниэл подумал – а может, Сатик ради него пришла и сахар только предлог? И поспешил заговорить:
– Сатик, солнышко мое, это хорошо, что ты пришла. И не уходи от меня. Скажу председателю сельсовета, что мы с тобой поженились, и дело с концом.
Сатик безмолвно двинулась к двери, приостановилась и грустно сказала:
– Если ты мне сейчас же не взвесишь сахару, я уйду.
Даниэл понял, что она таки действительно уйдет. Принес головку сахара.
– Не бойся, не трону тебя сейчас. Подумай еще неделю. Но через неделю явлюсь – хоть кричи, село созывай, все равно тебя умыкну. Запомни, в среду, как стемнеет, я у ваших дверей буду.
Сатик быстро схватила сахар, натянула платок на лицо и вылетела из магазина, так ничего лавочнику не ответив.
Ежели показалась в селе бричка, стало быть, кому-то худо, из центра врача привезли. А может, просто прибыли важные лица. И тот и другой случай возбуждал в сельчанах любопытство. Новости прежде всего узнавали у возницы:
– С добром к нам прибыл?
– Председателя уездкома привез.
Нет сомнений, приехал он по делам коммуны. Посыльный из сельсовета принялся стучать в двери:
– Коммунисты, на собрание! Эй, партийное собрание!
Пока в доме собрание идет, уездкомовский возница у всех встречных спрашивает, кто мед продает, у кого можно хорошего масла купить, чей сыр лучший. Не упускает он случая поинтересоваться также вином и соленьями.
Возница за расспросами не заметил, как Бабо, прицепившись к колесу, пытается свернуть бричку с дороги. Мимо шел Ваче – спешил на собрание. Заметил проказы Бабо, подкрался сзади – и хлоп его по башке. Бабо обернулся, идиотским взглядом посмотрел на Ваче. И тут раздался женский крик:
– Бессовестный!..
Это крикнула Сатик. Она несла кувшин с водой, шла с родника. Опустила кувшин на землю, подбежала. Возница уже заметил, что происходит. Как замахнется кнутом! Удар пришелся по Сатик – она быстрее обняла Бабо, чем возница успел отвести кнут. Тут уж Ваче заорал на возницу:
– Ты что, сволочь, женщину бьешь? ..
Возница попытался оправдаться, пробормотал слова извинения. Сатик даже не взглянула ни на него, ни на Ваче. Подняла кувшин, схватила Бабо за руку и почти силой потащила его за собой.
В это время из конторы вышел Асатур. Он был весь взмыленный, – видать, духотища царила внутри. Достал из кармана пачку табаку, оторвал кусок газеты, сделал самокрутку. К нему подошел Ваче:
– Ну, что там?
– Коммуну утверждают.
И оба замолчали, пытаясь сообразить, что же уготовит им новое хозяйство.
Собрание закончилось. Председатель уездкома вышел из конторы под руку с Оваком.
– Друг, – сказал он ему, – вы хотели иметь коммуну, получайте. Но мой долг предупредить, что люди, привыкшие к частному хозяйству, не сразу сумеют отказаться от своей земли и крупного рогатого скота. Мне кажется, многие с этим смириться и приспособиться к новым условиям не смогут, начнутся внутренние разногласия. Вам следует об этом подумать.
– Частный сектор надо разбивать одним ударом, – ответил Овак. – Первые три-четыре года нам, ясное дело, будет нелегко, а потом мы к новым условиям приспособимся. Кусок земли, который вы оставляете крестьянину, развивает в нем тягу к частной собственности. Коммуна – единственное истинно коммунистическое хозяйство.
Председатель уездкома только плечами пожал:
– Ну, как знаете.
Потом он дал Оваку несколько деловых советов и уселся в бричку.
Ваче, выскочка, на прощание руку председателю протянул. Тот вежливо улыбнулся и, пожимая ему руку, пожелал успехов. Это вызвало зависть в Асатуре. Он тоже поспешил протянуть председателю руку.
Бричка тронулась. Но не успела она отъехать самую малость, как появился Бабо. Он вырвался от Сатик и затаил на возницу злобу. В бричку полетело подряд несколько булыжников. Крестьяне с шумом понеслись за Бабо, но того и след простыл. Бричка остановилась. Председатель уездкома вышел и изумленно спросил:
– Друзья мои, в чем дело? Неужели я здесь кого-то обидел?
Ваче, представив, как в один прекрасный день Бабо запустит здоровенный булыжник и в его башку, поспешил объяснить, что в селе есть сумасшедший мальчишка, который в кого угодно может камень кинуть, даже малышей не щадит.
– Если он сумасшедший, почему его в больницу не отправите? – И, подозвав председателя сельсовета, велел: – Тут же отправляйте мальчишку на лечение!
Председатель сельсовета поразмышлял-поразмышлял и пришел к выводу, что, ежели Бабо не изолировать, не упрятать в дурдом, про это непременно прознает председатель уездкома. А тот решит, что крестьяне села Арпы нарочно покрывают того, кто на него покушался.
Председатель сельсовета поручил двум крепким парням достать Бабо хоть из-под земли и привести в сельсовет.
Привели.
Парням было оказано весьма серьезное сопротивление: у одного рука была прокусана, у другого исцарапана физиономия. У Бабо же руки висели как плети. Видать, жестоко их ему выворачивали. Бабо заставили сесть на скамейку. Открыли окна – контору после собрания еще не проветривали. Председатель предложил нескольким крестьянам составить акт о действиях Бабо. Ваче написал отдельное заявление, в котором требовал, чтобы Бабо, как опасный элемент, был изолирован. Акт подписало человек пять-шесть. Все оправдывали себя тем, что делают мальчишке доброе дело, – в конце концов надо же выяснить, болен он или здоров.
В конторе держать Бабо было невозможно. А отправлять нынче же в Кешкенд было уже поздно. Отпустить – означало дать ему возможность смыться. После долгих раздумий председатель наконец нашел выход. Недалеко от конторы, возле церкви, стояла маленькая часовенка. В ней крестьяне обычно покойников на ночь оставляли. А в восемнадцатом году дашнаки превратили часовенку в тюрьму. Несколько суток провел в ней и сам председатель сельсовета вместе с еще двумя товарищами, большевиками. После двадцатого года часовенка опять стала служить моргом. Ребятишки чурались этой мрачной постройки из грубого неотесанного камня.
Председатель велел отвести Бабо в часовню и запереть там, посыльный должен был ключ хранить у себя и сообщить матери Бабо, чтоб та принесла мальчишке хлеба и воды.
Приказание было исполнено. Бабо уже не сопротивлялся – видно, боялся, что ему опять начнут выкручивать руки.
Посыльный явился к матери Бабо со словами:
– Сын твой спятил, стал кидать камнями в председателя уездкома. Мы его изолировали, чтоб он тебя ночью не придушил.
Мать его выслушала, уставилась на посыльного бессмысленным взглядом и вдруг, слабо вскрикнув, упала.
Пока на улице шумели и в дверную щель дневной свет проникал, Бабо еще терпел. Даже не пытался удрать. Руки у него страшно болели. Он прилепился к щелке, разглядывал прохожих и плакал. Слезы принесли ему облегчение, тело обмякло. Он расстелил пиджачок на холодном каменном полу и уснул. Разбудил его голос матери:
– Бабо-джан!..
Он в ответ ни звука. Кругом темень. Не окликни его мать, он бы и не определил, где дверь.
– Бабо-джан, родимый мой, что стряслось-то?
И опять нет ответа. Мать, вся в тревоге, крикнула:
– Да чтоб пусто вам было, изверги! Сына живьем в покойницкую упрятали! Бабо-джан, сыночек мой, голос подай, не боишься ли ты там?
До Бабо вроде бы только теперь дошло, что он в часовне. Сколько раз они с ребятами издали наблюдали, как с плачем и причитаниями выносили из часовни покойника. И тут его охватил ужас. Почудилось – стоит руку протянуть, коснешься гроба. Истошно закричал:








