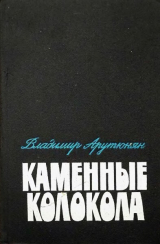
Текст книги "Каменные колокола"
Автор книги: Владимир Арутюнян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 30 страниц)
Слова эти ударились о темные ветхие стены и влились в людские души.
– Весь скот отымут. Надо что-то придумать. То, что на собрании наобещали, это все вранье...
Коммуну распустили. На последнем собрании председательствовал Ваче. Большую часть скота из загонов и хлевов коммуны сразу же передали колхозу «Землероб». Посуду, ковры, разную домашнюю утварь, которую не брал колхоз, было решено вернуть хозяевам. Решение правления было утверждено на общем собрании коммуны.
Даниэл пристрастился к чтению. Сядет у стены дома, поднесет газету к глазам и читает все подряд.
– Что пишут, Даниэл?
Даниэл изображает озабоченность:
– Положение сложное. В России бандитизм. Во власть стреляют.
Другому говорит:
– Коллективизацией многие недовольны. Взять Арпу. Сколько у нас народу не хотело в колхоз вступать? А ежели их силой заставлять, ничего хорошего из этого не выйдет. А государство продохнуть не дает – мол, немедленно вступайте.
А с третьим он уже во внешнюю политику ударяется:
– Скоро раскулачивать станут. Народ разбегаться начнет. А англичане только того и ждут...
– Ну и что будет?
– Откуда мне знать? Государство хитрит, впрямую ничего не скажет...
– Давай матушку Наргиз к себе возьмем, пусть с нами живет.
Сатик просияла, обняла Даниэла:
– Даниэл-джан...
И слов не нашла, чтоб благодарность свою ему выказать.
– Это я для тебя делаю, Сатик. Может, мне придется из дому надолго отлучиться – чтоб ты одна дома не сидела.
В тот же день вдвоем оправились к матушке Наргиз. Завидев сноху, старуха обрадовалась. А в сторону Даниэла и не глянула: «Этот черный пес зачем еще в мой дом заявился? По мне соскучился?»
Даниэл заговорил первым:
– Матушка Наргиз, не сердись, что я в твой дом пришел. И меня мать родила, и у меня душа есть. Скажем, не сын бы твой погиб, а я, и у меня осталась бы молодая жена, и твой сын ее умыкнул бы. Ты б его проклинала так, как меня проклинаешь?
Он говорил так прочувственно, что у старушки сердце дрогнуло.
– Бог меня наказал, милый, пусть твоя мать никогда такого горя, как у меня, не увидит.
– Каждый сын хочет возле себя мать иметь. А ты и мне и Сатик мать. Мы пришли за тобой – заберем тебя, живи с нами.
– Нет, – отрезала матушка Наргиз, – не пойду.
Сатик заплакала, упрашивать ее принялась.
– Нет, – упорствовала старушка, – в этих стенах я всегда с сыном разговариваю. Как мне его с собой в ваш дом забрать?
– Маре, – настаивал Даниэл, – пошли в церковь, усынови меня...
Старушка снова покачала головой:
– Нет, не пойду. Я тебя уже и раньше простила, а теперь уважать буду, по дом свой бросить не могу.
– Маре, а ежели меня по месяцу, по два дома не будет, как же ты Сатик и внучонка своего одних оставишь? Ты ж им обоим родная.
– А я к вам приду, по неделям жить буду, но дома моего меня не лишайте.
Даниэл больше ни на чем не настаивал, он цели своей добился.
В полночь Даниэл разбудил жену:
– Сатик, давай товар закапывать.
– Какой товар?
– Да то, что у нас есть. А то придут, заберут – как жить станем?
– Кто заберет, Даниэл-джан?
– Черт заберет! Не задавай вопросов. Слушай то, что говорю тебе. Ежели я в горы уйду, время от времени весточки о себе слать стану. Но ты об этом ни гу‑гу! Ясно?..
У Сатик тут же глаза наполнились слезами, она зарыдала и не сумела сказать в ответ ни слова.
Стояла ночь. Овак одиноко слонялся по улицам. Пустота улиц перетекала в душу. Он походил на генерала, который воодушевил солдат на бой, вел их в самое пекло сражения, провел через тысячи испытаний, ценой больших жертв отхватил высоту, еще не утихли возгласы победы, и вдруг приказ отступать.
«Но почему? Почему?»
На улице появился Бабо. Он стянул у кого-то кожаную плеть, обмотал ее металлический проволокой и шел теперь, лихо размахивая плетью над головой. И вдруг больно хлестнул Овака по лицу. Не придав этому значения, Бабо продолжал свой путь.
– Тьфу! Будь проклят твой отец! – разозлился Овак и набросился на Бабо, чтоб отнять плеть.
Тот увернулся, задал деру. Увидев, что Овак его уже не догонит, он остановился и заорал:
– А ты что на моем пути встал?
Овак рассвирепел вконец:
– Да я тебе все уши оборву!
Бабо нагнулся, поднял камень:
– А ну попробуй!
«Да он и впрямь помешанный. Не стоит с ним связываться», – подумал Овак и пошел дальше. Только отошел на несколько шагов, мимо уха его просвистел булыжник, запущенный Бабо...
Равенство...
Дни относятся друг к другу почтительно – не толкаются, не налезают друг на друга. Потому и у недель свой порядок. Потому и месяцы знают, когда им пробуждаться. Потому и век, прежде чем стукнуться со следующим, должен пройти путь в сто лет, не потеряв при этом ни одного своего мгновения.
Вот бы обществу такой же точности и порядка – крадет время у самого себя, а от бега столетий отстает.
Равенство... Шаг к шагу, ряд к ряду, в солнечном ритме. Равенство жило в душах, и люди пытались его на земле утвердить.
Весть о роспуске коммуны несказанно обрадовала кладовщика. Он позвал на склад братьев жены, запер дверь изнутри и стал запихивать в мешки материю, кожу. Все это велел тащить домой. Во второй заход они все трое волокли продукты и кое-какую утварь.
И вдруг наткнулись на Овака.
«Склад грабят», – смекнул тот. Он чуть не лопнул от ярости. Преградил им дорогу:
– Сволочь! Вор! Вот с какой душонкой ты в коммуну вступал!
У кладовщика посыпались из-под мышки цветастые тарелки и вдребезги разбились.
– Ты чего? Чего дерешься? – в испуге завопил кладовщик. – Ребята, сюда! Он меня душит...
На крик примчались братья его жены, побросали мешки. Один набросился на Овака сзади:
– Вот тебе, пес! Вот тебе, разрушитель храма!
И другой его ударил:
– Вот тебе, контра!
И кладовщик от них не отставал:
– На государство покушался, кулацкая бацилла? Вот тебе!..
Овак явился домой измордованный, окровавленный. Рухнул на тахту, закрыл лицо руками и зарыдал в голос. Салвизар в испуге подошла к нему:
– Овак!.. Овак-джан, что стряслось?..
– Коммуна у-мер-ла... – простонал Овак.
Бандиты
Перевод А. Тер-Акопян
Каждое утро отворялась дверь хлева, и стадо коров выходило на ухабистую улицу. Люди, которые раньше батрачили на Сого, по одному его окрику бежали вслед за стадом, теперь глядели на Сого как на осужденного. Сого не имел права голоса, не мог ни избирать, ни быть избранным, а вчерашний голодранец Еранос мог вдруг сделаться депутатом, вмешиваться в государственные дела и решать, как поступить с Сого.
Сого бесился. Громко ругался – а кого ругал, было неясно. Неважно – лишь бы люди знали: живет в Сого сила, подтверждающая, что он не ровня прочим. Все можно утратить, кроме чувства превосходства.
Он гнал стадо заливными лугами, следил за тем, чтоб скот не разбредался, и, опершись на палку, слушал мычание коров. В такие минуты казалось, что он ничего не ощущает, ни о чем не думает, что он безразличен ко всему, касающемуся белого света и человека. А на самом деле он уносился мысленно в Тавриз, где никогда не был, но где жил его сын Мурад.
Сого мечтал дать своему единственному сыну торговое образование – с тем, чтобы он открыл магазин в Тифлисе, Баку, Ереване. Однако сына прельстили военные погоны – погоны капитана. Долгое время он командовал в Кешкенде эскадроном. Однажды крестьяне поколотили его палками за то, что он бесстыдно волочился за сельскими девушками. К моменту прихода большевиков был он уже порядком изувечен. Оседлал коня и махнул в Тавриз. Два года назад один человек тайком переплыл Аракс и принес Сого весточку о сыне: раны его затянулись. Сого обрадовался. «Он связан с английской разведкой». Сого возликовал. «Мурад вернется, как только англичане сдержат слово – начнут войну». Сого засмеялся и заплакал, опять засмеялся и опять заплакал.
–
Через месяц тот же перебежчик вновь появился. От сына принес письмо. Мурад сообщал, что коллективизация в России вызвала недовольство. Англичане готовы встать на защиту раскулаченных. Скоро и сам он приедет домой, потому что есть у него в Армении дела. «Я все выдержу – пусть хоть каленым железом жгут, пусть хоть небо на голову рушат...»
Он тосковал по своим землям, подогревал чувство мести, помнил прежние дни.
«А ты есть, есть ты, господи...»
Он возвращался домой. Во дворе, под абрикосовым деревом, кто-то лежал. Это был Мисак, когда-то верный ему слуга!..
При большевиках Мисак от Сого отдалился, чтоб получить землю и денежную ссуду. Сого упрашивал Мисака вернуться в его дом, но тот проявил твердость. Съездил в Ереван, купил себе каракулевую папаху, сапоги со скрипом, костюм, воткнул кинжал за пояс, затем махнул в Кешкенд и принялся слоняться по улицам: жениться надумал. Разных девиц показывали ему, да ни одна не пришлась по душе. Захаживал он в винные лавки, попивал вино и клял на чем свет стоит Сого. Даже прикончить его грозился. Вызвали Мисака в милицию, отобрали кинжал и отпустили.
Сого все это знал, да терпел.
Кончились у Мисака деньги. Он снова ссуду попросил, на сей раз ему отказали. Потребовали, чтобы он прежний долг погасил. Мисак вымолил себе год отсрочки. Год пролетел, он стал уговаривать, чтоб еще на два года отсрочку ему дали. Но не уговорил. Из финотдела пришла бумага – выкладывай денежки. А откуда их взять-то? Папаха прохудилась, костюм потерся, сапоги давно уж перестали скрипеть, он продал их за бесценок сапожнику.
Разлегся под абрикосом в саду Сого и думает: «Ежели б не было у меня долгов, я б за словом в карман не полез, речь бы на собрании толкнул, у нас ведь страна бедняков. А я батрак...»
Мисак умел спекульнуть на том, что он неимущий. Да вот долг проклятый...
– Мисак!
Он вскочил, низко поклонился бывшему хозяину.
– Говорят, кто государственного долга не вернул, тому арест грозит. Это верно?
– Ведь и у меня долг, хозяин.
– А как тебе без долгов обойтись? У тебя за спиной теперь нет Сого, чтоб зерном тебя нагрузить – мол, забирай себе...
– Верно, хозяин, верно...
– Попаси-ка мое стадо. Потом поглядим – ежели прижимать станут, что-нибудь с твоим долгом придумаем.
– Вай, спаситель ты мой!..
Сого слова лишнего не скажет – осторожный. Налог взимают – пожалуйста. Насмехаются – молчит, терпит. Он вообще молчун. Днем ходит как неприкаянный вокруг своего дома, тут чего-нибудь сделает, там чего-нибудь приладит. А стоит прохожему объявиться, отворачивается, чтоб «здравствуй» не сказать и на «здравствуй» не ответить. Малыши, которые только-только начинают без матерей выходить на улицу, боятся Сого: только покажется – в сторону шарахаются. Сого детей не любит. Ненависть, которую питает к их отцам, и на детей перенес.
Однажды у него случайно палка из рук упала. Один мальчуган быстро поднял ее, протянул Сого в надежде услышать ласковые слова от этого мрачного деда. Любой бы сказал: «Молодец, расти большой». А Сого безразлично взял палку и продолжал путь, погруженный в собственные думы.
Часто его можно было видеть за околицей села – там стояло четыре новых дома, и Сого подолгу их разглядывал. Дома эти принадлежали четырем крестьянским семьям, которые в свое время все, от мала до велика, батрачили на Сого. После установления советской власти батраки получили землю, покинули Сого и первыми изъявили желание создать коллективное хозяйство. Совместными усилиями выстроили дома, объединили скот, и хозяйство их стало неуклонно расти. Когда Сого смотрел на эти дома, его каждый раз охватывало тягостное предчувствие. А глаза оставались внешне равнодушными, когда он дотошно пересчитывал коров и овец, выходящих из общего хлева, кур, кудахтавших во дворе, и все то, что в понимании крестьянина является богатством.
Прогулку за околицу села он предпринимал каждую неделю. Потом его можно было увидеть у подножия горы, возле полей бывших батраков. Придирчиво вглядывался, как вспахана земля, чем засеяна. Мысленно подсчитывал урожай и мрачно шел назад. Проходя мимо четырех новехоньких домов, останавливался, опершись на палку, и все смотрел, смотрел. У него сердце обрывалось, когда видел, что в колхозном стаде прибавилось коров или овец. Стало быть, еще одна-две семьи в колхоз подались. Бессловесные твари, скотина казалась ему повинной в том, что собственное его хозяйство рушится.
«Почему скот не собьется с пути, не станет добычей волков? Почему не затянет его трясина? – исходил ядом Сого. – Почему коршуны не летают над этими домами?..»
Представлял, как проклятья его сбываются: с грохотом рушатся дома, с диким мычанием дохнут коровы, раздается предсмертное блеянье овец, в воздухе реют пух и перья – гибнут куры. Все – женщины, мужчины, стар и мал – в панике, все рыдают, оплакивают свою участь.
В такие минуты Сого ликовал. Он опять чувствовал себя хозяином, богачом, с полей которого доносится унылый оровел[18]18
Оровел – песня пахаря.
[Закрыть] батраков.
А потом мираж рассеивался.
Сого осознавал, что проклятия его бессильны. Без конца проклинает, а колхозные поля зеленеют себе. Оружие необходимо, оружие!
«Ах, Мурад...»
Вот-вот придет весна. На пастбищах пока скудно, голодно. Не наесться там скоту, его в хлеву подкармливают. В горах снег, в теснинах – бестравье.
Сого быстро шагал к магазину. Увидал фундамент возле новых домов. Стало быть, еще одни дом вырастет. Сого постоял, посмотрел, проворчал себе под нос: «Хотел, чтоб прежние рухнули, а они новый строят?»
Показался Шаварш, председатель исполкома, – высокий, горбоносый, в солдатской шинели, на голове буденовка, на боку револьвер. Возле него шел, что-то доказывая, усач, тоже высокий, крепкого сложения, было ему, видно, уже под сорок.
– Не дам, и все, – говорил усач, – даже ягненка не дам. Весь скот зарежу...
– Дашь, – спокойно ответствовал Шаварш, – никуда не денешься. А не то раскулачим.
– Меня?
– Тебя.
– Да вы ко мне в дом войдите, взгляните...
«Это Левон, – узнал усача Сого, – партизан Левон... – Воздел руки к небу. – Есть ты, боже, есть! У них промеж собой дрязги. Пусть перегрызутся...»
Стемнело. Комаров тьма-тьмущая. Мисак, хлопнув себя по загривку, бежит к дому:
– Хозяин, раскулачивают!
Сого рассматривал обручи на бочке. Встряхнулся:
– Что ты мелешь?.. Кто кулак? Кого раскулачивают?
– Тсс! Услышат.
А Сого уже вскипел. Двинул бочку ногой так, что она покатилась. Заорал:
– Да говори же толком!
– Хозяин, только чтоб не знали, что я тебе это сообщил... Быстро прячь все, что имеешь. Из Эривани человек приехал, заседают, решают, кого кулаком объявить. Давай я часть твоего добра у себя спрячу. Мне за это ничего не надо, хозяин дорогой, только долг мой покрой. А добро свое, как только скажешь, я тебе верну.
– Ха-ха! Мисак Сого выручать вздумал! Ступай восвояси. Нету у меня добра...
Сого всю ночь не смыкал глаз. Припомнил все свое имущество, что, когда и почем оно куплено. Даже пустые бочки не забыл, утварь и... хлеб. У Сого еще амбар полон зерна.
А утром его вызвали в исполком. Он нарочно оделся победнее: в ветхую чуху, трехи, которые сроду не носил. Председатель предложил ему сесть. Он остался стоять.
– Вызвали... Зачем?
– Сого, продай лишнее зерно государству.
«Стало быть, государству туго...»
– А у меня ни зернышка нет.
– Есть.
– Бог свидетель. – Достал из нагрудного кармана бумагу, положил на стол председателю: – Откуда быть хлебу при таких налогах? Вон сколько отдал и еще столько же должен. Откуда взять? Уменьшили б налоги...
– Налоги не я назначаю.
– В твоей власти – захочешь, уменьшишь.
– Налог утвержден в соответствии с имуществом. Не отдашь, мы тебя раскулачим...
«Стало быть, и налог плати, и остальное зерно за копейки отдавай, чтоб они жрали да меня хаяли. Не дам! Ни зернышка! Пусть друг друга жрут».
Ему навстречу шел отец Агван. Одно время он был священником, имел приход. Потом стал дьяконом. От тех дней сохранилась у него черная ряса – ей, казалось, сносу нет. Отцу Агвану было уже около девяти десятков лет – мрачный старец, вспыльчивый. Он ленился на приветствие ответить, но ему не лень было пешим ходом добираться до кочевьев Абаны, чтоб раздобыть свежее масло и мацун. Если умирал кто-то из сельчан, он тут же появлялся на кладбище и с аппетитом поедал поминальное угощение. Женщины ахали: дети мрут, а отец Агван все живехонек. Никакие извивы судьбы, никакие случайности его не тронули. Люди судачили: «И не упадет ни разу, старый хрыч, ногу себе не сломает». Почтение к старикам, неистребимое у кешкендцев, отца Агвана не касалось. И он это знал, и все это знали. Чем больше его проклинали, тем здоровее он становился. Советскую власть отец Агван невзлюбил сразу, но скрывал это, мыслями своими ни с кем не делился.
Сого поздоровался, отец Агван кивнул в ответ.
– Не знаешь, Агван, кто в селе зерно продает?
– Не знаю.
– Узнай, скажи мне. Купить хочу. Вдвойне заплачу.
– На что тебе?
– Сожгу.
Отец Агван пристально посмотрел на Сого, словно пытаясь убедиться, не спятил ли тот. Потом, ни слова не сказав, собрался идти дальше.
– Постой, Агван, я тебе монету дам.
Отец Агван приостановился, взял монету.
– Я тебе и десять дам... И двадцать... И тридцать.
Возле дома у Сого имелись бурты. Он трудился весь лень, освобождая их от картофеля. А вечером пришел Мисак:
– Хозяин, в горах люди объявились.
– Плевать!
– Они из Тавриза.
Сого оставил работу:
– А что ж ко мне не зашли?
– Боятся, что схватят. Говорят: пусть хлеб уничтожит.
– Ну, это старо. А нового ничего не сказали?
– Нет, хозяин.
Теперь уж они вдвоем всю ночь вкалывали, засыпая зерно в бурты. Сверху зерно землей завалили. Поутру Мисак снова в горы отравился. Сого подметал двор, когда пришли двое из сельсовета.
– Сого, излишки зерна ты обязан продать государству.
– А что, государство с голоду помрет, ежели у Сого хлеба не будет?
– И без тебя выживет, но зерно ты все-таки продать обязан.
– Нету у меня ни грамма. Не верите – в амбар взгляните!
Работники сельсовета, ни слова больше не сказав, удалились. Сого горшок разбил вдребезги: от ворот поворот, и чтоб больше носу не казали!
Но сердце ему подсказывало: тихо ушли, да шумно вернутся.
В селах Араратской долины началось раскулачивание. Многих выслали неизвестно куда. В Кешкенде состоялось собрание, и говорили на нем только о продаже зерна государству Сого же чувствовал, что рано или поздно заговорят и о раскулачивании. И день этот настал.
– Рас-ку-ла-чивают!..
Первым в списке значился Сого.
Сого узнал об этом еще до того, как закончилось собрание. «Раз той ночью не пришли, на рассвете придут, чтоб застать скотину в хлеву, а хозяина дома».
Сого решительно пошел в сарай, прихватив с собой ржавый кинжал, точило, и долго там натачивал. Кинжал блестел все ярче. Коснешься лезвия – обожжет. Сого про себя порадовался.
Наточил кинжал, вытер его травой, небрежно отшвырнул точило, кинжал спрятал под чуху и вышел во двор. Послонялся вокруг дома, бесцельно поднялся на крышу, посмотрел на поля, на горы, спустился, вошел в дом, прошелся по всем комнатам, потом выглянул в амбар, поглядел на раскиданную там и сям утварь, паласы. Опять зашел в дом, в свою комнату, уселся на тахту, подложил под спину подушку и застыл.
Тут пришел Мисак.
– Новости с гор есть? – спросил его Сого.
– Нет, хозяин. Мне снова бумага пришла, долг требуют.
– Мисак, на рассвете будь за мостом, возле родника. Жди меня, я тебе двести рублей принесу. Ну иди.
Уже стемнело, а Сого все не двигался. Даже скот в хлев не загнал – оставил это жене. Сидя в комнате, он размышлял: «Каждый год обкладывают меня налогами, тянут мое добро. Сегодня им пятьдесят коров подавай, а завтра двести. Зерно им давай, деньги им давай... Да почему?»
И дом заполнился голосами, донесшимися из Тавриза в Кешкенд: «Не давай!.. Не давай!..» Он потрогал кинжал. «Будь я не один... Хоть пяток нас был бы, десяток... армия... Ах, Мурад...»
Перед мысленным взором Сого прошли те, кого он прикончил бы первыми. Сого машинально крутанул кинжал и взвесил его на ладони.
Дверь со скрипом отворилась, и на пороге показалась его старуха в потертом фартуке, с лампой в руках.
– Послушай, я ведь уже стара, как мне с такой работой поспевать?
– Коров подоила? – сурово прервал ее Сого.
– Подоила.
– Овец в хлев загнала?
– Загнала.
– Дай мне лампу, а сама иди спи.
В старухе шевельнулось недоброе предчувствие. Она с ужасом глядела в глаза Сого, полные сдерживаемой ярости.
– Что я тебе велел?
Старуха растерянно дошла до двери, приостановилась.
– Иди!
Она пошла.
А немного погодя вышел в ту же дверь и Сого. Сердце его бешено колотилось. Он в своем собственном доме двигался, как вор. Будто вот-вот повыскакивают из темных углов люди и с криком на него навалятся. Он быстро вошел в хлев, замкнул дверь. Коровы, привязанные по две возле яслей, жевали сено, равнодушные к Сого и ко всему прочему на свете. А в другой стороне просторного хлева, за дощатыми воротами, лежали овцы. Сого встал посреди хлева, пристально оглядел коров, повернулся, посмотрел на овец. Глядел Сого на свое добро, будто на самого себя.
«Эх, началась бы война...» И так ему сделалось приятно от этой мысли, будто выпил он стакан шербета.
Вспомнил, как совсем недавно шла война, страшная война. Чего только не делал Сого – деньги тратил, хлеб раздавал гарнизону Кешкенда, людей вооружал, но голытьба все-таки победила, установила свою власть. Теперь у них земля, дом за домом растет, и все эти дома у дома Сого солнце отнимают. Множатся их стада, и стада эти затопчут стадо Сого. Орут: «Равенство!» – и тащат свое добро в общий котел.
«Ничегошеньки им не дам – ни цыпленка, ни теленка, ни козленка».
Сого казалось, что, если он своим добром не поделится, колхоз погибнет. Своя рубашка ближе к телу – над своим-то дрожишь, чтоб не пропало, не то что над общим...
«Мне не достанется, так и вам не достанется...»
Он вошел в овчарню. Схватил первого попавшегося барана за ноги, поднял его, грохнул спиной оземь и зарезал. С тем же остервенением он повалил второго, третьего, десятого... И ринулся к коровам. По хлеву поплыл запах крови. Коровы замычали, забеспокоились, затрясли головами, пытались разорвать веревки, которыми были привязаны к яслям. Но Сого ничего не видел, ничего не слышал. В ушах стоял звон, руки тряслись. Казалось, он ворвался в чужой хлев и, за что-то мстя хозяину, принялся резать скот, опасаясь, что вот-вот сюда ворвутся люди, застигнут его на месте преступления и учинят расправу.
Вдруг словно очнулся, взглянул на свои жертвы и в ужасе отбросил кинжал. В этот миг угасла, безвозвратно исчезла его энергия, сила. Он сразу обмяк, постарел.
Неверным шагом попятился назад, не отрывая глаз от зарезанного скота. Вышел во двор и быстро запер дверь. А потом еще долго стоял перед хлевом, пытаясь осмыслить, что же такое он сделал. Ему хотелось открыть дверь, будто забыл он там нечто очень дорогое, и вместе с тем было страшно.
Уже светало. Мутно прорисовывались очертания дома. Сого вошел в спальню, разбудил жену:
– Жена! Проснись! Дом мой рухнул. Я коров и овец своих зарезал!..
И плечи его заходили ходуном в рыданиях.
Потом он открыл сундук, достал шкатулку, вынул из нее шкатулочку поменьше, отсыпал в нагрудный карман немного золотых монет, пошел зарыл шкатулку в сарае и вернулся в дом.
Старуха сидела на тахте окаменевшая.
– Я закопал шкатулку в сарае, в правом углу. Сверху навозом завалил. Ежели со мной что случится, Мураду место укажешь.
Старуха подняла голову. Сого взял ее руку, поднес к губам, поцеловал.
– Я тебя много обижал. Ты мне и женой была, и матерью, и сестрой, и светлые, и темные дни со мной делила.
– Хочешь оставить меня?..
– Жди... Жди, покуда не ворочусь. Я и Мурада с собой приведу.
И ушел. Возле двери обернулся, поглядел. У старухи в два ручья сбегали по морщинам слезы.
– Ну, я пошел...
Старуха не проронила ни слова.
– Храни, господи, мой очаг...
Старуха не пошевелилась, не встала. Не проводила его в путь – окаменела.
Старик всю ночь глаз не сомкнул: слухи о бандитах были все тревожнее, а Шаварш поехал по селам, в нет как нет его.
Старику мерещились темные дороги. В пещерах прячутся вооруженные разбойники.
«Сого ушел в горы, теперь кровь польется...»
В висках топот копыт, тело зябнет и страдает от какой-то тупой боли.
«Хоть бы кто-нибудь заглянул ко мне, что ли...»
Он уже третий месяц был прикован к постели. Пилил во дворе дрова, и вдруг ему как стрельнет в поясницу – вытянулся, будто аршин проглотил, и закричал от боли. Его на руках в дом внесли, и с тех пор он с постели не вставал: паралич разбил.
«Сого ушел в горы...»
Конский топот продолжал стучать в виске. Возле него сидела добрая девушка с волосами цвета спелой пшеницы. Не девушка – огонь. В Кешкенде злословили: мол, она ради Шаварша старика выхаживает. А он это мимо ушей пропускал.
– Я читаю, вы слушаете? «Был высокий столб, а на нем гнездо. Там жили два аиста. Мать-аистиха перевязала травинками лапки птенцам, чтоб те не вывалились из гнезда. А они крылышками хлопают, готовятся к полету...»
– Много тех, что в горы ушли?
– Я только про Сого знаю.
– Раз Сого в горы ушел, значит, будет кровь литься.
Молния на мгновение озарила комнату. Загремел гром. Небо извещало о наступлении весны.
– Вы верите сказке про золотой город?
– Верю. Верю в то, что фасоль будет с орех, а ячмень с шиповник. Люди сочинили, чтобы достичь этого...
Кто-то кашлянул в коридоре. Потом в комнату вошел человек в синей шинели. Девушка растерялась:
– Пап, ты?..
Отец искоса взглянул на нее, снял мокрую шапку, отряхнул ее.
– Хороший хозяин собаку в такую погоду не выгонит...
– Какие новости, Симон?
– Пастухи отказываются в горы идти, хотя им дали оружие, а твой сын храбрец из храбрецов.
– Он никогда своей храбростью не хвастался, – сказала девушка.
– Что ты отцу перечишь? А еще учительница! Забываешь, что образование-то я тебе дал. Не корю за то, что сюда ходишь, но ведь и мать твоя хворает...
Девушка поставила лампу возле старика, на табурет – чтоб он мог до нее дотянуться.
Дочь ушла. Отец почувствовал неловкость.
– Назик моя – сердечная девушка, заботливая. Но ведь сплетников полно – судачат. Вот и приходится ей выговаривать...
– А ты не верь болтовне.
– Хочешь верь, хочешь не верь, а людям рот не заткнешь. Дочку замуж никто не возьмет.
– Замолчи. Сам ведь знаешь, что они любят друг друга.
– Так это у каждого первая любовь – соседская девушка. Сейчас еще милуются, а там, глядишь, и поссорились. Вам-то что – у вас сын председатель исполкома. Скажете ему – другой, что ли, не найдешь? А у нас-то не так...
– Это правда, что в комсомольца Назара стреляли? – перевел старик разговор на другую тему.
– Правда. Его недавно с гор в село перенесли... Он церковь разрушил. Я хоть и неверующий, но церкви рушить не дело...
«Назара убили... Террор начинается...»
Симон ушел. Старик долго думал о Назик, Симоне, комсомольце Назаре и о разрушенной церкви. Нет, не за церковь бандиты с ним расправились – Назар был одним из активистов колхозного движения.
Дверь вдруг с таким стуком распахнулась, что старик вздрогнул. Ему почудилось, что рухнули разом все окрестные скалы, а люди, прятавшиеся в пещерах, с криком, шумом принялись спасаться.
«Сого ушел в горы... А ночью ему ничего не стоит в село спуститься...»
Старику захотелось погасить лампу, и тут раздался оклик из коридора:
– Эй! Что – тут хозяев нет? Где председатель исполкома, почему не выходит?
Все замерло на белом свете – ни шороха, ни движения.
И вдруг тишина ожила – раздался шум шагов в комнате больного. Вошел человек – широкоплечий, злой, с густыми усами, в потертой шинели нараспашку, на боку револьвер. Из грубого солдатского сапога торчала рукоять финки. Не обращая внимания на старика, протопал по всем комнатам – людей искал. Не найдя, подошел к постели:
– Ты один, старый хрыч? И дверь не заперта. Бандитов не боишься? Умные люди теперь на семь запоров запираются.
– Левон, ты?
Старик узнал пришельца, и к нему возвратилось дыхание. Заговорил:
– Откуда ты?
– С неба. Не ждал? – Снял с табурета лампу, переставил на шкаф, сел, сдвинул шапку на затылок. – Подумал, я теперь с бандитами?
Старик вдруг заметил, что у него в крови руки. Закричал:
– Ты убил человека!..
Левон взглянул на свои руки. Видно, и сам впервые заметил на них пятна крови. С болью покачал головой:
– Я себя убил, собственными руками. Ух, как безжалостно я себя убивал! Зарезал семьдесят овец и пять коров за раз. Как я только это выдержал?
– Да в тебе теперь твоего ничего не осталось! – закричал старик. – Ты мертв, человек!..
– Мертв?.. Это ты верно сказал. Помер, да похоронить забыли. Если б кто пережил с мое, теперь бы, как бешеный пес, всех перекусал.
И замолк. Как очумелый уставился в одну точку. Потом сжал голову ладонями и зарыдал, зарыдал. Старик побоялся лишним словом подлить масла в огонь. Левон же распахнул на груди рубаху, обнажил грудь и ударил в грудь кулаком:
– Я тебя спрашиваю – было тут сердце или нет?
– Было, – вздохнул старик. – Когда-то тут было доброе сердце.
– Значит, было? – Он застегнул рубаху. – А больше нет... Выкрали... Друг мои выкрал! Помнишь, старик, что я имел? Две руки, нож да наган. И сражался за эту власть. Тогда героем считался. А потом как это из героя в кулака превратился? Припомни-ка двадцать первый год. Государство ссудило мне деньги. Купил я двух овец и одну корову. Землю дали – сплошной камень. Я на карачках земли туда наносил, камень засыпал, чтоб потом уж хлеб вырастить. Тогда Шаварш мне другом был. В дом мой заходил, стакан подымал за то, чтоб дом мой был полная чаша, чтоб добро мое удвоилось. Да я не из тех, кто на двойном остановится. За десять лет впятеро добро мое выросло. Кому от этого вред? А? Овец берег, они мне всё двойни приносили. Землю холил, она мне хлеб рожала. А в колхоз записываться не по душе мне было. Как мне на одном поле работать с лодырем Ераносом и бездельником Сегбосом? Уже десять лет этой власти, а они всё хвастаются, что неимущие, что батраки. Есть у них стыд и совесть? Как же вышло, что я, в поте лица трудясь, сделался кулаком, а они, бездельничая, стали угодными власти? Я помру, старик, от стыда помру!
– Так что ж, по-твоему, из-за двух лодырей колхозов не создавать? – сказал старик. – Ты честный человек? Так первым бы вступил в колхоз, организовал дело, приструнил бездельников. Кто не работает, тот не ест.
– Я, старик, не умею зря время терять. Ни свет ни заря уже вкалываю. Некогда мне с ераносами да сегбосами возиться. Рядом со мной труженик мне под стать должен быть... Ты с душой моей поговори, старик. У меня в глазах черно – я скот свой зарезал! Жену в кровь измордовал! Пришел с Шаваршем свести счеты, а потом податься куда глаза глядят...
– Ты что, спятил? – вскрикнул старик. – Товарищ в товарища чтоб стрелял?
– Товарищ!.. Сказанул!.. Да товарищ разве ж своего честного товарища в кулаки запишет, чтоб потом раскулачивать? Что я – на чужом горбу добро наживал? Я – да кулак? Нажитое за десять лет в один день по ветру пущено. Теперь я опомнился, старик, – отличаю врага от друга. – И направился к двери. – Скажи сыну – пусть в горах на меня не нарвется.








