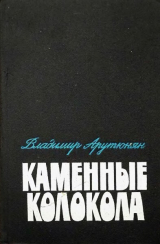
Текст книги "Каменные колокола"
Автор книги: Владимир Арутюнян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
– Ма!..
Кинулся к двери, принялся колотить в нее, скрестись.
– Откройте!.. Мне страшно!.. Мне страшно!..
Мать всей своей силой налегала на дверь, да куда там.
В это самое время в конторе колхоза «Землероб» происходило общее собрание коммуны. Выбирали состав правления. Асатур взял слово, предложил кандидатуру Овака, Овак – Ваче, Ваче – Асатура. Как все и предполагали, председателем стал Овак. Он вышел из конторы, окруженный членами правления. До слуха его донесся душераздирающий крик:
– Сюда, люди! Только поглядите, что они сделали?..
Овак ускорил шаг, понял, в чем дело, и поразился, как мог председатель сельсовета поступить так жестоко с больным мальчишкой.
– Бабо, отойди в сторонку, я дверь сейчас вышибу, – крикнул Овак и со всей силы ударил в дверь ногой. Отскочила одна доска. Он принялся выбивать и остальные.
Как птаха, заключенная в клетку и обретшая внезапно свободу, вылетел Бабо из часовни и мгновенно скрылся во мраке. Мать поспешила за ним с криком:
– Бабо!.. Бабо-джан!..
Ваче направился домой, опустив голову, – будто не в курсе происшедшего.
Бабо с ревом добежал до дома матушки Наргиз.
Схватился за ручку двери – дверь была на запоре. Принялся колотить в нее кулаками:
– Сатик!.. Сатик!..
Сатик отворила. Бабо влетел в дом, забрался на тахту, съежился.
– Что стряслось, Бабо-джан?
– Меня избили, в часовне заперли... А там покойник...
Уж кто-кто, а матушка Наргиз прекрасно знала, что часовня пуста.
– Это тебе померещилось, Бабо-джан. Не бойся, видишь, мы рядом. Воды попей... Сатик, воды принеси.
Сатик дала ему воды. Бабо опорожнил кружку с жадностью. Потом матушка Наргиз вобрала его ладони в свои и принялась молиться:
– Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое...
Семь раз повторила «Отче наш», увидала, что страх мальчишку покинул, и предложила лечь спать.
В полночь в дверь снова постучали. Это была мать Бабо, глаза заплаканные:
– Бабо у вас нету?
– Тут он, спит.
Она вошла, грохнулась на колени и так, на коленях, рыдая и причитая, подползла к сыну.
Бабо увидал мать, приподнялся, сел и тоже зарыдал.
На другой день матушка Наргиз встретила председателя сельсовета на улице.
– Изверг, – сказала она ему, – до чего мать с сыном довел. Наверху бог есть, он тебе этого не простит.
А вечером столкнулась с Ваче. Выпалила ему в лицо:
– Чтоб дверь твоя черной сделалась! Разрушитель моего дома!..
Распахните дверь шире!
Равенство, которого чаяли пять тысяч лет, явилось наконец!
Из века в век искали его те, что внизу, и душили те, что наверху.
А теперь вот наверху говорят: отворяйте двери, встречайте его! А внизу каждый свою дверь открывает настолько, насколько хочет.
Солнце равномерно льет свой свет на землю. Сколько лугам и полям достается, столько же и людям. Кто хочет, пользуется им. Кто не хочет, в тень прячется.
Солнце следует как дар принимать. Оно одаряет землю, земля же – людей. Так отчего у тебя должно быть много земли, стало быть, и солнца много, а у меня мало? Надо все поделить поровну!
Нет, нет и нет!.. Не сажайте землю в клетку, не оскорбляйте солнце!
– Пошли работать. Кто больше наработает, больше и получит. А лодырь пусть голодный ходит.
– Как идти-то?
– Дружными рядами, нога в ногу.
– Это почему ты будешь ходить в белом, а я в черном? Мы оба давай в зеленом ходить станем! Почему ты смеяться будешь, а я плакать? Поделим поровну радость и горе. Вместе смеяться начнем, вместе плакать.
– Как делить-то, если у меня дома свои заботы, у тебя свои, у меня крыша худая да низкая, у тебя высокая да новая?
– Заботы-хлопоты у нас у всех единые станут. Вместе их одолевать начнем.
– У меня пятеро ребятишек, у тебя один. Мне и ночью вкалывать приходится. Как же мои слезы с твоим смехом смешать?
– Объединим участки, общим будет урожай. Прибавим пятерых твоих ребятишек к одному моему, будет у нас шестеро общих. А когда мы состаримся, твои пятеро да мой один нас содержать станут.
Равенство!.. Двери перед ним пошире распахните!..
Овак свою дверь настежь распахнул:
– Начнем с моего дома. Всё выносите!
Отворили дверь хлева. Вывели одну корову, восемь овец. Асатур, глядя на скот, подумал: «Зря я ему двух баранов не подарил – ведь все равно наше общее».
Открыли амбар, наполнили мешки мукой. Наткнулись на крупу в горшке:
– А с этим что делать?
– Забирайте! – велел Овак.
Салвизар укуталась в одеяло, подсела к окошку, наблюдала. Сердце у нее кровью обливалось, будто от него кусок оторвали. Взяла на руки дитя, словно пытаясь им восполнить исчезающее и вызвать в людях жалость.
«Не все забирайте-то, видите, какой я крохотный...»
Нашли стакан рису:
– А это куда?
– Берите! – сказал Овак.
– Ну а ссыпать куда?
– И амбар разбирайте, выстроим новый, большой, в нем и будем все хранить.
Асатур в панике кинулся к дому.
«Все уносят, да еще как уносят, у Овака ничего не осталось». Свернул ковер, попытался было его в хлеву спрятать, да не нашел подходящего места. Потом сообразил: постелил ковер на голую тахту, а сверху прикрыл рогожей.
«Ежели принуждать станут, отдам, конечно. А так не дам. Интересно, Ваче свой ковер сдаст? Он себе на уме – спрячет, чтоб другие на нем не сидели. Кто бы нашелся да сказал ему: «У тебя ковер вон какой большой, не то что у других! Что ж ты его не сдаешь в коммуну?»
У Ваче все забрали, только конь остался.
– Ваче, а конь?
Ваче же будто и не слышит.
– Ваче!
– Не мешайте дело делать.
– Так ведь спрашиваем же...
– Говорю, не мешайте!.. Нашли время для вопросов.
Один из членов коммуны выделил для общих вещей просторную комнату. Принялись всё переносить в нее.
Кладовщик давал указания:
– Это направо. Это налево... Поосторожнее, не разбейте! ..
Со лба Ваче стекал пот. Карандаш в его руке быстро бегал взад-вперед по бумаге.
– Из дома Исаянцев полтора кило сырого мяса.
Кладовщик не принимает:
– Его не сохранить, назад несите.
Ваче возражает:
– Порядок есть порядок, ты обязан принять.
– Ваче, а с конем как же быть? – подает голос кто-то сбоку.
Тут Ваче обрушивается на кладовщика:
– Тебе ведь велено мясо принимать! Мы, в конце концов, члены правления! Раз сказано – должно быть сделано!
Бабо слоняется по улицам. При виде подозрительного человека прячется. С удивлением наблюдает за тем, чем заняты люди. Суматоха ему по душе. Вон один, скрючившись в три погибели, хлеб волочет, чтобы сдать на склад. Бабо преграждает ему путь:
– Постой.
Отломил кусок, сунул себе в карман. Владелец хлеба не сердится, зато Бабо говорит ему сердито:
– Это теперь не только твой хлеб – коммуны!
Другой сыр несет.
– Постой.
Отламывает себе здоровый кусище. Крестьянин злится:
– А ну клади на место!
– Тебе-то что сделается? Это я у коммуны беру. Коммуна потребует вернуть, тогда верну.
Лопает Бабо хлеб с сыром, шатается по улицам.
До поздней ночи носили люди продукты из дому на склад. Иногда взъедались на кладовщика:
– Ты почему канистру с керосином поставил в мой медный таз?
И другой тут же встревал:
– Гляди, парень, не поколоти моих цветастых тарелок...
Он пытается втолковать владельцу таза, что фарфоровые тарелки сдал, – неужто после этого его канистра с керосином недостойна стоять в медном тазу? Подумаешь, великое дело!
И от женских глаз ничто не ускользнет.
– Что ж вы крупу-то мою с крупой Цагик Асоянц смешали? Моя чистенькая, перебранная, мытая, зернышко к зернышку.
– Мою муку отдельно кладите, она из отборной пшеницы.
Когда скот в хлев загоняли, пастух хлестнул хворостиной одну корову. И тут же его схватила за ворот рука хозяина и – хлоп!
– Что – больно? А скотине, думаешь, не больно?
Пастух принялся шуметь. Хозяин коровы стал оправдываться:
– Моя корова и вон та бок о бок шли, дошли до дверей хлева, моя вперед двинулась, та сама спешит первой войти. Да разве ж моя пустит? Ну, и застряли обе в дверях. А этот хворостиной мою хлещет. За что мою-то? Почему не другую?
Кромешная тьма, ни зги не видать, а во тьме голос тишины: «Больше нету... Нету больше...»
В амбаре безмолвие пустоты. И в сердце Асатура опустел уголок, заполнился мраком.
Темень. А во тьме – дневные голоса.
«Ваче, а конь?»
«Что ж ты канистру с керосином в мой медный таз ставишь?»
«У меня зернышко к зернышку».
«Что – больно?»
Голоса вспыхивали и гасли в сознании Асатура. Он лежал на толстом матрасе, набитом овечьей шерстью, укрывшись стареньким одеялом, и чувствовал отсутствие ковра под матрасом. Припомнил, как вел телка в Шарур на продажу, поторговался-поторговался, да и купил ковер на вырученные деньги. И столько в доме было радости!
Из хлева донесся какой-то звук.
«Там же пусто, в хлеву-то... А, голуби!..»
Голуби свили гнездо под потолком хлева. Голубей не забирали. А впрочем, куда их ни забирай, они все равно к хозяину вернутся.
У него возникло неодолимое желание заглянуть в хлев. На мгновение даже почудилось, будто все дневные происшествия – мираж. Осторожным шагом двинулся к хлеву. В темноте наступил на какую-то тварь. По визгу понял, что это его собственный пес.
«Вай, Мурик-джан, и как это я про тебя забыл?»
Так ведь пес же весь день не кормленный!
«Сторожить нечего, – стало быть, и собака на что?.. Вай, Мурик-джан».
Асатур понимал, что пес умоляет накормить его. Но чем?.. Асатур так разволновался, что прижал голову пса к своей груди.
«Больше тонир разжигать не станем, Мурик-джан. Нету у нас больше ни овец, ни пеструшек... И хлеб печь больше не будем. Так чего ж я тебе дать могу, Мурик-джан?..»
Открыл дверь.
– Иди, живи сам по себе.
Вошел в хлев, лампу зажег, оглядел все вокруг. Ясли пустые. Небось грустит его скотина в чужом-то хлеву. Сел на ясли, задумался: «Что лучше – колхоз или коммуна? У колхозников в хлеву скотина. Хозяин ее и погладит, и накормит. Председатель уездкома верно сказал, что мы к скоту привычные, а тут одним махом дом опустошили. Вай, Овак, Овак...»
Не стерпел, пошел к общему хлеву, разбудил пастуха:
– Где мою коровушку привязал?
– Отдельно ее привязали. Она как бешеная, всех коров перебодала.
Асатур и удивился, и радость испытал:
– Ничего, браток, это же скотина, она без понятия. Только не бей ее, христом-богом прошу.
Вернулся домой – пес в дверь скребется. Завидев хозяина, принялся возле ног виться, руки лизать.
– Не хочешь уходить, Мурик-джан? А что ж нам делать-то? Ну ладно, оставайся. Завтра из коммуны принесу тебе остатки еды.
Минута к минуте – ровнехонько, нога в ногу. И рассвет, и закат – все в едином ритме, в общем порядке.
Раз! – стройсь!
Два! – смирно!
Три! – шагом марш!
Всегда труден первый шаг, так же как первое слово.
Как ни пытался Овак научить людей шагать в ногу стройными рядами, ничего из этого не вышло. Нашел выход:
– Кто в армии служил, вперед встаньте.
Вперед встать поспешили многие. И не только те, кто в армии служили, но и члены правления. Овак не решился одернуть их при народе. Велел построиться по росту. В хвосте колонны оказались подростки.
– Шагом ма-а-арш!
Первый шаг...
Один с левой ноги пошел, другой с правой. У одного шаг широкий, другой семенит. Ряды качнулись, покривились, однако первый шаг все-таки был сделан.
Первый шаг...
Коммуна двинулась вперед... Привет тебе, грядущее!.. Привет вам, равные в будущем души!..
Обернитесь-ка. Вот те, что на нашем беспокойном земном шаре сделали первый шаг равенства.
Мы зашагали. Было трудно. Мы кровь проливали во имя первого шага. Пали сотни и тысячи. Души и тела наши были в ранах. Земля горела под нашими ногами. Но мы не знали, как внести в ряды единый ритм. И все-таки шли...
Коммуна двинулась.
Овак шагал сбоку.
– Раз – правой! Два – левой!..
Кто-то трехом своим врезался в чужой красный носок. Хозяин носка чуть опустил лопату, которую нес на плече. Мужик в трехах испуганно отшатнулся. Крестьянин в сапогах крепко впечатывал в землю шаг, чтоб послышнее было. А у впереди идущего шнурок, стягивающий шерстяной носок, развязался. Сапог вдруг как придавит шнурок, он и оторвался, носок сполз по самую щиколотку.
Но коммуна продолжала идти. Слышите:
– Правой! Правой! Ровнее! Ровнее!
Крестьяне колхоза «Землероб» собрались, глазеют. Ну а для ребятишек великое удовольствие бежать вслед за колонной, подражая старшим. Среди зевак кто смеется, кто советы дает:
– Мисак, правой, правой!..
– Аракел, лопату повыше держи, а то человека поранишь!
Смех.
Бабо откуда-то вырос. Как врежет ногой под зад последнему коммунару и тут же смылся. Встал в сторонку и грозит кулаком тому же человеку. Гогот. Из рядов коммуны понеслась ругань.
– Что стряслось? – спросил Овак.
Но зеваки не сказали, в чем дело, – больно уж потешное зрелище.
– Равнение, товарищи, равнение!
Люди пытаются идти в ногу, приноровиться к шагу соседа. Кто шагал с левой, стал шагать с правой, а кто с правой – с левой. И опять – каша.
Сузится улица, и колонна вытягивается, а если на пути ямы-колдобины, она и вообще разрушается. Кому-то пятки отдавили, кому-то лопатой по башке заехали. Озлились друг на друга, но стерпели, рядов не покинули.
– Равнение, товарищи, равнение!
До чего же четок журавлиный клин. А коммуна только-только в стаю собирается. Непривычны люди к строю, каждый шагает не в склад, не в лад.
– Равнение держать! Держать равнение!
Было три отдельных участка, а нынче их объединили. Когда-то этот кусок земли принадлежал вой тому сельчанину. Сельчанин волнуется:
– Получше, получше копайте, ребята!
Да, любовь к земле, тоска по ней.
Асатур не вышел на работу. Ему было поручено хлеб работникам принести.
В селе тесто замесили, тонир разожгли, хлеб пекут.
Лавочник Даниэл глядит из-под ладони на дым. Из двадцати пяти домов дым валить больше не будет, на двадцать пять покупателей у него теперь меньше. На двадцать пять дворов уменьшилось для Даниэла село.
«Вай, чтоб пусто было тому, кто эту коммуну выдумал! А нам что – жить не надо? Наше ремесло – торговля, так дайте ж нам торговать по-людски!»
Даниэл непроизвольно пошел на дым. Каково же было его изумление, когда среди женщин, пекущих хлеб, он увидел матушку Наргиз и Сатик, раскатывающую тесто. Перед глазами у него поплыли зелено-красные круги.
«Нынче хлеб пеки, завтра траву коси, послезавтра... Это все мерзавец Ваче придумал...»
Даниэл, разъяренный, стал прохаживаться взад-вперед, пытаясь перехватить взгляд Сатик и дать ей понять, что он ненавидит коммуну и ревнует к ней Сатик. Но Сатик на него так и не взглянула. В это время его другая женщина заметила и громко крикнула:
– Иди, Даниэл, бери пару свежих лавашей!
Даниэл удалился, не произнеся ни слова в ответ.
В полдень коммунары пришли в село на обед. Столы расставили у дверей склада – недалеко от кухни. Их уставили тарелками с пловом. Тридцать работников – тридцать тарелок. На запах еды собрались собаки со всего села. Ребятишки пытались отогнать их камнями. Женщины прислуживали мужьям. Каждая следила за тем, чтоб ее муженек поплотнее пообедал. Женщины поедят отдельно, детишки отдельно.
Один сельчанин продал два года назад свой виноград и купил фарфоровые тарелки в цветочек. А ему плов в глиняной миске подали. Так он к еде даже не притронулся. Отстранил тарелку, поднялся. Глянул на стол, увидал свои тарелки. Одна из его тарелок досталась человеку, у которого, кроме глиняных горшков, и посуды-то никакой сроду не было. Владелец тарелок разозлился, пунцовый сделался, ему захотелось расколотить свою миску вдребезги. И громко сказал в сторону кухни:
– Я когда-нибудь дома в глиняной миске ел? Никогда. От обеда отказываюсь.
Овак поднялся, мысленно выругался, а вслух сказал:
– Равенство есть равенство. Завтра все мы будем есть из одинаковых тарелок. Садись, брат, ешь. Считай, что в дом твой пришли гости и ты им подал лучшие тарелки.
Женщины сели отдельно, подальше от мужских глаз. Каждая чадо свое усадила рядышком. А те из ребят, которые заявили: «Не хочу есть», получили затрещину. Ясное дело почему: до вечера их уже никто больше не накормит.
В сумерках в горах завыл ветер, потом сорвался с гор и понесся вдоль по сельским улицам. Кто был во дворе, вбежал в дом. А кому требовалось из дому выйти, тот поостерегся. Необычный был ветер: голова его драконья в село вползла, а хвост меж макушками гор извивался.
Овак поспешил в дом войти. Устал смертельно, но прожитым днем был доволен. Работал он со всеми наравне – руководители коммуны были обязаны трудиться наравне со всеми. Только при чрезвычайных обстоятельствах руководитель имел право оставить черную работу и заняться другим делом.
Салвизар встретила его слезами:
– Безжалостный! В доме нет ни кусочка сахара, чтоб хоть чаю попить.
Овак снимал пиджак, да так и застыл. Ведь за делами коммуны он о родной жене, о родном дите забыл!
– А что ж, тебе из столовой коммуны так ничего и не принесли?
– Принесли. Только мне не нужно было то, что они принесли.
Овак снял пиджак, повесил на гвоздь, сел, погрузился в мечты о будущем. Родились дети, но уже в больнице коммуны. Врач советы дает, чем кормить больного, а кухня тут же это готовит и обслуживает больных. Для ребятишек есть ясли, детский сад. И нет у коммунаров поводов для огорчений. Все улыбаются, все довольны жизнью. Это так отчетливо нарисовалось в воображении Овака, что он встал, подошел к жене, погладил ее по голове:
– Потерпи еще чуток, Салвизар. Вот увидишь: откроем больницу, будет кухня матери и ребенка, ясли, детский сад. Пойми, родная, коммуна – честное хозяйство. Пока трудно, а потом...
– Я-то поняла, – невесело прервала его жена. – А ты ребенка спроси – он понял?
Овак замолчал. Вышел на улицу, ходил-ходил, нашел выход.
– Салвизар, где моя гимнастерка?
– Которая?
– Новая.
– В сундуке погляди.
Сундук Салвизар принесла в приданое. В нем она хранила разную мелочь, напоминающую ей о детстве и юности: фотокарточки близких, подарки, несколько писем Овака и кружева, которые она вязала для своего приданого и которые так и не пригодились. Там же хранила и наган мужа, когда Овак не брал его с собой.
Овак вытянул сундук из-под тахты, открыл, достал гимнастерку с блестящими медными пуговицами, краше которых Овак и представить себе не мог. Опять затолкнул сундук под тахту, свернул гимнастерку, сунул ее под мышку и двинулся к двери.
– Ты куда это гимнастерку понес? – остановила его Салвизар.
– Отдам Даниэлу, кое-чего для дома за нее возьму.
– Не смей! – закричала жена, спрыгнула с кровати, выхватила у него гимнастерку. – Не дам! Не нужен мне сахар! Да я помру, ежели его в твоей одежке увижу!
Подложила гимнастерку под голову младенцу.
Овак безмолвно сел на табурет. Глянул на малыша, на жену и вдруг таким счастливым себя почувствовал. Представил, что у него четверо сыновей. Который от кори помер, в синей одежде. Которого змея ужалила, плечистый, бесстрашный. Тот, что утонул, – умненький, смешливый. И младший лепетун. Четверо мужчин! Потом трое на миг исчезли. А младший вырос, возмужал, сделался видным парнем. Тут появились и старшие трое, встали рядом с ним. Но теперь почему-то младший оказался самым старшим. А сам он, Овак, старенький-старенький...
Из-за темной черты сверкнул серебряный лучик. Миллионы лет скользил он в пространстве, всего перевидал на своем веку, но тоску по воде так и не утолил. Нырнул в волны и рассмеялся.
А река понесла его, понесла...
Осел хлебнул речной воды вместе с лучом, поднял вверх морду и заревел, будто вопрошая, куда же подевался блик. Только небу-то откуда знать?..
Осел потихоньку пошел по узкой прибрежной стежке.
Навстречу ему двигались два силуэта – мужчина и женщина.
– Там человек? – прошептала женщина.
– Нет, осел, – тихо ответил ей мужчина.
– Помилуй нас, господи Исусе, – вздохнула женщина.
И опять луч блеснул на реке. Тысячи людей глядят, а ведь в голову не придет вопрос: откуда быть лучу, если нет на небе ни солнца, ни луны? Впрочем, может быть, свет этот исходит из такой невероятной дали, что ему пришлось проделать путь в миллионы лет? Но сейчас главное не это, а осел, перекрывший тропку, – мужчина ударил его ногой. Это означало: ты мешаешь нам в этом просторнейшем мире. И осел его лягнул, что, видимо, означало: у меня нет ни малейшего намерения спешить. Ослам действительно торопиться некуда. Если бы они умели удивляться, удивились бы в первую очередь людской спешке – куда спешат? зачем? И при этом еще ослам от них покоя нет. Мужчина оказался упрямым – толкнул осла к реке. Но и осел был упрям – он оттолкнул мужчину к горе. Человек чуть было не завопил в ярости:
– Эй, ишак, дай пройти, пока нас люди не увидали!
Сноха матушки Наргиз семенила вслед за ним с узелком под мышкой – в одном глазу смех, в другом слезы, – удирала из дома свекрови. Если бы кто-то вдруг крикнул: «Наргиз идет!» – она на месте бы померла, в камень обратилась. А на другой день сельчане обнаружили бы ее каменное изваяние. Если сейчас вдруг оступится и в реку с обрыва полетит – даже не вскрикнет: почтет это наказанием за содеянные грехи.
Ступала осторожно, будто боялась, что земля завопит. Добраться б скорее, а уж там – дверь на замок, и все. И ни падений в реку, ни бабки Наргиз. Перед миром же пусть Даниэл ответ держит. Он и есть теперь у нее один на всем свете.
Ослу же будто шлея под хвост попала: не дает пройти, и все тут. Вдруг Даниэла осенило: оседлать его надо! Уперся обеими руками ослу в хребет. Осел почувствовал, что сейчас его оседлают, крутанулся, путь и приоткрылся.
Теперь Даниэл держал Сатик под руку, шли быстро. Подошли к лавке. Даниэл выбрал угол потемнее:
– Постой тут, пока отопру.
Отпер дверь, позвал ее рукой. Сатик вкатилась в лавку. Даниэл запер наружную дверь, в темноте обнял Сатик.
– Солнышко мое... Дай мне твою руку...
Взял ее вместе с узелком на руки. В темноте душа путь ему освещала. Пронес Сатик через всю лавку в свою комнату и дверь комнаты запер тоже.
Ослик, без седла и узды, все еще стоял на тропе возле речки, обмахиваясь хвостом, убивая время. А луч света все еще пробивался к речной ряби из далеких миров.
Матушку Наргиз позвали в один из верхних домов еще до заката. Хозяйка занемогла, жар никак не спадал. Муж оседлал коня и прямиком в Кешкенд, за доктором. А матушка Наргиз задержалась в сиделках до полуночи. Мокрое полотенце на грудь ей клала – не помогало. Отвар шиповника дала – не полегчало. Сырой картофель очистила, кружочками на лоб больной уложила, тело мукой натерла. И снова все без толку. В полночь доктор прибыл. Сделал уколы, больная уснула. Матушка Наргиз узнала, что опасности большой нет, благословила больную и воротилась домой. Увидала на двери замок.
«Видать, кто-то за мной приходил, кликнул, а сноха не отозвалась. Гость решил, что дом пустой, и замок навесил. А то куда ей в такой поздний час деваться?»
Отперла дверь, вошла. В сенях тускло горела лампа, свисавшая со стояка. Сатик обычно оставляла лампу зажженной, когда свекровь допоздна задерживалась, – чтобы старуха ни на что не наткнулась, не растянулась. Матушка Наргиз сняла со стояка лампу, вошла с нею в комнату. Никого. Даже постель не расстелена.
– Сатик!..
Молчание.
Опустила лампу на тахту, подошла к двери хлева:
– Сатик!..
Опять тишина. Сердце ее тревожно Застучало.
– Сатик!..
«Наверно, наскучило ей одной сидеть, а может, страшно стало, она и пошла к соседям... Бесстыжая, что тебе у соседей в такой час делать?»
Соседи – одни за другими – прошли перед мысленным взором старухи. Припомнила парней в этих семьях и взъелась.
– Бесстыжая! – крикнула громко, чтоб сноха услыхала, если войдет. – Что ты у соседей позабыла, шлендра?!
И вдруг старухе почудилось, что лампа перестала свет испускать. Старуха поспешила вон из темноты, засеменила на улицу, стала стучать к соседям. Открыли ей не сразу, нехотя – час-то поздний.
– Сноха моя не у вас?
Удивились – за полночь, а ее дома нет?
– Нет, не видали.
К другим соседям постучала.
– У нас ее нету.
Третьих через ердык расспрашивать стала.
– Нет, к нам не заходила.
Сердце старухи разрывалось от тревоги. «Может, по воду пошла и что-нибудь стряслось?»
Дошла до родника – ни души. Спустилась на берег реки – пусто. «А вдруг ее течением унесло?»
– Сатик!..
«Ежели б что-нибудь стряслось, увидали бы, сказали».
Но тревога стала еще больше, она была сильнее ревности. Старуха привязалась к снохе, жизни без нее себе не представляла.
Пошла домой. «Она, наверное, уже вернулась».
Нет, не вернулась.
И все вещи вдруг утратили смысл. Остались голые стены, сосуд пустоты. Сноха – единственный человек, привязывавший ее к жизни. Старое сердце съежилось в грудной клетке, не в силах вынести непривычной безлюдности комнаты.
Снова вышла на улицу. Каждое дерево, каждый столб походили на человека. Каждая тень рождала надежду, каждую тень спросила она:
– Сатик?..
Нет, не было Сатик.
«Может, к родителям отправилась? – Старуха ударила себя по коленям. – Что я натворила! Случалось, ворчу на нее. А какая свекровь на сноху не ворчит? Что мое ворчанье-то – ветер! Поругаю ее и тут же отойду. – Вспомнила мать Сатик: – Пришла, увела!.. Молодую сбить с толку – пустяковое дело...»
И она закачалась стоя.
Рассветало. Матушка Наргиз, измученная поисками, слезами, в бессилии опустилась на тахту. Прикрыла колени одеялом, скрестила руки на груди – сидела без слез, покачиваясь взад-вперед.
«Пусть вернется – ни словом ее не укорю. Святой Саргис, святой Карапет, пусть язык у меня отсохнет, ежели ворчать примусь...»
Сквозь ердык виднелись звезды. Не звезды, а целые созвездия! Хоть бы уж рассвело поскорее. Рассвет – а невестушки нет дома.
Нет, не нужно рассвета.
«Лишь бы воротилась. Пусть умру, если после этого скажу ей: встань оттуда, сядь сюда. Она ведь молоденькая. Черт меня дернул ворчать на нее. Вот она и обиделась...»
Звезды погасли.
Рассвело.
Поутру Даниэл отправился к председателю сельсовета. Попросил его выйти, во всем сознался. Председатель после долгих раздумий заключил:
– Это не преступление. Закон позволяет вам жениться по взаимному согласию. Старуху жаль, да ничего не поделаешь, ведь и сноху жалко. Приходите в сельсовет, зарегистрирую ваш брак.
Даниэла попросил, чтобы во избежание лишних встреч Сатик неделю не показывалась на люди. Оформление брака отложили на неделю. Даниэл ушел от него довольный.
Жена председателя сразу после его ухода полюбопытствовала:
– Что он за товар тебе такой принес, не посовестился ни свет ни заря тебя будить? Может, что-то запрещенное. Гляди не влипни...
– Он сноху Наргиз умыкнул.
– Даниэл?
– Ага.
– Сатик?
– Ага.
– Разнесчастная Наргиз, зачем ей жить-то теперь?
Жил в селе один поганец. И хромотой, и слепотой, и немотой его казнить мало. Отовсюду, из всех углов, он сплетни собирал, на свой аршин мерил, а уж потом кроил-корежил как хотел и в почтовый ящик опускал. Если кто-нибудь ему за что-то выговорит, он в глаза смолчит, но зато потом примется кляузы строчить на обидчика. Чужим успехам завидовал он до зуда в теле. Честных людей оговаривал – мол, такие-сякие, кого хочешь ни за понюшку табаку продадут. И скольких запятнал!
Выл он гнусный, как гиена: алчен, ленив, неблагодарен. Одним словом, доносчик. Его мальчишка задрал соседской девчонке подол и хохотать принялся. Та в слезы, родителям пожаловалась. Мать ее рассвирепела, отлупила в своем доме мальчишку и сказала: «Каковы отец с матерью, таково и отродье». В тот же день направляется мерзавец к председателю сельсовета и заявляет, что те-то и те-то муж с женой поносят советскую власть.
А в сельсовете он услыхал о том, что сбежала сноха матушки Наргиз.
Пошел домой, чтоб настрочить донос в Ереван, и вдруг встретил матушку Наргиз. Идет, руки скрещены на груди, вся сама не своя.
– Наргиз, – произнес он таким тоном, будто они с детства дружат, в песочек вместе играли, – как же это Даниэл у тебя из-под носа сноху-то твою умыкнул? Вай, Даниэл, Даниэл... Ну ничего, сноха твоя в хорошие руки попала...
Матушка Наргиз подняла на него глаза и долго их не опускала. Ноги у нее подкосились. Она села и принялась сгребать вокруг себя землю и сыпать себе на голову. И вдруг пальцы перестали ее слушаться, глаза закатились, она лишилась сознания.
К ней люди подошли, а кляузник поспешил смыться, пробормотав:
– Прикидывается.
Старушку привели в чувство.
– Поплачь, матушка Наргиз, поплачь.
А у старушки и слез нет. Одна пожилая женщина, которая в селе покойников обмывала, умела заставить плакать женщин в скорби. Она садилась возле покойника и принималась так рыдать, что все к ней невольно присоединялись. Сейчас ее искусство было как нельзя более кстати. Она присела возле матушки Наргиз и прошептала ей на ухо:
– Я плакать начну, а ты подхватывай.
И вдруг как запричитает:
– Черный-черный ми-и-ир!.. Надежду мою у меня о‑о-о-отнял!.. Плачь, Наргиз. Сын твой до сего дня жив был, нынче по-о-омер!.. Сегодня мы его похорони‑и-или!.. Плачь, Наргиз, пла-а-ачь!..
Грудь матушки Наргиз заходила ходуном, и она заплакала грустно, певуче. Плакальщица ей сперва чуть-чуть подвывала, как говорится, «Вводила ее в русло», а потом поднялась и сказала:
– Ну, теперь уж ничего не случится. Пусть выплачется, ей полегчает, а потом уж домой ее отведем.
Но матушка Наргиз домой идти не собиралась. Она направилась в лавку Даниэла. Женщины двинулись рядом. Шла она с проклятьями и причитаниями. Дверь была заперта изнутри. Постучала:
– Даниэл, ты мой дом разрушил, так пусть и твой рухнет! Чтоб радости тебе не видать! А тебе, Сатик, чтоб без потомства век прожить... От тоски по дитю своему помереть, как я помираю!.. Даниэл, сколько всего я от снохи своей вытерпела, столько и мать твоя вытерпит!..
Пытались утихомирить, успокоить старушку, она не успокаивалась. От лавки свернула к кладбищу. Упала на могилу сына, плакала, рыдала, била себя, смерти у бога молила...
Взяли ее под руки, повели домой.
Председатель селькоопа отправился в Ереван. Поехал налегке, а вернулся с грузом. Столько товаров для хозяйственных нужд привез, что негде их хранить было, пришлось комнату снять.
Даниэл вместе с другими зеваками следил за разгрузкой. Он впервые вышел в село после похищения Сатик. Ни на кого внимания не обращал, людей пытался сторониться. Тем паче что был озабочен. Количество закупленного селькоопом товара его бы из себя не вывело, если бы он не увидал фабричных пакетов и специальных мешков с новыми ярлыками и наклейками. Стало быть, на государственную основу поставлено производство этих товаров – и частнику скоро хана!
Даниэл постоял немного и пошел в лавку.
В дверь с силой заколотили. Даниэл со дня похищения Сатик не торговал – закрыл на время лавку. Чуть ли не круглые сутки дверь лавки была заперта изнутри. Ни один покупатель так дерзко никогда в дверь не стучал.
– Открой! – раздался голос.
– Я не торгую! – предчувствуя недоброе, отозвался Даниэл.
– Мы от имени закона!
Перед законом дверь либо настежь распахивают, либо поплотнее ее запирают. Да что толку в запорах – для закона нет замков с секретом. Даниэл прекрасно знал, что благодарность выражать закон ему не станет.








