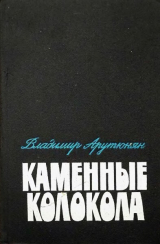
Текст книги "Каменные колокола"
Автор книги: Владимир Арутюнян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)
«Выхода нет – дверь не отопру, через крышу проникнут».
Послал Сатик во внутреннюю комнату, отпер дверь.
На пороге стояли председатель сельсовета и еще двое.
– Во чудак! – слукавил Даниэл. – Что ж ты себя не назвал? Разве перед тобой я стал бы двери запирать?
– Если причина будет, запрешь, – важно заявил председатель сельсовета и, покачав головой, посмотрел вокруг.
Прежде всего ему бросился в глаза бак с керосином.
– Даниэл, исключи керосин из продажи, – сказал он, легонько постукивая по баку носком сапога. Словно хотел по звуку определить – полный бак, не полный?
– Исключу, – скрепя сердце согласился Даниэл.
Председатель подошел к мешку с сахаром:
– Откуда сахар?
– Купил.
– Купил по дешевке, продаешь втридорога. Убирай отсюда.
Даниэл не нашел ответа.
– Одним словом, ты имеешь право продавать только те товары, которые сам производишь.
Такого удара Даниэл не ожидал.
– Я ничего не произвожу. Я только посредник между производителем и покупателем, – сухо, с трудом сдерживая гнев, произнес Даниэл.
Председатель увидал, какое впечатление на лавочника произвели его слова, и решил показать ему свои полномочия.
– Спокойно! Я тебе не Наргиз, так что голоса не повышай. Между производителем и покупателем есть один-единственный посредник: сельский кооператив. До нынешнего времени имелся частный производитель, и потому частная торговля дозволялась. А теперь нет частного производителя. Так что между кем и кем ты посредник? Между государством и колхозником? Не выйдет. Наше государство не такое нищее, чтобы делать частника посредником. Так что закрывай свою лавочку.
Последние слова прозвучали приказом. Потом председатель подтащил пустой ящик к прилавку, сел. Двое – те, что сопровождали председателя, – последовали его примеру. Даниэл, сдерживая обиду и ярость, запер дверь изнутри. Он не намеревался портить отношения с председателем, тем более что брак его еще не был зарегистрирован. Кто знает, как все завтра может обернуться.
Даниэл заставил себя смягчиться.
– Неси, поглядим, что у тебя есть, – не отводя взгляда от лавочника, сказал председатель.
– Сейчас принесу. – Даниэл подошел к двери комнаты и крикнул: – Сатик, неси вино, закуски!..
Председатель растерялся:
– Чудак! Речь идет о списке товаров.
– Черт с ними, с товарами. Хочешь, все спишем.
– Мне был сигнал из уездкома, что ты подрываешь государственную торговлю. Нет, брат, хлеб твой я есть не стану.
– Лавку закрою, но сердце для нашей дружбы не закрою. Вы в дом вошли, а мы с Сатик только что поженились. Так неужто за это по стаканчику не опрокинем? Лавку я нынче не закрою, потом закрою. Но нам из села бежать некуда, друг друга видеть придется.
Даниэл говорил убедительно. Уполномоченные переглянулись между собой, потом посмотрели на председателя. Тот был обезоружен.
– Верно говоришь, Даниэл. По обычаю, мы должны были прийти поздравить вас, но, поскольку брак твой ты еще не оформил, мы медлили. Ведь мы живем по закону...
Сатик тут же принесла на стол вино, хлеб, вареное мясо. Она стеснялась смотреть людям в глаза и выглядела очень растерянной.
Поели, вина попили. И председатель сказал:
– А теперь давай товар твой посмотрим.
Опорожнили ящики. То, чем разрешено было торговать, отложили в сторону. А то, чем запрещено, уполномоченные старательно нагромоздили в середине лавки, будто готовились стрелять по этим товарам, как по мишени. У Даниэла сердце кровью обливалось, но на лице при этом он изображал такую счастливую улыбку, будто люди исполняют его желание. Затем председатель сам составил список товаров, которыми дозволено торговать, поставил под списком круглую сельсоветскую печать и повесил листок на стену. Этим он как бы запрещал покупателям брать все, что вне этого списка. Тут уж Даниэл не стерпел.
– Ну как же быть? – сказал он убито. – Что мне делать с оставшимся товаром? Позвольте его распродать, и все.
– Чтоб тебе с ним не мучиться, мы его просто конфискуем? И тебе спокойнее, и нам, – предложил председатель.
– Я государство не обманывал, чтоб мой товар конфисковывали. Во время нэпа мне разрешили торговать, я и торговал. Теперь не разрешают, я и не буду. Но ведь я закупил товары до этого постановления, – значит, имею право их распродать. А если б закупил после постановления, тогда конфисковывайте, ваше право.
Председатель понял, что Даниэл крепкий орешек. Но и сам он был не лыком шит.
– А может, до постановления ты закупил целый эшелон товара, так что – и при коммунизме его продавать будешь? Закон есть закон. И точка. Приходите в сельсовет, узаконю ваш брак, а то старуха жаловаться начнет, разлучить вас придется.
Всю ночь не спал Даниэл, а на рассвете все-таки вспомнил, что нужно идти в сельсовет. Оживился. На миг даже позабыл об обрушившейся на голову беде. Стал торопить Сатик. Оделись, вышли на улицу. Сатик вся сжалась, платок на самые брови натянула, от Даниэла ни на шаг.
В конторе она села на скамейку у стены и опустила голову. Председатель задал ей вопрос:
– Ты по своей воле пошла к Даниэлу или он тебя силой увел?
«Вчера пил за наше здоровье, а сегодня провокациями занимается», – подумал Даниэл.
– Это я для проформы спрашиваю, – словно прочитав его мысли, тихо добавил председатель. – Это моя обязанность.
Сатик не ответила. Председатель повторил свой вопрос, на сей раз присовокупив:
– Если ты не по доброй воле ушла к нему, Даниэла следует судить.
Сатик кивнула.
– Значит, по доброй воле?
– Да.
Регистрация состоялась.
– Ну, идите, больше никто не имеет права вас оговаривать, а если станут, обращайтесь ко мне, я их приструню.
Вернувшись домой, Сатик несколько раз перечитала брачное свидетельство, спрятала его в сундук, заперла на замок и подумала: «А что сейчас маре[17]17
Маре – мама (нареч.).
[Закрыть] делает?»
Ей хотелось сходить к матушке Наргиз, попросить прощения, сказать: мол, я молодая, не устояла, да и страшно бывало одной. Если бы матушка Наргиз простила ее, она почувствовала бы себя вполне счастливой.
Выбрав удобный случай, она зазвала к себе соседку:
– Как маре живет? Хоть бы весточка какая от нее...
– А что тебе до маре? – насупилась соседка. – Если б родная была тебе, так возле б тебя находилась.
Сатик заплакала.
– Мы ведь столько лет под одной крышей жили.
Соседка смягчилась:
– После тебя исхудала вконец, кожа да кости. Заперлась в четырех стенах, слезы льет.
Сатик зарыдала, слезы принесли облегчение.
– Возьми сахару, передай ей, только не говори, что от меня.
«Дело доброе, – подумала соседка, – за это в селе только похвалят».
– Трудно, что ли, – передам.
Сатик дала ей пять голов сахару. Вернувшись домой, соседка тут же две головы припрятала, а остальные расколола так, что еще пять голов получилось. И понесла сахар матушке Наргиз.
– Ослепнуть твоей снохе, но тебя она все-таки не забывает. На, матушка, чаю попьешь.
– Лучше б она меня сперва отравила, а потом уж сбегала, – простонала старуха.
Коммуна пыталась шагать в ногу.
– Раз – правой!.. Два – левой!..
Матушка Наргиз уселась на придорожный камень, грустно смотрит на коммунаров и различает в их рядах своего сына.
Господь с тобой, матушка Наргиз. Только в мыслях он твоих, а рядом с тобой нету сына.
Разве ж в молодые годы помышляла она о такой старости? Все предрекали ей десятерых сыновей. Поступь у нее была уверенная, взгляд сияющий, солнечный. Однажды попытался ее было потискать соседский паренек.
Она схватила его в охапку и так стиснула, что у того кости захрустели.
– Ступай и знай свое место, – сказала она ему.
Он ушел как побитый и даже имени ее не решался больше вслух произносить.
Матушка Наргиз была родом из села Пахлеван. Что в ней осталось-то от прежней стати да силы? Зачем жить?
Из труб дым валит, на улицах голоса звенят. А ее очаг погас, и голоса она не подает.
– Правой!.. Правой!.. Держать равнение!..
Никто не подойдет, не спросит: матушка Наргиз, зачем ты из коммуны ушла?
«А что у меня есть-то, чтоб к их добру добавить? Раньше надеялась, что сноха работать станет. На что коммуне лишний рот?»
Вспомнилось, скольким из теперешних молодых она пуповину отрезала, купала, молитву читала, обратив лицо на восток. «Что ж ты меня, господи, не вознаградишь?..»
Эх, старая, разве люди думают о том, кто отрезал их пуповину? Разве кто-нибудь брался содержать старушку, которая ему пуповину отрезала?
Один сын у нее был, целый мир у нее был, и чувствовала она себя матерью мира. А какая мать такой себя не чувствует? Что есть-то у матери? Две руки. Сынок скажет: обними – и они вкруг него обовьются. Два глаза. Сынок скажет: погляди на меня. И взор и слух ее обращен на сына, она растворяется в его существе и жить без него не в силах.
Счастлива земля: одряхлеет, а ее подкормят, и она снова молодая. Бессмертно материнство земли: один ее покинет, другой с нею. Потому что грудь ее всегда полна молока. А какой толк от иссохшей груди старухи?
Она зашла в дом Овака, присела возле Салвизар.
– Я одна-одинешенька на всем белом свете, – сказала она. – Если коммуна хочет, пусть берет мою землю – распашут, засеют. А мне что надо-то: ломоть хлеба.
– Я Оваку скажу, – пообещала Салвизар. – Как ты одна-то живешь, матушка?
– Весь день на улице. Гляжу-гляжу, может, негодница сноха покажется, скажу ей, что думаю, на сердце полегчает. Да на глаза мне все не попадается.
– Не нужно ее бранить, молоденькая она, пожалей.
– А меня она пожалела? Хоть бы уж предупредила меня, уговорила...
– Ежели предупредила бы, ты б ее все равно прокляла... Зачем тебе одной жить? Переходи к нам. Места всем хватит. И я все время с тобой буду.
– Нет, я уж в своем доме век доживу. Со стенами своими говорить буду.
Сатик укладывала товары, снятые с продажи. Сахар перетаскала в амбар. Подумала: «А у маре сахар не кончился?» Мыло сложила в ящик: «А у маре мыло есть?.. Да откуда ему быть?» Рулон материи спрятала в ящик: «У маре одна рубаха, да и та, видать, износилась». Взглянула на платки: «Не отослать ли один маре?»
Осмелилась спросить:
– Даниэл, можно одни платок маре передать?
Сказала и покраснела до ушей. Словно великий грех совершила перед небом и перед Даниэлом. Даниэл опешил: не думал, что после всего случившегося матушке Наргиз можно что-нибудь послать. Отложил в сторону платок:
– Раз подумала, отошли. И несколько метров материи отрежь, отошли.
Сатик обрадовалась, и Даниэл приободрился.
Когда Даниэл вышел из дому, она отрезала материи, завернула в нее конфет, сахара, мыла. Вспомнила, что у матушки Наргиз лампа треснутая. Лампу новую взяла, спичек и все это с трудом приволокла в дом к Оваку.
– Салвизар, – сказала она, – не обижайся, что я в дом твой пришла, не считай меня бесстыжей.
И заплакала.
Это был первый дом, в который она зашла после побега.
– Да почему ж я тебя бесстыжей считать стану? – удивилась Салвизар. – Муж твой не в армии, не в тюрьме, чтоб сказать: не дождалась, бросила. Какая вдова замуж не хочет?
Салвизар дом заперла, чтоб случайно матушка Наргиз не заглянула и не нарвалась на сноху.
– Даниэл хороший человек, хороший хозяин, – добавила она, – а ты терпеливая женщина, на все руки мастерица.
– Салвизар, я к тебе с просьбой. Умоляю, не откажи. От своего имени вот это передай маре. День и ночь за тебя молиться буду.
Салвизар взглянула на увесистый узел:
– Доброе у тебя сердце, Сатик. Я, конечно передам. Но пройдет время, скажу, что от тебя.
– Не надо, она обо мне слышать не хочет. Как вспомнит Даниэла, и рубаху, и шаль – все выкинет.
– Ну как хочешь, – согласилась Салвизар.
Сатик быстро шла по улице – домой возвращалась.
Вдруг оклик:
– Бесстыжая! Вроде бы не видит!.. Хоть бы уж другой дорогой ходила!
Она подняла глаза. И увидала прямо перед собой матушку Наргиз. Ноги у Сатик задрожали, сердце оборвалось, она грохнулась на колени:
– Прости меня, маре, я молодая, не устояла.
Из глаз ручьями полились слезы.
– Дала б мне стакан яду, а потом уж ходила, шлендра! Стакана яду пожалела?
– Маре!..
И не нашла больше слов.
На улице показались люди. Матушка Наргиз заплакала снова по покойному сыну и вся в слезах ушла. Сатик закрыла лицо платком, побежала домой.
К Асатуру гости заявились из соседнего села. Сняли обувь, забрались на тахту, уселись на ветхом паласе.
– А говорили, что Асатур хороший ковер купил, – сказал один из гостей, большеротый.
Второй, у которого ногти были такой длины, что вот-вот завиваться станут, одернул его:
– Тебе-то что? Может, и не покупал.
– А пусть спросит, в этом дурного нет, – встряла жена Асатура. – Был у нас ковер, как же не был! Асатур его из Шарура привез. Но коммуну создали – и ковер отобрали, и от дела нас оторвали, и от людей.
Она сказала это таким тоном, будто коммуна – разбойник с большой дороги, появился ночью на пороге дома Асатура, наставил ружье на него, схватил ковер – и поминай как звали.
– Ой-ой-ой! – покачал головой большеротый, сочтя это большим несчастьем.
Он так и не понял, зачем понадобилось отбирать ковры и утварь, ведь вещи эти нужны только в домашнем обиходе, а теперь валяются без дела на складе.
Три десятилетия войн и невыносимых испытаний, резня, потоки беженцев, повсеместный голод до такой степени изнурили село, что все, что можно было продать, крестьяне старались продать за кусок хлеба. Во время нэпа началось некоторое оживление. Даже покупка простейшей утвари говорила о том, что люди уже начинают вставать на ноги. Ведь в течение многих лет крестьянин не представлял, что можно купить что-нибудь, кроме продуктов питания. И, видимо, поэтому и ковер, и другие приобретения в их глазах обладали теперь повышенной ценностью. А вот взяли и во имя равенства все отобрали. Лица гостей приняли сочувственное выражение. Они пришли издалека, притомились, проголодались – надо было их угостить. Старуха беспокойно то и дело выходила, в надежде, что муженек явится и сообразит, чем накормить гостей. Она заметила, что гости уже начинают недоумевать, почему хозяйка не предлагает им поесть.
Асатур пришел поздно. Жена вызвала его в сени и недовольно зашептала:
– Люди голодны. Что мне делать? Пусть твоя коммуна их накормит.
Асатур и сам понимал, что это необходимо. Пошел к кладовщику. Но тот заупрямился:
– Принеси мне письменный приказ, я тебе и хлеб дам, и сыр, и курицу.
Асатур бегом к Оваку. Тот развел руками:
– Не могу дать разрешения без согласия членов правления.
– Стало быть, нам теперь людей избегать придется?
– В конце концов все будет хорошо. Гостиницу откроем, при ней будет кухня. Гости будут жить в гостинице, кормиться за счет коммуны. Принимать гостей мы будем честь по чести.
Асатур вернулся домой в обиде на коммуну и Овака.
Жена была уверена, что Асатур принесет всякой снеди. Она оживленно расспрашивала гостей о том о сем, время от времени притворно сокрушалась:
– Асатур все не идет, чтоб за стол мы сесть могли. Знаю, что вы голодны с дороги.
Асатур явился мрачный, понурый. Это даже гости заметили. Сделал знак жене, чтоб вышла. Та сразу:
– Принес что-нибудь?
– Нет.
– Какой позор! – жена ударила ладонями по коленям. – Что мне теперь делать?
Гости переглянулись. Оба смекнули, в чем дело. Большеротый подмигнул товарищу, что означало: «Пошли».
– Не стесняйся, Асатур, мы знаем, что ты член коммуны, и на тебя не в обиде. На нет и суда нет. Нам надо идти, – сказал большеротый.
Хозяева их не удерживали.
Случай этот очень подействовал на Асатура. «Дурака нашли. Стройся в один ряд со вчерашними голодранцами. Овак командует, а я шагай... Вай, дурная моя голова, во что влип! Чтоб гости из дома моего удирали? Опозорен я теперь на весь белый свет...»
Время – это птица, распростершая крылья, которая в вечном полете. Не за что ему зацепиться, чтоб задержаться, остановиться, не знает оно усталости, чтоб рухнуть на лету.
Минута к минуте, к шагу шаг. Солнце движется в раз и навсегда заведенном ритме, луна вертится по своим законам.
Раз – стройсь!
Два – вперед!
Пошли...
Солнце где угодно может печалиться, но в Джавахке оно всегда смеется.
Ваче не знал, что и в Джавахке создали коммуну. Он не предполагал, что коммуна вообще где-либо еще может существовать. Подобного хозяйства в Кешкендском уезде больше не было. Из уездкома пришло указание послать несколько человек в Джавахк для обмена опытом.
Среди тех, кого послали в Джавахк, был и Ваче.
Вот что он увидал: котловина окружена горами, на пять верст окрест луга, покрытые густой высокой травой. В ней – птичьи гнезда с пестрыми яичками. Вода в ручье не успеет пересохнуть, а птенцы, уже оперившись, летают. Трава в человеческий рост. Из нее, зеленой, циновки плетут, а сеном набивают подушки и тюфяки. Говорят, если на них спать, сильным будешь и долго молодым останешься.
Здесь, среди лугов, расположено село Сулда. Оно раздвоилось – разбилось на два мелких селения: одно называется Позали, второе – письменно Мясникян, а устно Коммуна. Жители сел – сплошная родня: кумовья да сватья.
Коммунары Мясникяна радушно встретили гостей. Заявили:
– Речи потом, сперва поесть надо.
Поели.
– У вас все дома новые – с чего бы это? – спросил Ваче.
– Государство деньги дает, вот мы и строимся, – весело ответили хозяева.
– А как вы живете?
– Государство деньги дает, мы продукты покупаем, делим между собой, так и живем.
– Ну а одежда?
– Государство материю дает, мы шьем.
– А чем вы занимаетесь?
– Пока что дома для себя строим.
– Вот это настоящая коммуна! – воскликнул Ваче.
«Коммуна похожа на недоношенного новорожденного. Не знаю, найдется ли врач, который его спасет, – сказал во время беседы один из коммунаров Джавахка. – Но раз уж вы ее создали, старайтесь беречь ее честь».
Потом он дал совет коммунарам Арпы взять у государства ссуду, приобрести сельскохозяйственные орудия, открыть ясли и детский сад, сшить для членов коммуны одинаковую форму, обувь и при необходимости помогать им.
Умнее предложения невозможно было себе представить.
Гостей весело, с хлебом-солью, на конях, проводили.
Когда хозяева поотстали, Ваче накинулся на Овака:
– Видал, какой коммуна должна быть? Дома – один к одному, кругом достаток, народ веселый.
– Только вернемся, сразу ссуду просить начну. Не откажут.
– Это почему ты будешь ходить в красном, а я в черном?
– Оба будем в белом ходить.
Государство выделило кредит, и все коммунары оделись в белое.
– Раз – стройся!..
– Два – равняясь!..
Приближалась зима. Члены коммуны более не могли обедать на улице. А урожай выдался такой богатый, что негде было хранить зерно.
– Раздадим всем поровну.
Раздали.
Из труб вновь повалил дым.
– Ух, – обрадовалась жена Асатура, – дом не дом, если в нем еда не варится... Еще б буренушку вернуть...
Соседка, запыхавшись, ворвалась в дом:
– Матушка Наргиз, Сатик помирает... Рожает, а ей совсем худо... Человека послали в Кешкенд за доктором, пока не приехал... А у нее уже сил не осталось. Помрет...
«Помрет... Помрет... Помрет...»
У матушки Наргиз сердце оборвалось.
– Чтоб у ее похитителя глаза повылазили!..
Когда она так бежала? Когда? Давно – в молодости...
...Сатик по голосу матушку Наргиз узнала, не успела та порог переступить.
– Вай, похоронить мне вас, вы ж ее криво усадили, – заорала матушка Наргиз на собравшихся женщин. – Дальше!.. Дальше!..
Подошла, обняла Сатик. Та, захлебываясь слезами, воскликнула:
– Помираю, маре-джан, спаси меня!..
У матушки Наргиз откуда силы взялись: выпрямила сноху, строго сказала:
– Терпи! Разве ж я допущу, чтоб с тобой что-нибудь стряслось? А боль, она пройдет...
Женщинам велела:
– Мариам, зайди справа... Шушан, встань слева... Нунуфар, держи Сатик...
Даниэл, закрыв лицо руками, сидел на камне и размышлял: «Не натворила б старуха дурного, еще придушит моего ребенка от ревности...»
Подошел Овак, сел возле него:
– Не переживай, Даниэл. Во время родов у всех боли. Без этого не бывает...
– Овак, пошли к нам Салвизар, как бы повитуха что-нибудь с дитем не сделала.
Овак вспылил:
– Дурной ты человек, Даниэл.
Лавочник пожал плечами:
– Не знаю, Овак, может, и дурной.
Ребенок родился до приезда врача. Вышла из дома одна из женщин, поздравила Даниэла и велела:
– Лезь на крышу, стреляй!
Даниэл никогда ружья в руках не держал. Растерялся.
– Свет очам твоим, Даниэл, – обрадовался Овак и протянул ему свой револьвер. – Тут семь патронов, все расстреляй.
Стал стрелять, и село узнало, что у Даниэла родился сын.
Матушка Наргиз искупала младенца и зашептала:
– Господи Иисусе, святой Оганес, святой Арегак, святой Лусняк, сделайте долгою жизнь ребенка.
Перекрестила, спеленала, положила младенца возле матери.
На шампур нанизала три белых луковицы, вышла из дома и, повернувшись к востоку, прошептала:
– Молю тебя, господи, я, грешная, младенцу этому...
И тут увидала Даниэла. Руки у нее задрожали, шампур закачался, слова заклинания позабылись. Она начала снова:
– Молю тебя, господи...
Не смогла продолжать, бросила Даниэлу:
– Уйди с моих глаз.
Даниэл все понял, недовольный удалился.
– Молю тебя, господи, я, грешная: младенцу этому дай его долю, да поскорее, да побольше, пусть он получит желанное от небес и земли.
Заклинание произнесла, но с места не сдвинулась.
«Нет, не от души сказала. Помилуй меня, господи Иисусе, – прими прямым то, что криво сказано».
И еще раз это повторила. Потом вошла в комнату и бутылкой перекрестила все четыре стены.
«Да хранит тебя крест и отчая десница».
Нет, что-то не то. Переделала одно слово: «Да хранит тебя крест и господняя десница».
Явились женщины навестить роженицу. Снеди натащили. Повитуха должна была передавать дитя из рук в руки и брать причитающуюся мзду. Но она денег брать не стала. Дала Сатик нужные советы, пожелала выздоровления и ушла.
Множество сказок бродит по свету. В сказках этих есть страшные чудища. У белокожих народов чудища черные, у чернокожих – белые. Есть чудища одноголовые, есть семиголовые и даже сорокаголовые. Если герой отрубит все головы, а одну не сумеет, чудище продолжает жить и приращивать к туловищу отрубленные головы.
Все чудища пожирают людей. И живут они за семью горами, за семью морями. Нашелся герой, который отрубил все до одной головы, пало чудище, народ возликовал, и теперь уже не так сложно стало одолеть семь гор, семь морей.
Множество сказок бродит по свету. И все они – о равенстве.
Равенство...
– Даниэл, говорят, ты лавку закрыл?
– Нынче на торговле не заработаешь, – и глубоко вздохнул. – Асатур, это правда, что коммуна от села отделяется? Говорят, государство вам ссуду дает, чтоб вы себе новые дома построили.
Асатур приосанился:
– А как же! Ваче с Оваком в Ахалкалахе побывали, поглядели на их коммуну, подивились: у всех там новые дома. А мы ни одной крыши не починили. Что ж это за коммуна? У нас с головы до ног все должно быть новое.
– Асатур, сделайте меня казначеем. А?
– С Оваком поговори, Даниэл. Если он на правлении вопрос поставит, я буду за тебя.
Даниэл поспешил к Ваче – того подготовить.
– Даниэл, – сказал тот, – что ты деньги с толком тратить станешь, не сомневаюсь. Что товары самые лучшие купишь, тоже уверен. Но в граммах и копейках нас же обманывать станешь. Как же я, зная это, сам тебя зазову?
– Не буду обманывать, Ваче.
– А ежели обманывать не хочешь, иди в поле работай. На что тебе непременно казначейство?
– У каждого свое ремесло.
И Овак ему отказал.
– Ваче не против того, чтобы тебя вообще в коммуну принять. А я против. Даю слово коммуниста, я тебе добра желаю. Но даже если мои родной брат, который по соседству живет, скажет – выхожу из колхоза, прими меня в коммуну, – я его не приму. Из него коммунара не выйдет.
– Хорошо, – сказал Даниэл, – как мне доказать, что страсть к собственности, о которой ты говорил, у меня исчезла?
– Отдай ключи от дома Ваче. Скажи: оставь в доме только то, что мне положено, остальное забирай на склад коммуны.
– Э, – вздохнул Даниэл, – у меня вчера ребенок родился, а я его нынче без куска хлеба оставлю?
– А у меня что, не родился ребенок?
– Ты – это ты, а я – это я.
И ушел.
Матушка Наргиз купала младенца. Сатик, лежа в постели, внимательно за ней следила. Так же осторожно и ласково старуха обходится с ее дитем, как с другими, или не так? Может, обида все еще гложет ее? Но матушке Наргиз не в чем было упрекнуть себя. Вылила первый ковш воды на младенца и прошептала: «Господи Иисусе...» И испытала тот же внутренний трепет, который всегда испытывала, выливая на голову младенцу первый ковш.
А когда лила последний ковш, принялась ласково приговаривать:
– Это тебе покой принесет, крепко уснешь, во сне придет к тебе святой Саргис, коснется тебя, и вырастешь ты богатырем.
Она вытерла ребенка, запеленала, положила возле матери и тихо предупредила:
– Ножки покрепче да поровнее пеленай, чтоб кривоногим вырос. Когда на руки берешь, рукой спинку поддерживай. Подушку пониже положи, чтоб у него спинка ровная была. Перед кормлением грудь теплой водой мой. Как только покормишь, укладывай его в люльку.
Лицо ему не закрывай, а то дышать будет нечем. Если плакать станет, грудь дай. А не угомонится, меня позови...
Выходя из дома, она с Даниэлом столкнулась. Глянула на него исподлобья и засеменила прочь. А Даниэл с ней даже не поздоровался. Вошел в комнату, вынул хлеб из сундука, принес сыру и хмуро принялся за еду. Сатик подумала – он мрачен из-за того, что матушка Наргиз с ним неприветлива. Попыталась успокоить мужа:
– Не сердись, Даниэл. Она много несчастий на своем веку перевидала. Сердце сразу не оттает.
– О ком ты?
– О маре.
– Сдалась мне твоя маре! – разозлился Даниэл. – На свете все вверх дном перевернулось, а ты все про свою маре!
С улицы донесся шум. Даниэл вышел поглядеть. Там толпилось человек десять – повздорили двое колхозников из колхоза «Землероб». Один с большим опозданием на работу вышел, но потребовал, чтобы ему полный трудодень выплатили. Бригадир же ни в какую. Колхозник кричал:
– Я вдвое больше твоего всего в колхоз сдал! А теперь разок опоздал и уже за полдня получу? Отдавайте мою землю, я из колхоза выхожу!
Никакие уговоры не помогали. Он, может, думал, что, если выйдет из колхоза, все умолять его начнут вернуться, а то без него колхоз пропадет. Однако колхозники в свою очередь тоже оскорбились, потребовали общего собрания.
У Даниэла тут же настроение поднялось. Вернулся в дом веселый:
– Сатик, запомни, что я тебе скажу: и колхоз, и коммуна недолго проживут. Только торговля – дело основательное.
Мир – не безделушка, которую можно подарить кому вздумается. Лишь мыслящая душа человека ощущает его безмерность, и лишь мыслью можно объять его.
Но и крохотный земельный участок порой целый мир.
Руки его обрабатывают, а сердце крадет для себя одного. И человек в своем крохотном мире чувствует себя глыбой.
Мир – это чувство. Злым словом могут отравить душу, добрым словом заставят почувствовать себя властелином мира.
Мир... Растяжимое понятие. Он распростерся в миллионах душ. Стоит копнуть, в каждой душе он есть. И каждый скажет: верни, он мой!
И несведущие друг о друге души спешат изменить облик мира. Грядущие поколения об умерших скажут: старый мир.
Отмер старый мир, а новый ой как трудно строить. Новый фундамент, новый орнамент.
Состоялось общее собрание коммуны. Всех будоражила мысль о новых домах, новом селе. Вынесли решение, составили заявление, и Овак, оседлав коня Ваче, отправился в Кешкенд.
Председатель месткома прочел заявление, отложил его в сторону, потом вынул из ящика циркуляр и протянул Оваку:
– Читай.
Овак прочел, удивился, помрачнел.
– Что это значит?
– Это означает: разогнать коммуну и присоединить ее к колхозу «Землероб».
Овак похолодел, потом вдруг весь взмок от пота.
– Но почему разогнать?..
Новость потрясла все село. А колхозники «Землероба» позлорадствовали:
– Во чудаки! Чтоб в колхоз вступить, целый год маршировать учились.
– Пока не построитесь и не гаркнете все вместе: «Да здравствует колхоз «Землероб»!» – мы вас к себе не возьмем.
– Что для вас государство – дойная корова? Коммуна! Организация лодырей!
А Даниэлу это как маслом по сердцу.
– Помнишь, Сатик, что я тебе говорил?
– Это про маре-то?
– Да при чем тут маре? Про колхоз!
– Нет, Даниэл-джан, не помню.
– Коммуну разгоняют! А не сегодня завтра колхоз разгонят! Вот увидишь.
Пришел новый циркуляр: все село – колхоз.
Овак всю ночь глаз не сомкнул. Вспоминал, с каким воодушевлением сколачивал коммуну. И как впервые ряды коммунаров маршировали под гогот односельчан. Они же, наступая друг другу на пятки, все-таки шагали. Вспомнил, как отдавали люди последнюю горсть зерна во имя желанного равенства, которым сам он их вдохновлял. Мысленно он уже осуществил большое строительство коммуны, и казалось оно столь реальным, что невозможно было представить несостоявшимся, существующим только в мечте – вне времени и пространства.
В конторе яблоку было негде упасть. Толпа стояла в дверях, люди глазели в окна. А председатель исполкома взволнованно объяснял:
– Что мы делаем? Создаем коммуну, свободную от всех обязанностей. Она только то и дело что-нибудь требует. Товарищи, поймите меня верно – мы должны усилить мощь нашей армии, развить промышленность. Для этого в селах должно вестись коллективное хозяйство. По частной собственности надо бить отовсюду!..
Потом он дал слово Оваку. Для того это было неожиданностью.
– Я не просил слова, товарищ председатель.
– Вы один из активнейших организаторов коммуны. Года вполне достаточно для того, чтобы увидеть все недостатки подобного хозяйства. Расскажите об этом.
Овак обратился к собравшимся:
– Товарищи! У коммуны один недостаток: бедность. Через несколько лег упорного труда этот недостаток можно одолеть. Будет возможность вернуть государству ссуду, семена. Не разгоняйте коммуну! С частной собственностью надо покончить одним ударом, вырвать ее из душ. Товарищи, я призываю вас защитить коммуну!
Председатель исполкома растерялся. Но тут же совладал с собой и спросил сдержанно, спокойно:
– Товарищ Овак, вы коммунист?
– Да, коммунист.
– Значит, должны шагать в ногу с партией.
– А я с партией.
– Партия считает, что для укрепления советской власти следует разогнать коммуны...
– Я не покину коммуну...
Тут попросил слова секретарь партячейки Арпы:
– Товарищи, вам может показаться, что сегодня обычное собрание. Нет, товарищи. Сегодня мы обсуждаем вопрос государственного землевладения. Мы стоим на границе старого и нового мира. Старый собственнический мир не оправдал себя, потому что делал человека рабом. Человек обрабатывал землю, а сам жил впроголодь. Собственность создала такие формы правления, при которых рабочего человека держали в темноте и невежестве. Мы разрушили эту систему. Следует создать новую систему, при которой земля равным образом принадлежала бы всем. Вот какая трудная задача легла на плечи нашего поколения. В городе рабочие изготовляют для нас тракторы, но трактор-то за заборы ваши не перелезет. Ему нужен простор. А для этого надо объединить все земельные участки. Трактор может за год удвоить нашу посевную площадь. А без этого невозможна окончательная победа советской власти. Овак считает, что у человека следует разом отобрать всю собственность. А мы придерживаемся другого мнения. Почему у крестьянина не должно быть личного приусадебного участка, чтоб выращивать то, что ему хочется? Ведь планомерная обработка общей земли не в силах учесть вкусы каждого. Крестьянина нельзя также лишать крупного рогатого скота. Дверь колхозного склада не может без конца открываться: ради каждого ребенка, каждого гостя, каждой роженицы, каждого больного. Опыт коммуны показал, что недовольство рождается именно из-за этою. Я предлагаю поддержать мнение председателя исполкома. Давайте же все как один проголосуем за колхоз...








