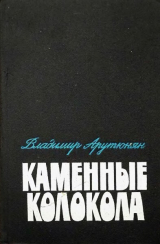
Текст книги "Каменные колокола"
Автор книги: Владимир Арутюнян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
Тот боязливо ответил:
– Ваше превосходительство, я устал воевать. Куда мне деться от своей земли? Если я пойду с вами, кто будет пахать, сеять? У меня дети, внуки, старуха жена.
– Мы тоже, ваше превосходительство, не хотим землю бросать, – отозвались другие.
Япон угрюмо оглядел поредевшие ряды. На мгновение в нем вспыхнуло желание обезоружить их и тут же на площади перестрелять.
– Господа, вы остаетесь, – осторожно, чтобы не выдать себя, сказал он, – это ваше дело, продавайте души свои красному дьяволу, но оружие, что вы держите, вам не принадлежит. Оно еще пригодится нам. Приказываю сдать оружие немедленно.
Никто не шевельнулся с места.
– Я к вам обращаюсь.
Его слов точно не слышали.
– Ваше превосходительство, – подал голос кто-то из строя, – оружия мы не сдадим. Зачем скрывать, мы не доверяем вам.
– Оружие! – заорал Япон.
В ответ ни звука. Глаза солдат блестели опасным блеском. Они походили на тигров, сжавшихся перед прыжком.
Япон уже хотел заставить их силой обезоружиться, но благоразумие взяло верх. Он лишь зло махнул рукой:
– А ну вас! Оставайтесь... подыхайте под копытами красной сатаны... Собачье отродье, – Он повернулся к своим приспешникам: – Спасибо вам, друзья. Верный солдат узнается в час испытаний. Я верю вам как самому себе. Я рад, что еще имею право зваться вашим командиром. Мы еще...
Пушечный залп заглушил его последние слова. Снаряд разорвался в горах. Многовековая часовня обрушилась, погребя под собой белое, аккуратно расстеленное полотно, на котором был вышит крест. Закоптелый от пламени бессчетных свечек алтарь с сильным грохотом покатился в ущелье. Грудь скалы разверзлась, обнажив веками таящуюся пещеру. Солнечный свет как бы столбом вбился в ее темень.
Егегнадзор – Джермук,
1965—1966
ПОВЕСТИ

Коммуна
Перевод А. Тер-Акопян
Живым – благословение солнца, усопшим – цветы.
Погиб единственный сын матушки Наргиз. Пошел на охоту в горы, и вдруг снежный обвал. Ну и скинуло человека со скалы в бездну.
Стояла зима. Поэтому и не поднесли цветов усопшему. Однако многие плакали.
Лавочник Даниэл печально подошел к матушке Наргиз, тихо промолвил слова утешения, мельком зыркнул на ее пригожую пышненькую сноху, вздохнул и отошел.
Монархист Ваче помял меж пальцев кончик папиросы, приблизился к матушке Наргиз, повздыхал, посочувствовал, глянул исподлобья на молодую вдову и тоже отошел.
Молодуха ходила в черном, слезы лила и клялась:
– Пусть хоть князь сватается, ни за кого не пойду.
А матушке Наргиз это в утешение.
– Пока Сатик есть, жив мой сын. Храни ее господь...
Разнесчастный человек Монархист Ваче. Год назад померла у него жена, оставив двух ребятишек. Крестьяне при встрече всякий раз не преминут спросить:
– Ваче, жениться не собираешься?
– Да нет...
– Ребятишек бы пожалел. Каково им без женской-то заботы...
Ежели ночью снега навалит, Ваче ни свет ни заря во дворе. Курит, глядит в сторону дома Наргиз. Знает: вот-вот Сатик появится, примется снег расчищать. Ваче тоже берется за работу и при этом тяжко вздыхает:
– Эх, дом без женщины лучше спалить...
–
Лавочнику Даниэлу уже за тридцать. Покупатели не скупятся на советы, не забывая при этом о собственных интересах:
– При хорошей жене, парень, и доходы твои умножатся... Одолжи-ка пару кило сахара.
– Еще года два-три потянешь, ни одна девица за тебя не пойдет... Налей-ка мне литров десять керосину, деньги попозже занесу...
А Даниэлу больше всех девиц одна молодка люба – сноха матушки Наргиз.
«Скромница – сторонится колхоза и комсомола».
Солдат Овак старательно выводит при тусклом свете лампы:
«Уездному комитету Кешкенда. Просим разрешить двадцати пяти хозяйствам села Арпа организовать коммуну...»
На широкой тахте лежит его жена, тоскливо глядит на благоверного:
– Овак!
– Что?
– Правда, что ты с Сатик целовался?
– Чушь!
Но жена серчает:
– Я знаю, ты Сатик тоже в коммуну записал.
– Ваче посоветовал.
– А ты и согласился?
– Как же я могу против воли крестьян идти?
Дом у Овака новый. Стены еще не оштукатурены.
При зыбком освещении дом кажется пустым.
– Салвизар, я отнесу заявление на подпись и вернусь.
Жена беременна. Ей чудится, что Овак идет к другой, и она молча плачет.
Сатик румяная, пухленькая, росточку небольшого.
Всё дома, дома. Двор подметет и опять в дом, опять дверь на засов. Правда, нет-нет да пошлет ее свекровь в лавку. Сатик так платком замотается, что только глазищи горят. По улице не идет, а несется, по сторонам не глядит.
А Ваче ей вслед украдкой вздыхает. В лавке же Даниэл пытается ее задержать – не спешит отпускать товар.
Ваче высокий, ладный, ему под сорок, усы торчком торчат. Верхняя губа коротковата, оттого он улыбчивым кажется. В дни революции участвовал в партизанских боях. Спросили его как-то: «За что воюешь?» Ответил: «Армению, Грузию и Азербайджан присоединим к России и создадим монархию». Оговорился – хотел сказать «союз»[15]15
В армянском языке сходно звучат слова: монархия – миапетутюн, союз – миутюн.
[Закрыть]. С тех пор к нему и прилепилось прозвище Монархист.
Ваче заметный человек в селе. Биография у него что надо и конь что надо – гнедой, резвый.
Даниэл приземистый, кряжистый. Ходит в сапогах со скрипом. Перед тем как выйти за порог, надраивает их до блеска. Не успеет рассвести, Даниэлу уже известно, что ночью произошло. А к закату все дневные новости при нем.
В селе две лавки. Одна кооперативная, другая – Даниэла. То, чего в кооперативе не купишь, у Даниэла всегда найдется.
Сатик белье во дворе вешала. Ваче увидал ее, сердце у него защемило, вывел он во двор своего гнедого на длинной веревке, взмахнул кнутом:
– Эй, красавец!
Жеребец у него молодой, упитанный, в силе – ржет, встает на дыбы, ходит по кругу.
Сатик помедленней стала белье вешать – нет-нет да зыркнет украдкой. Даниэл подметил это, подумал: «Вот негодяй – Сатик завлекает». Приблизился:
– Продай коня, Ваче, я куплю.
А Ваче вроде бы и не слышит – только в глазах зажглась довольная хитринка.
– Эй, красавец!
– Корову за него дам.
Даниэл говорит громко, чтоб Сатик слыхала. А Ваче ухмыляется – вроде бы цена мала.
– Черт возьми, я и теленка дам в придачу.
– Хм...
– И кинжал с серебряной рукоятью.
–
Тут откуда ни возьмись тронутый Бабо с хворостиной в руке. На нем пиджак с чужого плеча – рукава такие длинные, что пальцев не видать.
Отец Бабо погиб в мировую войну, мать пожелала замуж выйти, только женихи всё попадались больно старые. Так в мужья никого из них и не выбрала – стала путаться с кем придется. Бабо мал был, не понимал, отчего в дом к ним чужие люди ходят, засиживаются и уходят, когда он уже спит.
Ребятишки принялись дразнить его. Стоит повздорить с ними, обзываются:
– Шлюхин сын.
Кое-кого Бабо отлупил, еще не понимая смысла этих слов. А когда понял, убежал из дома. Его несколько дней разыскивали, нашли в овраге. Мать слезы лила, уговаривала – уломала-таки, привела домой. И столько было боли в ее слезах, что Бабо уже не верил мальчишкам. Обнял мать за шею и стал просить никого больше в дом не пускать. На другой день маленькими своими кулачками колошматил он пацанов – за честь матери вступился. А в тех, кто пытался в их дом зайти, камнями запускал. Но кое-кто к ним все-таки продолжал захаживать. Мать его спать укладывала. Ложился-то он ложился, да не спалось ему. А если днем дело было, мать за чем-нибудь отсылала. Уходил нехотя, возвратиться старался поскорее. А однажды не стерпел – избил мать, поправшую память павшего отца. А чего добился? Мать его при соседях прокляла: «Один у меня сын был, да и тот негодяй». Он нигде не работал и не учился. Тот, кто в родной матери разуверился, в других опоры уже не найдет. Люди перестали в их дом заглядывать: чувствовали, что мальчишка опасен. Кое-кто угощениями его задобрить пытался. Угощенья-то он брал, а наставления пропускал мимо ушей. Слабаки избегали его, сильные лупили.
...Бабо заявился в распрекрасном настроении: размахивая хворостиной, кинулся к коню. Нашел себе развлечение. Конь пустился вскачь, Бабо помчался рядышком. Ваче рассвирепел:
– Пошел отсюда, сукин сын!
Бабо поднял с земли камень, запустил в Ваче и задал деру. К счастью, промахнулся.
– Тьфу, такой день испортил! – подосадовал вслух Ваче, отвел коня в конюшню, привязал.
–
При нэпе началась торговля. Нэпа не стало, теперь ожидали равенства.
Кто-то вздохнул с надеждой:
– Наконец-то!
Другой усмехнулся:
– Это все пустые разговоры. Не было равенства и не будет. Жизнь – это торговля. Одно отдаешь, другое берешь.
Нет, прошляпил торгаш свое время, минуты сочтены.
Равенство... Чтоб всех под одну гребенку, ряд к ряду, быстро да ладно.
Жило равенство в сердцах, а теперь вот хотят его на земном шаре утвердить.
Овак вышагивает от порога к порогу и, прежде чем дать человеку бумагу на подпись, зачитывает ее:
– «В уездком Кешкенда. Просим разрешения основать коммуну двадцати пяти хозяйствам села Арпа...»
– Слыхал?
– Ага...
– Все домочадцы согласны?
– Да.
– Тогда подписывай.
Торгаш философствует:
– Не обманешь, не продашь – так ведь? Стало быть, без обмана нет торговли. А без торговли нет жизни. Кто бы власть ни взял, тот или этот, а мир на торговле как держался, так и будет держаться.
Ночь – бессонная, бескрайняя...
Овак натянул одеяло на голову, задумался: «Попросить у Ваче коня, чтоб в Кешкенд ехать, или пешком топать?» Представляет себя то конным, то пешим на пути в Кешкенд.
А у жены схватки начались.
– Овак!
– Чего?
– Ежели я вдруг помру, ты снова женишься?
– Ну тебя! Поумней бы чего придумала.
– Ох! – стонет жена. – Боюсь не выдержать.
А Овак уже снова мысленно на пути к Кешкенду.
– Овак-джан!
– Что?
– Спросить хочу у тебя... Только ты мне правду скажешь?
– Ага.
– Ежели помру, ты на Сатик женишься?
Овак вспылил:
– Хватит молоть пустое!
Салвизар тихо зарыдала. Овак повернулся к ней, заботливо укрыл одеялом.
– Дуреха, да на что мне жизнь без тебя?
Господи, сколько тайн-то в ночи!
Бабо положил подушку на тонир, закутался в пиджак, съежился – спит. Мать разбудила его, велела в постель ложиться. Бабо схватил подушку, запустил в мать и снова уснул на голом полу. Мать принялась клясть его на чем свет стоит, потом пошла спать. И вдруг представила, что Бабо умер. Сперва вроде ничего – что толку-то от него живого! Потом ужаснулась. Он ведь мальчишка – стало быть, умереть может только от несчастья. А всякой матери это нож в сердце. Представила, как Бабо уводят в Ереван в психиатричку. Заплакала. Чего только не передумала она в ту ночь. Вспомнила вдруг Бабо грудным малюткой – живой был, смешливый. В груди защемило. Взяла одеяло, укрыла сына, потом уж вернулась, легла в постель.
Ночь, темень. Нет у нее лица, чтоб взглянуть в него, нет у нее длины, чтоб измерить, нет веса, чтобы взвесить. Мысль меняет свой налаженный ход, рвется куда-то, приспосабливаясь к фантастическому нраву ночи. Нету цепей ни на мыслях, ни на руках – дерзай, совершай!
Горы, чудится, вот-вот двинутся, и картины сорвутся со стен – пойдут бродить по свету. Бедный ищет богатства, богатый – надежности. Утоляется чувство мести, торжествует любовь. Наступает власть «я».
Ночь – бескрайняя, бессонная, удивительная ночь...
Узкая комнатенка. Широкая тахта. Над тахтой коврик, на нем красный конь. Ничего ему не стоит сейчас соскочить со стены и помчаться галопом, он может вылететь из ердыка и воспарить в небе, а потом воротиться и вновь прилепиться к коврику. На тахте две постели – на одной съежилось сухонькое тело матушки Наргиз, на другой – ее распаленная молодостью сноха. Матушка Наргиз укуталась поплотнее одеялом – мерзнет. Сатик вся раскрылась, и все равно ее в жар кидает. При тусклом пламени светильника настенный конь вдруг качнулся, сорвался вниз и взыграл, подобно гнедому Ваче. Сатик только нынче заметила, что конь жеребец. Она потрогала свое разгоряченное тело, погладила.
Дыхание старухи было спокойным, ровным. Сатик вдруг вообразила, как Ваче похищает ее на своем гнедом красавце. Даже дух захватило от этой картины, из груди вырвался стон. Конь мчался неведомой дорогой, а вокруг не было ни души – безмолвие, полумгла. Ей хотелось, чтобы дорога эта не кончалась – все бы лететь, лететь...
Дыхание старухи сделалось вдруг прерывистым. Она беспокойно задвигалась, приподнялась, кликнула тревожно:
– Сатик!.. – И тут же вновь рухнула на подушку.
Сатик подняла голову – видение с конем исчезло.
– Что, мам?
Тишина.
– Что тебе, мам?
– Да что ты мне спать не даешь? Разбудила – теперь уж мне не уснуть.
– Да ведь это ты меня кликнула, – голос Сатик задрожал.
– Ну и придумаешь! Как я могла тебя кликнуть, ежели я спала?
– Да не знаю как...
Старуха заснула не сразу. А в снах Сатик замелькали иные картины.
На заре старуха пробудилась, протянула к снохе руку, и по сердцу ее разлилось тепло. Укрыла сноху одеялом получше – зори холодные, не простыла бы...
Нет у ночи ни дна, ни покрышки, ни конца, ни начала. День пестрый, ночь черным-черна, день разный, в картинках, как в лоскутьях, ночь – целая глыба. Тишина, ни звука, безмолвие. И если вдруг крик прорежет тишину, тысяча отзвуков родится в ночи, вся необъятность черного пространства всколыхнется.
Огромная чаша гор, а в ней – село. Один край чаши отбит, – наверное, для того, чтоб после полудня солнышко могло глянуть на другой край. Вон скала наподобие стула с высокой изящной спинкой, днем она вся солнцем залита. Кто не успел надгробие поставить на могилу усопшему, тот выбил крест на гладкотесаных камнях часовни. А ребятишки с радостью увеличили число крестов, нацарапав их железной проволокой. Ваче выбрал на стене подходящий камень и тоже выбил крест. Потом присел возле могилы жены, заплакал. Прежнее вспомнилось. Молодость жены всплыла в памяти. Потом вдруг перед очами встала пышная сноха Наргиз – двор метет, белье вешает.
Сперва небеса сделались темно-фиолетовыми, потом черными. Все растворилось во мгле: и кривые улочки, и крохотные сады, и глинобитные ограды. Арпа, колотя берега что есть мочи, раскалывала грохотом и ревом ночное безмолвие. Река неслась глубоко в ущелье, в котором были тысячи пещер, а в пещерах обитали белые и черные чудища. Безлунными, беззвездными ночами высыпали они из пещер – наломают скал, как щепок, и давай швырять в реку. То и дело всплески раздаются, вопли:
– Вуа-а-а!
Тот, кто помер молодым, восстает из гроба и примешивает свой крик к ночным голосам, а потом, слившись с тенями, преследует одиноких путников.
Ваче не сразу очнулся. И вдруг ощутил свое полное одиночество. Ушей его коснулся шепоток жены. Потом шепоток перерос в шепот, который вознесся на ближайшее дерево. И вот уже шепот перешел в птичий крик, сорвался с дерева и очутился на куполе часовни. Из-за надгробий стали выплывать тени. Крик, отлетев от купола часовни, перенесся через реку и, ударившись о скалу, разбился вдребезги.
Во тьме сумрачным многоголосьем ухала река:
– Ва-ва-ва!.. Че-че-че!.. Ва-че!.. Ва-че!..
Студеный ветер хлестнул его наотмашь по лицу, потом прошибло. «Господи Иисусе...»
Представилось, как хоронили жену. А из-за могильных плит выступили тени и двинулись в мрачном шествии. Ваче задал деру. А толпа теней ринулась вслед за ним.
– Ва-ва-ва!.. Че-че-че!.. Ва-че!.. Ва-че!..
Добежал до дому, увидал ребятишек, перемолвился с ними несколькими словами и наконец-то перестал задыхаться. Лег в постель, долго ворочался без сна, но потом его все-таки сморило. И приснился Ваче такой сон: будто бы Бабо вцепился гнедому в заднюю ногу и никак не отцепится. Копь и так и сяк – то подскочит, то лягнет, а Бабо все нипочем. Нету сил у гнедого, чтоб отпихнуть Бабо. И бедное животное взывает к помощи:
– Вуаа!.. Ва-че!.. Ва-че!..
А Ваче ему ничем помочь не может.
–
Даниэл еще вечером приметил, что в кооператив товар завезли. Издали наблюдал за разгрузкой. А когда продавец один остался, будто невзначай подошел к нему:
– Что привезли?
– Сахар.
– Я его весь покупаю.
– А ежели меня спросят – когда продать успел?
– Ладно, два пуда себе оставь.
– Ночью забирай.
До полуночи таскал Даниэл мешки в свою лавку.
Здравствуй, доброе утро со всеобъемлющим оком!
Взошло солнышко, и исчезли кладбищенские кошмары. Коричневатые камни монастыря попробовали было рассмеяться, да не вышло.
На берегу реки Арпы пробудилось село Арпа. Река – длинная-предлинная, бежит себе мимо гор и теснин. На берегу реки село – с покосившимися развалюхами, с кривыми ухабистыми улочками, то подымающимися верх, то спускающимися вниз. Возле домов – крохотные палисадники, огороды, небольшие сады. Ограда такая высокая, что спелых плодов с улицы не видать. Так задумано – чтоб чужие глаза не зыркали, чужие руки не тянулись.
В селе, как обычно, мирно, тихо. Из ердыков подымается столбиками прозрачный дымок. Струйки дыма, сливаясь воедино, заволакивают туманом гору Кап. Река то колотится о берега, а то и выходит из них, выхлестывается на дорогу, обивает с утесов камни и, кидая друг на друга – грох, грох! – катит их, колотит, расшибает. Выворачивает деревья и волочет, волочет...
Светозарное утро Вайоца. На склонах гор журчание вешних вод, в долине – пробуждение земли, на вершинах гор – снежные звезды.
С восходом солнца ожили сельские улицы. Вон кот несется с душераздирающим мяуканьем – к хвосту его прилажена пустая жестяная банка. А вслед за котом с криком, гиканьем бежит Бабо.
Кое-кто бросился догонять Бабо. Да куда там! Одного он словом отбил, в другого булыжник запустил, третьему кулаком погрозил. Короче, скрылся.
Парни его уже нагоняли, когда он влетел во двор матушки Наргиз и в ужасе завопил:
– Сатик!..
На крик его выскочила Сатик, впустила в дом, дверь за ним заперла.
– Ну, балда, опять что-нибудь натворил? За что тебя поколотить хотят?
В дверь постучали:
– Давай сюда Бабо!
– Уходите, здесь Бабо нет!
Заслышав шум, вышел из дому Ваче. Он был бледен.
Но увидал солнышко, народ и ожил.
– Эй, что вам надо? Я вас спрашиваю! – он крикнул нарочито громко, чтобы в доме слышали. – Пошли отсюда! Еще раз возле этого дома увижу, вам не поздоровится!
Как из-под земли вырос лавочник Даниэл:
– Кто к этому двору подойдет, со мной будет дело иметь! Убирайтесь, сукины дети!
Сатик слыхала, как Ваче и Даниэл отогнали парней, поздоровались друг с другом.
– Ваче, я слыхал, что ты в коммуну записался?
– Да.
– Что-то не соображу, чем коммуна от колхоза отличается?
– Не один ты, Даниэл, разобраться не можешь. Люди не знают, а разъяснения спросить не желают. Коммуна – это коммунистическое хозяйство: каждому по потребностям. Сколько б душ ни работало, на каждую душу и еда и одежка положена.
«Так вот почему Ваче в коммуну потянуло, – подумал Даниэл. – У него двое малолеток, не сегодня завтра женится, будет в семье четверо душ. Работник один, а всего получать будет на четыре рта».
– Тебе, Ваче, это выгодно, – сказал Даниэл и отошел.
Про себя он размышлял так: «Ну и негодяй! У тебя двое ребятишек, и Сатик ты чуть ли не в отцы годишься. Найди себе ровню и женись. Что молодым дорогу перебегаешь?»
А Ваче пошел к себе, думая: «Ну и разбойник! Тебе ведь ни в одном доме в невесте не откажут, потому как ты толстосум! Что ж ты счастью моему помешать хочешь?»
Они возненавидели друг друга, и каждый был убежден в том, что его ненависть справедлива.
–
Асатур сидел возле своего порога на камне, бородавки считал на руках... пять... восемь... Он срезал ветку ивы и продырявливал ее – сколько бородавок, столько и дырочек на палке. Верил в то, что, когда свирель будет готова, когда она высохнет, бородавки исчезнут.
Ему было за пятьдесят. В штанах из козьей шерсти, в ватнике. Штанины заправлены в белые вязаные носки, перемотаны веревкой. Он вытянул ноги, чтобы прохожие видели его новые трехи. Крупный нос красовался на небольшом лице. Свесит голову, и вместо головы видна папаха, вместо лица – нос.
Подошла жена:
– Асатур, давай-ка двух баранов продадим, купим матерьялу, постели обновим.
– Ну вот еще!
– Ты ведь в коммуну записался, там тебя никто спрашивать не станет, почему ты десять овец даешь, а не двенадцать.
– Ну и зануда! Вся в мать. Та, бывало, обед поставит варить, а сама за порог – лясы точить на улице. Бедный тесть из-за нее помер.
Жена взбеленилась:
– Не скажет небось, что мать моя из-за тебя померла! Я тебе сейчас курицу принесу – зарежь. Что-то курятины хочется.
– А мне, между прочим, яиц хочется.
– Завтра из коммуны придут, заберут наших кур – поглядим, кто тебе яйца нести будет.
– Коммуну не утвердят.
– А ежели утвердят?
Асатур подумал-подумал и смягчился:
– Потерпи еще пару деньков: ежели об утверждении всерьез толковать начнут, тогда зарежем.
Асатур просверлил дырочки на свирели, направился в хлев, опрокинул корзину вверх дном, чтобы встать на нее и втиснуть свирель между бревнами в потолке.
Тут появился Ваче:
– Здорово, Асатур.
Асатур протянул свирель Ваче:
– Ты поднимись – как-никак помоложе меня.
Ваче встал на плетенку, вложил свирель меж бревен, спустился.
– Асатур, Овак и матушку Наргиз в коммуну записал. Хорошо сделал – верно?
Асатур присел на корзину.
– Ну-ка разъясни, что сказать хочешь?
Ваче прислонился к яслям:
– Раз мы члены одной коммуны, стало быть, мы одна семья. Так я говорю?
– Так.
– А у Наргиз, кроме тебя, другой родни нету. Ты ей и племянник и брат. Так?
– Ну, так.
– Пойди потолкуй с ней, пусть за меня Сатик отдаст, а уж за ней самой я, как за родной матерью, ходить буду. А тебе за услугу я новый архалух подарю.
Под вечер Асатур отправился к матушке Наргиз.
– Наргиз, иди в моем доме живи.
– Ну вот еще! А сноха как же?
– Она молодая, пусть себе мужа найдет. Если за Ваче ее отдадим, он за тобой, как за родной матерью, ходить станет. Твое, конечно, дело...
У матушки Наргиз голос задрожал от гнева:
– Да ты что – заживо меня похоронить надумал?
Тысячу проклятий обрушила на голову Ваче, а Асатура просто за порог выставила. Как только Асатур ушел, она на сноху с кулаками набросилась:
– Ты, потаскуха, небось с ним уже сговорилась? Сама зазвала?
Сноха клялась, что ни словцом с Ваче не перемолвилась, Асатура же вообще давным-давно не видела. Свекровь ей не поверила. Долгое время после того случая она даже по имени сноху не называла – все окриком: «бесстыжая» да «гулящая». Сноха отмалчивалась – терпела.
Даниэл прослышал про все это – тайно порадовался: «Ну и дурак Ваче – нашел себе свата».
Овак был участником революционных боев в России. Об этом вся округа знает. А он уж, о чем бы речь ни шла, непременно свою революционную сознательность показать спешит.
Кто-то, к слову, сына отлупил – Овак тут как тут:
– Не подымай на ребенка руку. Нашими законами битье запрещено. Собственность исчезнет, и все мы будем на детей работать. Все на равных...
Матушка Наргиз купила в лавке Даниэла пять литров керосина. Лавочник ее на пол-литра обжулил, да еще и сдачи недодал. Овак со старухой направляется к Даниэлу:
– Ты, бесстыжий, старого человека обманул!
– Кто обманул? Что ты треплешься?
Овак берет меру, доказывает – четыре с половиной литра.
– Вот, гляди! Ты ограбил неграмотную гражданку!
Овак сам доливает в бидон старухи пол-литра. Та воодушевляется:
– Ты на что денежки мои тратить собрался, ворюга?
– Мелочь возврати, – требует Овак.
Даниэл озлился:
– Да это же мой собственный товар! По какой цене хочу, по той и продаю!
Овак рассвирепел:
– За нарушение правил торговли потребую закрыть твою лавку!
Даниэл тут же делается шелковым:
– Ты ведь мне кум, Овак, не сердись. Ошибка вышла, матушка Наргиз. Керосин тебе задаром отдаю. Вот твои деньги. Я ведь и тебя и кума Овака очень уважаю.
Овак постоянно ходит в гимнастерке, в шинели. Ему кажется – стоит снять военное, тут же потеряет влияние на сельчан. Износится одна гимнастерка, другую покупает.
«Надо в себе солдатскую душу блюсти, – говорит он, – а то порядка не будет...»
Папаха на вершине горы вся в дырах – из дыр вешние воды бегут. На склоне горы часовенка без купола, стены полуразрушены. Посередке лежит черный камень, весь в воске от свечей. Сюда по воскресеньям женщины приходят, жгут свечи в часовенке, режут жертвенных животных, варят их рядышком, возле ручья.
Матушка Наргиз истово молится. Чуть поодаль женщина говорит ребенку:
– Поцелуй святой камень, чтоб твоя мечта сбылась.
Овак приближается к ним, тяжело печатая сапогами шаг. Возмущен:
– Что вы делаете? Сами грязный камень облизываете, так вам мало, еще ребенка заставляете. Эх, темнота, темнота! Не знали, так знайте, камень заразный!
– Молитву мою испоганил, – брюзжит матушка Наргиз.
Однажды видят женщины, что часовенка разрушена, их подношения богу раскиданы там и сям, а черный камень скинут с горы. В один голос решили, что это дело рук Овака. Его за глаза проклятьями осыпать стали, а жену его – в глаза.
– Салвизар, чтоб тебе без благоверного остаться – он храм разрушил!
– Салвизар, чтоб тебе не разродиться, вы над верой надругались!
– Салвизар, десятерых детей родишь, и пусть все десять помрут!..
Салвизар плакала. Тайком от Овака сходила к черному камню, опустилась перед ним на колени, возвела очи к небу:
– Прости, господи, грешника...
Схватила кружевную косынку – из подношений богу в часовенке, спрятала на груди. Утром и вечером на нее молилась. А вскоре дитя зачала, добавила к косынке еще и свой подарок, отнесла в часовню.
Родила двойню. Оба мальчика померли. Один корью заболел, хворь не распознали, искупали его, он посинел и помер. Второго в колыбели змея ужалила.
Матушка Наргиз с укорами набросилась на бабу, которая Салвизар проклинала:
– Ведьма ты! Проклятия твои сбылись! Отец виноват был, а мать при чем? А дети-то при чем? Ведьма!
Та в слезы:
– Пусть на мою голову проклятье обрушится! Ведь не вправду ж я такого хотела!
Салвизар еще одного сына родила. Матушка Наргиз повитухой была. А та баба, что проклятьями когда-то Салвизар осыпала, теперь в часовенке жертву принесла – черную курицу зарезала.
– Сохрани, господи, чадо Салвизар!
Малыш был еще совсем несмышленышем, когда ребятишки, играя с ним, унесли его на берег речки. Там они резвились, потом забыли про малыша. Тот потопал к воде, набежала волна, и...
Салвизар опять понесла. Сходила к кузнецу, попросила сережки сделать. Кузнец ударил по металлу семь раз, протянул Салвизар сережки. Когда у нее родовые схватки начались, Салвизар те семь ударов молота по наковальне вспомнила: «Пусть дурной глаз меня минет».
С тех пор как забеременела Салвизар, Овак почти перестал вмешиваться в дела сельчан. Жалкий весь какой-то стал – не оттого, что в проклятье поверил, а оттого, что детишек потерял. Правда, попробуй кто-нибудь еще раз дурное слово сказать жене, на куски разорвал бы. Матушка Наргиз лоскут от его рубахи взяла, сходила в храм, помолилась и засунула лоскут в расщелину между камнями стены, чтоб бог простил грешного.
Овак завернул лаваш в тряпицу, положил в полевую сумку, в нагрудный карман спрятал заявление, посмотрел на жену:
– Салвизар...
– Уходишь?
– Ага. Я живо: завтра там, послезавтра уже дома.
– Попроси матушку Наргиз со мной побыть, а то мне одной страшно.
– Попрошу. Прямо сейчас к ней и зайду...
На улице Овака окружили члены будущей коммуны.
– Овак-джан, ты уж там получше разузнай, что нам сдавать в коммуну, что себе оставить, чтоб после недоразумений не было, – наставлял его Асатур.
– Постарайся из уездкома кого-нибудь с собой привезти. На носу весна, земля нас дожидаться не станет, – посоветовал Монархист Ваче и тут же смылся, пока никто не сообразил попросить коня для Овака.
Секунда к секунде, шаг к шагу.
– Раз – смирно!
– Два – шагом марш!
Так четко дни будут двигаться.
– Будет коммуна, и наступит равенство.
– Счастливого тебе пути, Овак!
– Доброго пути тебе!..
Равенство... До равенства надо бы еще братство принести в мир.
Рабочие Парижа побратались на вершинах Монтгомери. В сердцах их уже жила коммуна. Они наступали на город. Опрокидывали подводы, катили бочки – сооружали баррикады...
Их расстреляли в Пер-Лашезе. Коммуну убили, осталась простреленная Стена Коммунаров.
Рабочие Чикаго дружными рядами вышли на улицу.
– Равенство!
Что там прежние пожары в Чикаго! Нынче кровь полыхала. Буржуй по самую глотку утопал в крови.
Сдвинулись горы, сомкнулись в дружные ряды – объединились, образовав горные цепи. От Урала, Кавказа, Поволжья до самого Петрограда земля оказалась опоясана грядами гор, рядами людей. Босое, полуголодное, продрогшее, хлынуло братство неотступным рокочущим потоком, заполонило Россию. Овак шагал нога в ногу с другими, на плече винтовка. Приказали:
– Огонь по старому миру! Пли!
Дрогнула Стена Коммунаров в Париже.
По дорогам России двинулись братство и равенство.
Когда отзвук их докатился до Вайоца, гулко загрохотало в ущелье. И принес тот отзвук мечты о коммуне.
Никто не сомневался, кому быть председателем коммуны, если ее утвердят, – конечно же Оваку! Да он и сам это знал и направлялся в Кешкенд уверенный в успехе.
Даниэл подозвал маленького мальчонку и за две конфеты приобрел пару резвых ног.
– Узнай, куда Овак пошел.
Тот узнал, сообщил.
Даниэл присел у порога лавки и представил себя казначеем в коммуне. Он мысленно взял из ящика пачку денег и направился в свою собственную лавку. И вот Даниэл превратился в двух Даниэлов: один покупатель, другой продавец. И как ни пытался продавец надуть покупателя, ничего у него не выходило. И покупателю не удалось обдурить продавца. Тогда оба Даниэла слились воедино, чтоб обжулить коммуну. Потом он представил себя закупщиком на торговой базе в Ереване. Каких только товаров нельзя было накупить от лица коммуны, а потом... потом перепродать их в соседнем селе. И увидал себя Даниэл владельцем несметных богатств – таким, как купцы в старину. Разве ж ему при таких деньжищах в селе прозябать! Он мысленно обнял упитанную сноху матушки Наргиз и переехал в Ереван.
«Надо бы с Оваком наладить отношения. Кто его знает, что завтра будет».
Салвизар попросила позвать матушку Наргиз. Старуха направилась к ней. Даниэл видел, как она из дому вышла. «Ну, она не из тех, что скоро возвращаются». И украдкой прошмыгнул в дом Наргиз.
Сноха прихожую подметала. Не заметила, как появился лавочник.
– Сатик!..
Она испугалась, обернулась на голос, инстинктивно запахнула рубашку на груди:
– Ой!..
На мгновение перед очами выросла старуха и тут же исчезла.
– Сатик, а я к тебе пришел.
Голос его лился, обласкивал, заставлял кружиться голову. В голосе было столько мужского, что дрожь пробежала по ее телу, дрожь охватила колени.
– Свекрови дома нет. Есть тебе что сказать, ей говори, я в домашние дела не вмешиваюсь.
– Сатик, хочу, чтоб ты моей была... Честное слово... Я б тебя прямо сейчас украл, ежели ты согласна...
Она окинула Даниэла взглядом, а в ушах зазвенел крик старухи: «Потаскуха! Шлюха! Это ты его зазвала!.. Где тебя Даниэл видал? Небось подмигнула ему на улице?..»








