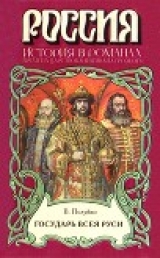
Текст книги "Государь всея Руси"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 35 страниц)
3
С тех пор как на Москве возроптали княжата Оболенские, вести о «московских делех» стали для Старицы нужней света белого. Денно и нощно бдела она о тех вестях, исхлопоталась, исколготилась, собирая их. По словечку, по слушку собирала, не чураясь ничем, даже домыслами, даже вралитиной.
А вести были разные. Ямщики говаривали:
– Шало на Москве!
Послухи Евфросиньины, наряженные во все ближние ямы[74]74
Ямы – здесь: ямские станции.
[Закрыть], не допытывались, что значит – шало? Тишком мотали на ус ямщицкие перебирушки. Но и без расспросов было ясно: неспокойно в Москве.
Купцы жаловались:
– Убытчит Москва! На каждом углу мытник[75]75
На каждом углу мытник. — Мытник – сборщик мыта (пошлины) с продаваемого на торгу.
[Закрыть]. На рубль продашь, а издержишься на пошлинах на двадцать копейных.
Иногда с опаской прибавляли:
– А и на рубль не продашь: исхудал народ... Война. Поборы.
Калики перехожие, нищие, странники-богомольцы, бредущие от города к городу, от монастыря к монастырю, воскручинивались:
– Отложились московиты от Бога! Чадь простородная кости мечет, и глумы деет[76]76
Глумы деять – лицедействовать, скоморошничать.
[Закрыть], и в корчмах опивается до обумерствия, бои кулачные учиняет великие, и смертного убойства много живёт в тех играх, и многие без покаяния пропадают. А великородные, боярове и вельможи, многими неправдами люд проторят и отщетевают, и никто же не может глас воздвигнути на те их неправды великие!
И тоже, с оглядкой, злосердным шепотком присказывали:
– Да те же боярове и вельможи из крестного целования выступают, тщась восхитити на ся власть, как было уже... И через те их умышления злокозненные грядут на землю нашу скорби великие, занеже, сказывают, государь неукротимым гневом содержим.
О царском гневе говорила вся Москва, и ждала его, и благословляла: бояре и вельможи давно уже переполнили чашу терпения московитов – и те ждали своего часа, чтоб опрокинуть её им на голову. Так что сирые странники передавали именно то, что ходило по Москве из уст в уста, и от себя ничего не домысливали. То была сущая правда!
Евфросинии правда эта не нравилась, но черни она не боялась. Знала: то – как река. Переть против её течения, перегораживать плотиной – опасно! Но ежели заранее подготовить русло – она потечёт туда, куда нужно. Так уже было. В год, когда Иван отгулял свадьбу с Анастасией Захарьиной, случился на Москве великий пожар[77]77
В год, когда Иван отгулял свадьбу с Анастасией Захарьиной случился на Москве великий пожар. — Свадьба Ивана IV с Анастасией Захарьиной состоялась 3 февраля 1547 г.; в апреле того же года произошёл великий пожар, и хотя Москва горела часто, но на этот раз огонь свирепствовал как никогда. Народу сгорело 1700 человек.
[Закрыть]. Полгорода выгорело с посадами и слободами, выгорело почти всё и в Кремле: сгорели Чудов и Вознесенский монастыри, царский двор, митрополичий, Казённый двор, сгорела Оружейная палата, Постельная – со всей царской казной, погорели церкви, соборы, народу сгорело – тысячи... Такого пожара Москва не знавала никогда!
И закипела, забурлила чернь, выхлестнулась неистовым половодьем на площади и улицы – жутко стало, жутче, чем во время пожара. Но уже было приготовлено русло. Боярин Иван Петрович Челяднин да князь Фёдор Шуйский, приехав к митрополиту Макарию в Новоспасский монастырь, куда его увезли, спасая от огня, стали говорить, что Москва погорела волшебством. Говорили митрополиту, но знали: говорят всей Москве. И верно, уже на другой день понеслась по столице жуткая и ещё более растравляющая молва, что чародеи вынимали человеческие сердца, мочили их в воде, водой той кропили по улицам и домам – оттого Москва и сгорела.
Теперь оставалось главное – направить эту грозную реку по нужному руслу, направить так, чтобы она сделала всё, что хочет и может сделать, но не больше того, что задумано теми, кто приготовил для неё русло.
Сделали и это. Когда царь решил разыскать, отчего Москва погорела (кто-то же присоветовал ему такое!), и бояре, которым это было приказано, приехали на площадь к Успенскому собору и стали спрашивать у собравшихся там чёрных людей, кто зажигал Москву, из толпы закричали:
– Княгиня Анна Глинская с детьми своими волхвовала! Вынимала сердца да в воду клала да тою водою, ездя по Москве, кропила! Оттого Москва и выгорела!
Те, кто кричал это, непременно должны были быть в пособниках – вынимать сердца или, на худой конец, класть их в воду, – иначе откуда они могли знать такое?
Но толпе нет дела до таких тонкостей, и те, кто вложил в уста кричавшим эти слова, тоже знали, что толпа не станет раздумывать о таких вещах, тем паче когда один из Глинских стоит перед ней и сам допытывает: кто Москву зажигал?
Глинских на Москве ненавидели больше всех, и направить на них толпу, обратить на них весь её гнев не стоило большого труда. Достаточно было одного лёгкого толчка, и вся накопившаяся, набродившая ярость толпы обрушилась на них с ужасающей силой. Три дня чернь вымещала злобу на Глинских: разгромила, разграбила их усадьбы, перебила всю дворню, а потом двинулась с рогатинами и дрекольем в село Воробьёве, к самому царю, – требовать, чтоб он выдал им свою бабку Анну Глинскую, которую будто бы прятал у себя в покоях. Но тут уже духу не хватило: за три дня перегорели, выярились, самая матерущая злоба схлынула, а с ней и решительность – и дрогнули, поколебались. Немало поворотило назад... Река превратилась в ручей, и ручей остановили. Настал час расплаты. Много голов послетело с плеч; те, что готовили русло, приготовили и плахи.
Нет, черни Евфросиния не страшилась, и настроения московских низов не волновали её. Её волновали верхи – бояре, княжата, волновала их извечная разобщённость, непреодолимый разлад в их стане. Никогда и ни в чём у них не было согласия, и что бы они ни затевали, что бы ни замышляли – правое иль неправое, во вред ли престолу или на пользу, во что бы ни ударялись – в противу или в угодничество, – во всём у них был разброд, суета и раздор. Вот и сейчас: Оболенские поднялись, а другие осторонь – медлят, выжидают, осматриваются, раздумывают... Что ж, бездумность вредна во всяком деле, а в таком и подавно. С этим Евфросиния соглашалась: бездумный – как слепец, на первой кочке споткнётся. Но неужто ж доселе не случалось задумываться и неужто ж одним Оболенским так невмоготу? Неужто же только их так обозлил и возбудил против себя Иван, а более никто не таит на него ни обид, ни зла, ни праведного гнева? Неужто же все остальные в мире и согласии с ним н по-прежнему готовы терпеть от него всё, что истерпели досель? Неужто же?!
Ходить далеко за ответом Евфросинии не нужно было – она знала, что это не так: у неё имелись давние и прочные связи среди московских бояр, правда, не столь действенные, как ей хотелось бы, но искренние, без лукавства и тёмных вод в облацех, и она ведала, чем дышат они и в каком варятся соку. Их души были открыты ей, и она смотрела в них как в себя. Однако рядом с тем, что их с ней единило, в их душах и умах жило другое, у каждого своё. Вот это самое своё и заставляло их медлить, выжидать, осматриваться, юлить, хитрить... Оно, это своё, пуще всего боялось прогадать, остаться позади, но ещё пуще боялось преждевременно очутиться впереди. Да и разве ж только боялось? А сколько жаждало оно?! Всех сущих на свете благ, должно быть, не хватило бы утолить сию жажду. И всё это было глубинным, коренным, это была крепость на главных рубежах души, крепость, которую защищают неистовей всех остальных, порой – до смертного конца. Была эта крепость и в ней самой – неприступная, неодолимая. Но свою она считала необходимой и полезной, ибо то, чем была полна её душа, нуждалось именно в такой твердыне. Она должна была быть решительней, непримиримей, бесстрашней, мужественней, праведней всех – и не только для себя самой, но и для тех, кто дрогнет, устрашится, разуверится, смирится... И всё это есть в ней – и мужество, и бесстрашие, и стойкость, и непримиримость, – и крепость её, быть может, самая неприступная, но неприступная только для врагов, а для друзей, для союзников она отверста, и каждый из них может войти в неё. Ей же путь в их крепости заказан, и никакими подступами, никакими ухищрениями ей их не взять. Своё превыше и святей всего!
О том же сообщал ей и боярин Щенятев – её дальний родственник по патрикеевской линии и неизменный и давний сообщник по тайным козням против Ивана. Он словно знал, как страдала Евфросиния от скудости вестей из Москвы, и ухитрился переслать ей грамотку. Писал осторожно, не называя имён, не вдаваясь в подробности, местами и вовсе тёмно, намёками, – ни единого лишнего слова не положил на бумагу. Да пришли он совсем чистый лист, Евфросиния и тогда б поняла, что он хотел ей сказать.
Грамотке этой она обрадовалась необычайно. Читала и перечитывала её несколько дней кряду – благо за своё долгое вдовство обучилась грамоте – и вскоре знала её наизусть. Ночами, в бессонной взбудорже, вновь и вновь перебирала в памяти слово за словом, ища что-нибудь ещё, ранее не разгаданное, ускользнувшее от её внимания. Ей казалось, что это неразгаданное как раз и есть самое главное из всего, что стремился сообщить Щенятев, и она снова и снова с ещё большей кропотливостью принималась плести в своей голове самые замысловатые кружева.
Щенятев писал в грамотке, что первая пороша – не санный путь и она не торопилась бы закладывать лошадей, ибо лошади с норовом, в одной упряжке ходить не приучены, – и она понимала: Оболенские пока в одиночестве, другие их не поддержали, не поддержат и её, и пусть она не торопится перезывать их на свою сторону. Не время, выходит, ещё!
«Как раз и время! – возмущалась Евфросиния. – Лучшего уж не выждать. Огонь занялся, нужно его раздувать, а не ждать, покудова он сам разгорится. Сам он не разгорится. Ивашка его пригасит, затопчет».
Собой была довольна: не сидит сложа руки, не уповает на журавля в небе и не обжидается ещё каких-то (каких уж?!) пущих времён. Может, они и будут, и наступят когда-нибудь те времена – самые лучшие, самые благоприятные, но ей уж ждать невмоготу. Да и дождётся ли она? Век человеческий короток, и где ей положен предел – неведомо. Она своё отождала. Теперь – пора действовать! Теперь или уж никогда!
Щенятев и сам намекал ей на это и обращал её взор в иную сторону от Москвы – туда, где есть «кони похутче, нежели московские златокованые иноходцы». Знала она, где водятся эти кони и из какой реки пьют они воду, – из Волхова.
И опять воздала себе: без подсказок, сама, и давно уже, обратила туда свой взор. Правда, не всё пошло так, как задумывалось. Дмитрий Куракин по-своему повернул дело. Она и сама было засомневалась, но теперь все сомнения отброшены прочь. Помрёт Макарий, не помрёт, станет Пимен митрополитом, не станет – это теперь не имело для неё никакого значения. Она рассудила так: чем раньше придёт к Пимену её грамота, тем с большим доверием отнесётся он к ней и тем, быть может, быстрей удастся наладить с ним отношения, Л принять грамоту он примет! И доносить не станет! Она всё взвесила, всё продумала: не станет, потому что ему твёрдо, через крестное целование, будет обещано святительское место, и в случае успеха он его получит, а вот получит ли он это место от Ивана, даже за такую великую цену, как предательство, – этого Пимен не знает в не будет знать до самой последней минуты. А раз не будет знать, то и торопиться не будет: выждет, посмотрит, куда всё поворотится и к чему придёт, а обещание её придержит про запас – вдруг оно окажется последней и единственной возможностью взойти на святительский престол. А уж потом, что бы там ни случилось и как бы всё ни обернулось – даже если Иван и сделает его митрополитом, – доносить станет уже опасно, ибо каждый день промедления будет работать против него самого.
Евфросиния всё взвесила, всё продумала: не станет Пимен митрополитом, значит, будет с ней, а и станет – всё равно будет с ней, потому что нить, которая свяжет их, неразрываема. Избавиться от неё, покуда они живы и покуда жив Иван, почти невозможно – ни ей, ни ему. Но если для Пимена эта нить – путы, то для неё – вожжи, которыми она возьмётся управлять им. Правда, Евфросиния не обольщалась мыслью, что самому Пимену это будет непонятно, и не рассчитывала на это, да и не облукавить его она стремилась. Она знала, чем это чревато, и если сама готова была пойти на всё, не щадя даже жизни, то от других хотела единственного – чтоб понимали, на что идут, чтоб шли сознательно, влекомые своим, присным, а не чужим обманом, который всегда можно одолеть новым, более искусным и который, как и подкуп, всегда палка о двух концах. Того же самого она хотела и от Пимена (от него особенно!) и рассчитывала, что он сознательно станет на её сторону. Её посулы должны были только разбередить, подстегнуть, взмутить в нём то самое своё, присное; а у него имелись собственные счёты с Иваном. И крупные счёты! Кто-кто, а уж Пимен претерпел от Ивана немало. Не камень – глыба лежала в его душе! И вот эта глыба, а не её посулы, должна была склонить Пимена на её сторону. Она знала, как сильно в человеке чувство мести, – не то, слепое, яростное, окровавленное чувство, которое накатывается в первые мгновения после нанесённых обид и оскорблений, а то, что незримо тлеет в душе долгие годы, тлеет и не истлевает, – и вот это чувство способно толкнуть человека на что угодно, заставить его презреть любые опасности, даже смерть. Сама она давно презрела ee! А ведь её чувство могло и не быть самым сильным. Она допускала, что сила этого чувства мало зависит от степени причинённого зла. Одно-единственное бранное слово может заронить в душу такую обиду и такое чувство мести, что все силы земные и небесные померкнут перед ним. Всё зависит от того, какая душа, каков человек! Евфросинии казалось – Пимен из таких. На это она и рассчитывала.
Мысль о Пимене была главной. Но вместе с тем Евфросиния уже давно и неотвязно думала ещё об одном человеке, который сейчас томился в ссылке на Белоозере, – о князе Михайле Воротынском. В нём она тоже подозревала такую душу. Должно быть, то же самое подозревал и Иван, ибо уж очень странной была ссылка князя; как будто не за провину наказывал его Иван, а за свой страх перед ним.
Видать, о нём же, о Воротынском, намекал Евфросинии и Щенятев, писавший о доблестном муже, «в изгон пострадавшем, который умом вельми мног и ратному делу искушён превыше всех». Евфросиния поначалу посетовала было на Щенятева, что он написал ей такое о Воротынском, как будто она сама не ведала, что князь Михайло лучший на Москве воевода, но потом поняла: Щенятев хотел обратить её внимание именно на это достоинство Воротынского – на его искушённость в ратных делах, которая – как знать?! – могла очень даже пригодиться. Но для этого – уже сама домысливала Евфросиния – нужно сделать так, чтобы в урочный час воеводу можно было вызволить из застенков Кирилловского монастыря. Дело это, правда, было не простое, но уж если Евфросиния задумывала поднять Новгород, то ничто уже не могло её смутить.
Она решила посоветоваться со своим первым боярином – князем Петром Пронским. «Дело не бабьего ума», – сказала она себе и, оставив в покое свою главную советчицу Марфу Жулебину, позвала на совет Пронского. С великой неохотой, однако, позвала, долго раздумывая и колеблясь. Не доверяла она до конца Пронскому. Сама не знала почему, но не доверяла. Сидел в глубине души у неё маленький червячок сомнения и никак не исчезал. Она порой просто-таки разъярялась на себя: не доверять Пронскому, Пронскому-то! Мало того, что он возглавлял удельную боярскую думу, за которой было немало тайных дел, противных московской власти, он к тому же ещё был её родным племянником, сыном её старшей сестры Фетиньи, а единокровные узы очень крепки.
Но разве же только родственные узы и службу самого князя Петра можно было положить на мерила? А службу его отца, прослужившего в Старице большую часть своей жизни? А самоотверженную службу его дяди – Фёдора Пронского, до конца оставшегося верным Андрею Старицкому и принявшего вместе с ним смерть? Правда, его сын Константин предательски бежал из стана князя Андрея и присоединился к великокняжескому войску, пришедшему подавлять удельный мятеж, но в семье, как говорится, не без урода. Предательство сына нисколько не умаляло заслуг отца. Однако, может быть, как раз это предательство и зародило в душе Евфросинии того самого червячка? Мог он зародиться и от другой причины: сам Пётр Пронский, прежде чем был дан в удел, долго служил Ивану, и служил на высоких службах – бывал и в первых воеводах, и головой в царском стане... В удел шёл неохотно – эта служба была менее почётна, чем царская, – но, придя, служил ревностно и даже взялся помогать Евфросинии в её кознованиях против Ивана. Помогал не для виду – по-настоящему помогал, рискуя головой, но Евфросинию и это не убеждало. У неё было своё объяснение поведению Пронского: ей казалось, что он просто мстит Ивану за то, что тот отдал его в удел, а истинной, глубинной ненависти к нему в нём нет. Стоит Ивану забрать его назад, и он станет служить ему ещё ревностней, ещё истовей, и не от любви, что было бы простительно, а из благодарности и из-за этой своей тайной вины перед ним.
Так думала Евфросиния, и червячок оставался. Всякий раз, как только она затевала какую-нибудь очередную крамолу и намерялась привлечь Пронского, червячок этот начинал шевелиться в ней, но обойтись без своего первого боярина она не могла, да и слишком далеко уже всё зашло, чтоб поворачивать вспять.
С этого она и начала разговор с Пронским.
– Думала я туто, князь, об одном деле, – сказала она ему с притворной удручённостью, – тебя собралась привлечь... Да нашло на меня сомнение: идти ли тебе со мною и далее? Идти ли, княже? Мне, знамо, терять нечего, а ты ещё можешь поворотить назад.
Они сидели в брусяной палате, где Евфросиния в обычай принимала своих бояр и дьяков, приходивших к ней с докладами, и потому как будто не таились. Даже золочёные двери между палатой и белыми сенями были отворены настежь. Но в этой-то открытости, явности и состояла хитрость утайки. Уединись она с Пронским где-нибудь у себя в покоях, и уже на другой день начали бы шептаться об этом по всему дворцу, а затем и по всей Старице. С каждым днём Евфросинии становилось всё трудней и трудней сохранять свои тайны, вот и шла она на всякие ухищрения, отводила глаза, обманывала уши...
– Поворотить, тётушка, не велика нужа, – бесстрастно проговорил Пронский. – Знать бы токмо, где зад, а где перёд?
– Лукавишь, князь. Таковые разговоры от лукавого.
– То ты лукавишь, тётушка, а я искрен. Ей-ей! Истинно: где тот зад? Коли знаешь, поведай, а я рассужу: поворотить мне назад иль идти за тобою далее?
– Они в тебе, те перед и зад, в твоей душе! – властно и недовольно возвысила голос Евфросиния, как будто обвиняла Пронского в чём-то.
– Так бы и спрашивала, что в моей душе, коль усомнилась в ней, – с прежней невозмутимостью сказал Пронский, глядя, как в сени осторожно, воровато вошёл Владимир. Не заметив поначалу, что противоположная дверь в палату открыта, он уже было двинулся, крадучись, дальше – и вдруг, будто наступил на что-то острое, вытянулся, замер. Пронский и Евфросиния в четыре глаза смотрели на него.
С трудом одолев растерянность, Владимир медленно, валко – от схлынувшей в ноги оторопи – вошёл в палату и остановился у порога, явно не зная, как повести себя и что сказать.
– Ужли ищешь кого, князь? – участливо, снисходительно спросила Евфросиния. – Не меня ли?
– Ах, матушка, да пошто мне тебя искать? – неожиданно вспылил Владимир. Снисходительность матери только сильней унижала его. – Занять себя нечем, вот и брожу... ищу дела.
Евфросиния заметила, как в глазах Пронского промелькнул смех. Ей и раньше случалось видеть этот его смех, холодный и отчуждённый, как у иноверца, взирающего на чужих, не властных над ним богов; и, быть может, это тоже не давало исчезнуть её червячку.
– Буде, наши дела тебя займут? Сядь, послушай.
Владимир с недоверием посмотрел на мать, на Пронского: лукавят не лукавят – поди разберись! Не разобрался. Хмыкнул:
– Да о чём вы тут?! Об оброках, о пошлинах... Скучно.
Вяло махнул рукой и пошёл прочь.
– Приходил подслушивать, – сказала Евфросиния, когда Владимир ушёл. Сказала не в осуждение, а чтобы доказать Пронскому своё единодушие с ним.
Глаза Пронского опять тронул смех.
Евфросиния помолчала, стараясь не встречаться с ним взглядом, поразмыслила о чём-то, тихо, примирительно сказала:
– А в твоей душе мне с чего усомниться? Тобой движет своё, присное, а не мои подкупы либо прельщения.
– Я о том себя не допытывал, чем движусь. Нет нужды.
– Я також не допытываю, – снова осердилась Евфросиния. – Не позвала б, кабы усомнилась. Эка, взбрело тебе в голову!
Разговор никак не получался. Пронский как будто намеренно сбивал её с мысли, тянул куда-то в свою сторону – в мудрёное, заумное, а ей ничуть не хотелось состязаться с ним в заумии. Не для того она призвала его.
– Мысли мои об ином: час урочный приспел и зазвонный[78]78
Зазвонный – первый, с которого начинают звон.
[Закрыть] колокол уже прозвонил! Теперь – либо в стремя ногой, либо в пень головой! Да своя голова меня не тревожит. Об иных думаю...
– Коли все поворотят назад, кто ж с тобой-то останется, тётушка?
– Все не поворотят. – Евфросинию задело и это замечание Пронского, но она сдержала себя. – Которые сами пошли, те и далее пойдут... О тех думаю, которых повела!
– Я, стало быть, из тех?
– Ты не из тех... Сказала уж: своим движешься, присным. Вижу сие и радуюсь! Да ве́ди ты мне родной, после Володимера да внучат кровней тебя нету! Станется лихо, так хоть тебя да Володимера уберечь. Я изопью свою чашу, а вас бы с ним охранить.
Но Пронского и это не проняло. Не получалось нынче у Евфросинии задуманное, не удавались тонкости привычной для неё игры, и Пронский легко разгадывал её уловки. Но даже и там, где она была искренна, он тоже подозревал хитрость и не верил ей. Это было видно по его ехидной невозмутимости, которая больше всего другого раздражала Евфросинию. А как же хотелось ей поддобриться к нему, подкупить, тронуть своей охранительной заботой, открыть этим ключиком его душу, которая всё ещё оставалась для неё загадкой, и, быть может, избавиться наконец от всех своих сомнений и недоверия к нему или уж утвердиться до конца. Очень хотелось, да вот не получалось.
– Кабы и вправду хотела уберечь, не позвала бы, – усмехнулся Пронский.
– Потому и позвала, что хочу уберечь, – не сдавалась Евфросиния. – Могла и иначе поступить: ты делал бы и не ведал, что делал. Ве́ди могла же?
– Могла, – согласился Пронский, но вряд ли хоть чуть поколебался. Казалось, у него и на это имелось возражение, да он почему-то сдержался, не высказал его.
– Позвала, чтоб тебя самого спросить, не утаив, что веры в успех своего дела во мне самой не больно много. Сомнений куда больше.
– Вот как?! – удивился Пронский. Этого от Евфросинии он, видать, и вправду не ожидал.
– Буде, скажешь, и тут лукавлю? Но ты не хуже меня знаешь, как мало у нас надежд. Ивашку можно одолеть токмо одним – единством. Но как раз единства-то нам и недостанет. Мы можем поднять Новоград, Псков, мы можем собрать там большое войско и поставить во главе его лучшего московского воеводу – князя Михайлу Воротынского...
– Воротынского?! – такого и вовсе не ожидал Пронский.
– О нём и собралась с тобой говорить. Да, Воротынского. Мы можем вызволить его из заточения и дать ему войско... Но никакое войско, никакие воеводы и их самое высокое ратное искусство не принесут нам победы, ежели мы не поднимем супротив Ивашки всех, всю Русь.
– То ты больно широко размахнулась, тётушка. Всю Русь тебе николи же не поднять. Бо неведомо, за кого она, та всея Русь? Может, она и супротив тебя, и супротив его? Да и что оно такое – всея Русь? Как ты её себе представляешь?
– Всея Русь – то святая правда, князь. А она, правда, всегда супротив тех, кто попирает eel Приходит час, и она восстаёт на неправых и злобных!
– То всё, тётушка, красные страсти. Святая правда, всея Русь! Всея Русь тем и не годна для образа единой святой правды, что она – всея. Тьма-тьмущая душ на её просторах и такая же тьма-тьмущая правд, и в Рязани, как сказывается, не плачут по псковскому недороду.
Евфросиния даже вздохом боялась перебить Пронского. Опустила глаза, как провинившаяся, и внимательно слушала, торжествуя в душе, что наконец-то удалось пробить его невозмутимость.
– И не правда святая восстанет на него, а зло. Извечное человеческое зло, – продолжал решительно Пронский, не замечая резкой перемены в Евфросинии. – И ты потщись ещё пуще, ещё яростней ополчить то зло, оставив свои красные страсти и пустые упования. Иначе все отвернутся от тебя... Даже я!
– И ты? – тихо, смиренно переспросила Евфросиния.
– Да како ж иначе? Какая ты вождевица, ежели не веришь в успех своего дела? Кто же захочет связывать с тобой свою судьбу? Посуди сама!
– И что, буде, даже предашь меня? – совсем без тревоги, спокойно спросила Евфросиния, будто и в самом деле ей это было безразлично.
Пронского словно хлестнуло это её спокойствие. Он пристально посмотрел на неё, всхмурился, тяжело, неприязливо выговорил:
– Даст Бог, уберегусь сего греха.
Теперь Евфросиния твёрдо знала: не убережётся.


![Книга Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного] автора Елена Арсеньева](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zheny-groznogo-carya-garem-ivana-groznogo-213715.jpg)





