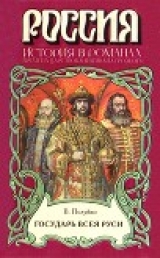
Текст книги "Государь всея Руси"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 35 страниц)
– О Володимере, государь, я и слова от князя не слыхивал, – молитвенно вымолвил Бельский. – Буде, тайно, в душе, князь и держал такое, но со мною он тем не делился. Клянусь тебе, государь!
– Васька, сяду! – вдруг вскрикнул Иван, и так, будто уж валился с ног.
Васька от неожиданности растерялся, и Малюта опередил его, подставив Ивану опрометную скамью[186]186
Опрометная скамья – скамья с перекидной спинкой.
[Закрыть]. Иван сел, откинулся к спинке – бессильный, изнеможённый. Казалось, не поспей Малюта, промедли ещё чуть, и он вправду не удержался бы на ногах. И лишь очень проницательные глаза, часто и подолгу наблюдавшие за ним, разглядели бы за этой изнеможённостью, за этим кротким бессилием страшную, сжавшуюся в ком силу и ярость – силу и ярость затаившегося перед прыжком хищника. Но таких глаз не было ни у Бельского, ни у Мстиславского, ни у Челяднина; такие глаза были у Левкия, потому-то и возвратилась на лицо святого отца блаженно-наглая ухмыль, которую он уже и не подумывал скрывать.
– Об чём же тогда он с тобой говорил?
– Да ты ведаешь, государь... В Литву он меня сговаривал. И ещё... – Бельский замялся.
– За Литву я тебя уж давно простил. А ещё?
– Ещё... – Бельский тяжело вздохнул, колеблясь и медля с ответом, словно вдруг усомнился, что Ивану известно всё.
– А ещё велел слати на стогны[187]187
Стогны – площади города.
[Закрыть] шепотников, – подсказал Иван. – Чернь мутить, крымчаком стращать, чая вновь, как в тот бедственный год, коли Москва погорела, смятение учинить и бунт завести, дабы нашу войну от Литовской земли отворотить.
– Не отрицаюся и сего... И сей грех на моей душе.
– На его душе, – жёстко поправил Иван, – Бо ты по его мысли ходил, его наущениями побуждался. Неужто ты заводил измену? Неужто ты лазутчеством ссылался[188]188
Лазутчеством ссылаться – заниматься шпионажем.
[Закрыть], получая закрытые листы от Жигимонта да от гетмана Радзивилла?
– Не получал я закрытых листов. То ты верно речёшь, государь, – обрадовался Бельский.
– Вот! – обрадовался как будто и Иван или только сделал вид. – И не к тебе был сылан монах-камянчанин Исайя, что пришёл к нам из Литовской земли в свите гречина-митрополита.
– Не ко мне, государь, истинно не ко мне.
– К нему, к наустителю твоему, шёл Исайя, да к братцу нашему, к Володимеру. Сложились они на меня и учали плодить измену. Коли мы на дело своё в Литовскую землю пришли и к Полоцку подступили, тогда побежал из стану из нашего тысяцкой Хлызнев-Колычев, племянник того самого Колычева, воеводы старицкого, что был в сторожах на заде[189]189
В сторожах на заде – командовал арьергардом.
[Закрыть] в мятежном войске отца Володимерова. А чего ради побежал? Кровь израдницкая позвала?
– Того я не ведаю, государь. Вот те крест!
– Не ведаешь – верно. Как тебе было ведать, в темнице-то сидючи?! Я и не тебя спрашиваю. То вопрос рассужденья моего. Я добре вем, чего ради тот Хлызнев побежал. Володимер его направил. Да! – прибавил Иван твёрдости голосу, заметив, что и безучастный Мстиславский вдруг насторожился. – Но вот с чем? С чем направил он его к Жигимонту? Теперь уже тебя спрашиваю. Отвечай!
– Да како мне про то ведать, государь? О Володимере меж нас с князем и помину не было. Клянусь тебе!
– Клянёшься?! Лыгаешь ты, собака! – вдруг прорвало Ивана. – И клятвы твои – лживые! Вот, боярин, – разом оставив гнев, со скорбной удручённостью, обратился он к Челяднину. – Вот за кого ты душу хотел положить и вот покаянием перед кем я жаждал свою облегчить! Мнил, соединюсь с ним искренностью сердец наших и отрясу от себя печальную слепоту[190]190
Отрясти печальную слепоту – избавиться от сомнений.
[Закрыть]. Но что получил я? Лживые клятвы!
– Но, буде, и вправду не ведает он? – не поддержал его Челяднин, хотя в душе был почти согласен с ним.
– Не ведает?! – рассмеялся Иван, снисходительно и надменно, как смеются над тупостью или наивностью, и, будто затем лишь, чтоб ещё сильней потешить себя, спросил: – И ты тако ж мнишь, Мстиславый?
Мстиславский знал, что и его не минет внимание Ивана, ибо и он был на подозрении, и в нём Иван мог поискать какую-нибудь недостающую ниточку (если не главную!), без которой не распутывался весь клубок. Поэтому Мстиславский внутренне изготовился к любой неожиданности, к любому самому коварному его выпаду, зная, что ум на ум ему с ним тягаться под силу. И всё же вопрос Ивана застал его врасплох. Душа его, как и прежде, похолодела от страха: что бы там ни измыслил он, всмотревшись в своё и чужое ничтожество, какой бы охранительной силы ни обнаружил, полностью избавиться от страха перед Иваном он не сумел – страх этот оказался сильней любых умозаключений. Но всё равно, это был уже не тот страх, который мог сковать его мысли.
– Будь рассудителен до конца, государь, – ответил он, намереваясь обернуть против Ивана его же собственное оружие. – Ежели ты поверил Даниле, поверь и князю Ивану. Не веришь князю Ивану, усомнись и в Даниловой правде. Данила спасал свой живот, и паче естества[191]191
Паче естества – сверх меры.
[Закрыть] мог всех оговорить.
– Кого – всех?
Мстиславский переждал, покуда схлынет горячая волна, накатившаяся на него: из холода его бросило в жар от такой дурацкой оплошности.
– Того я не ведаю, государь.
– А что ведаешь?
Иван помедлил, ожидая ответа, и столько было спокойного торжества в этом его надменном ожидании, и столько уничтожающего хладнокровия, что казалось, не нужен ему был никакой ответ, а ждал он от Мстиславского лишь одного – немедленного покаяния.
– Ты вызвался быть свидетелем его души. Стало быть, ведаешь его душу, ведаешь, что таит он в ней? Вот и расскажи, посвидетельствуй...
– Я хотел быть свидетелем токмо в едином... В том, что князь Иван жаждал притечь к твоим ногам и покаяться. И ты видишь сие...
– Я вижу то, что явлено моим очам. А что сокрыто от них? Что?! Коленопреклонённость – то ли довод истинного покаяния? Не ты ли сам убеждал меня, что коленопреклонение – лише образ? Что так и каются, и так изображают покаяние? И вижу я, что князь Бельский лише изображает покаяние. Не душу свою он принёс мне, а лукавство своё. И ты, заступник его, знаешь сие, бо и сам – говоришь направо, а глядишь налево.
– Да в чём же лукавство моё, государь? – взмолился Бельский. – Я сознался в тягчайших грехах пред тобой... А про князя про Володимера да про Хлызнева того, ну, не ведаю, государь!
– Про Хлызнева не ведаешь – верно, сказал уж... Ты про себя ведаешь. С чем намерился ты... да тот подлый приспешник поповский Курлятев, – с чем намерились вы явиться к Жигимонту? Какой платой хотели заплатить за его королеву любовь? Великою платой! Вы замыслили передать Жигимонту мои города порубежные взамен тех, что он вам посулил на прожитие. Да! – пресёк Иван робкий протест Бельского. – Замыслили! И гораздо в том деле израдном успели. Свои души запродали и чужие перекупили. Воевод наших в тех городах за себя запустили[192]192
Запустить за себя – сделать своими сторонниками.
[Закрыть] и израдою поверстали. Вот с чем намерились вы явиться к Жигимонту! Да егда я вас за ваши вилявые хвосты ухватил да на цепь, как собак, посадил, вот тогда вместо вас и послал Володимер Хлызнева – города те, где вы измену пустили, Жигимонту объявить. И не по мнозе учинилась мне весть, что пошли к Стародубу воинские люди литовские, а пошли по ссылке с воеводою стародубским. В Стародубе, с Божьим допоможением, вывели мы измену. А иные какие города ещё замышливали вы передать Жигимонту?
– Нет, такового мы не замышливали. Развяжи сей грех[193]193
Развязать грех – снять напрасные подозрения.
[Закрыть], государь, – порешительней, с некоторой – даже неожиданной – твёрдостью встал на свою защиту Бельский. Обвинение, выдвинутое Иваном, не оставляло ему иного выбора: он должен был либо сознаться во всём до конца, если и вправду задумывал такое, либо защищаться, но защищаться уже не мольбами и уверениями в невиновности, с заламыванием рук и ползаньем на коленях. – Воротынский... Княж Михайло Воротынский, знаю... Намерялся податься к королю со своими вотчинами... С теми, что на рубеже литовском...
– Про Воротынского ведомо. Ты про себя речи.
– А чтоб города сдавать... Нет, такового мы не замышливали. Не замышливали, государь! – ещё твёрже повторил Бельский. – И князь на таковое нас не подбивал, и король князю про таковое не писывал, чтоб ему города твои порубежные передать. А писывал король, чтоб твою войну всякими обычаями от лифляндской земли отворачивать. Да как нам было её отворачивать, коли сами ходили туда воеводами?
– Отворачивали, не юли! – Иван сказал это так, словно и сам стыдился сознаться в этом. – Коли Силивестришка-поп препустил в нашу ближнюю думу Димитрия Курлятева, так и повелись ваши злобесные претыкания. Каковых токмо вражб и кознований не измышливали! А поп с Алёшкой с Адашевым во всём вам были потаковники. Не поддайся тогда я на ваши советы лукавые, земля немецкая уж давно бы за нами была.
– Ох, истинно, государь, – вздохнул Левкий со злорадным облегчением, словно вдруг выместился за что-то такое, самое-самое, от чего давно крючило ему душу.
– Горькая истина! – понял и принял Иван скрытый упрёк Левкия, упрёк дерзкий, ядовитый. За подобные штучки в иное время святому отцу не миновать бы изрядной взбучки, но сейчас Иван простил своему непочтительному наперснику и принял его язвительный упрёк, потому что он тоже работал на него. – Забыл я добрый завет апостольский: кому отдаёшь себя в рабство для послушания, того ты и раб. Но как, как мне было не внять тем советам?! Как сердце противу их ополчить, коли верил я им?! Верил, в простоте своей убогой... И любил! Вот напасть, любил, чая, что и духом, и помыслами, и устремлениями едины со мной. А более всего ему верил – князю! Ему, как немногим, думы свои поверял и душу свою, в разладе с самим собой держа, с его душою уравнивал... Кто более был пестован моим излюблением? Яко же один из вернейших, он был в чести, в богатестве, во славе! Нелепо было даже завидовать славе той, как нелепо завидовать солнцу. И зла и гонений напрасных он от меня не приял, и бед и напастей на него не воздвиг я, а кое наказание малое бывало, и то за его преступление, понеже согласился он с нашими изменниками. Согласился... – Горькая усмешка не сокрыла горькой слёзы на лице Ивана. – О святая убогость блаженных духом! О горький удел доверчивых! Како же ему было не согласиться, коли он сам, сам – первейший изменник, начальник всем вражбам и противлениям! Ох мне, скверному! Горе мне, окаянному! Не возьму себе в разум: чем, чем ещё худо ему в отечестве своём?
– Да где оно, отечество его, государь?! – удивлённо, с тонкой прозвучью лицемерного осуда, который – как знать! – мог смягчить суд над ним самим, воскликнул Бельский.
– Здесь его отечество, на Руси! – сжал Иван кулаки. – Здесь – корень его! Он Рюрикович! Ветвь его Мстиславова старше даже моей... Потому, буде, и худо ему в отечестве, что старшинства забыта не может.
– Государь?! – Глаза Бельского расширились – точно так же, как и в тот миг, когда Иван склонился над ним, чтоб поднять с колен. Но тогда в них было живое доверчивое просветление, отзывчивость, а теперь – недоумение и ужас. – Ве́ди ты... О ком ты, государь?! Я тебе о, князь Димитрии...
– Вот, государь, вот! – подхватился со своего места Левкий. – Аз уж давно приметил, что ты ему про Фому, а он те про Ерёму. Виляет душой боярин, заминает правду-истину. Они все, все, меж собя свестись[194]194
Меж собя свестясь – сговорившись между собой.
[Закрыть], изнамерились обвести тебя! – митусился Левкий. – И сей! И сей! И сей! – ширял он обличающим перстом в Бельского, в Мстиславского, в Челяднина.
Бельский, смятенный от своей неожиданной и ещё не вполне ясной догадки, совсем сник от этого яростного наскока Левкия. И вправду, было что-то зловеще-безысходное, залавливающее в неистовом кликушестве черноризца, словно чей-то жестокий дух или жестокая воля, приняв его облик, явились с мстительным наветом.
Помрачнел и Челяднин. Тяжёлая истома ещё пуще обложила его чело. Обличающий перст Левкия, вонзившийся в него, только прибавил ему этой истомы, которая давно уже затекла в его мозг как тяжёлый, густой раствор или расплав, и он почти уже застыл, затвердел, превратившись в сплошной тяжёлый ком. Оставались лишь какие-то мельчайшие поры, где ещё сохранялись мысли, но это были не те мысли, которые могли помочь разобраться в том, что видел и слышал он. Ему, впрочем, и не хотелось сейчас ни в чём разбираться. Он ничего не понимал и не хотел ничего понимать. Было лишь одно смутное и тягостное ощущение, что, подобно пыточному колесу, крутится какое-то зловещее недоразумение и крутит вместе с собой не только их, тех, кто сейчас здесь, в опочивальне, но и тех, которых тут нет, которые ещё ничего не знают, не предчувствуют – безымянных, безликих, покуда крутится это колесо; но как только оно остановится, вместе с ним остановится всё и всё разрешится, всё уразумеется, все обретут свои имена, свои лица, тайное станет явным, неотвратимое, неизбежное объявит свой приговор.
– Погоди, поп! – вскипел Иван. – Ты что же, пёс смердящий, взялся за нос меня водить?!
Застыл, окаменел, стал как изваяние Мстиславский, давно уразумевший, про какого Фому втолковывает Бельскому царь.
Близилась развязка – страшная, непредсказуемая, но вместе со страхом, который холодными пластами оседал в душе Мстиславского после каждого его вдоха, отчего он старался почти не дышать, чтобы не дать этим пластам заполнить себя целиком, – вместе с таким вот страхом (почти ужасом!) в нём пылали и жгли его – тем огнём, что пылает лишь в преисподней, – досада и стыд за свою проруху, за своё верхоглядство и песметливость, за то, что не хватило ума понять, что Ивану ничего не известно и что Данила Адашев, несчастный Данила, невольно развязавший язык Бельскому, свой собственный удержал за зубами.
Что оставалось делать и что можно было сделать, когда не хватало мужества даже вздохнуть полной грудью?
– ...Димитрий Курлятев – изрядный лотр[195]195
Лотр – плут, злодей, подлец.
[Закрыть], – кипел Иван, – и лепта его во всех ваших происках и бесчинствах немалая! Ему також худо в отечестве! Да и земля предков – не отечество ему! Его отечество – его злобесные убеждения, и враг он мой лютейший! Но не он всему голова, и не пытайся, собака, прикрыться им! Курлятевым вам не откупиться! Ему воздастся за его, вам – за ваше!
Ещё оставался миг, последний, ничтожнейший миг! Ещё цепь, которую потом уже нельзя будет разорвать, не соединилась в единое целое. Оставалось последнее звено и – последний миг...
Как биение собственного сердца, чувствовал Мстиславский иссякающее биение этого мига. Он словно держал в руках эту ничтожнейшую песчинку времени, и она таяла в его ладонях, но не улетучивалась, не исчезала куда-то бесследно, а просачивалась внутрь его сквозь поры тела, как будто затем, чтоб прибавить ему силы и решительности, чтоб побудить к действию. Но что, что можно было сделать в этот последний миг? Разве только вздохнуть полной грудью – как перед гибелью.
– Да нешто я о Курлятеве? – совсем потерявшись, лепетнул Бельский. – Я о князь Димитрии... о Вишневецком.
– Что-о?! – заорал Иван и вскочил со скамьи. Казалось, он бросится на Бельского и собственными руками разорвёт, расшматует его, но ярость, взметнувшая его со скамьи и выхлестнувшая из груди срывающий голос крик, забрала все его силы. Он изнеможённо, беспомощно, как дряхлый старец, хватаясь трясущимися руками за подлокотники скамьи, опять опустился на неё. – Взять их... Всех! – прошептал он сквозь сиплые, протяжные вздохи, вместе с которыми, казалось, уходила из него и жизнь. – И старого... – уже из последних сил указал он рукой на Челяднина, но тут же отступился: – Нет, старого не троньте. Подойди ко мне, Челядня...
Он долго, с отчаяньем и беспомощностью, как умирающий, смотрел в глаза подошедшего Челяднина. Подрагивающая рука царя медленно тянулась к нему, как к чему-то спасительному, исцеляющему, – она тянулась невольно, Иван не чувствовал этого, не замечал. Челяднину вдруг захотелось – нестерпимо, как глотка воздуха в минуту удушья – поцеловать эту беспомощную руку, поцеловать как раз за её беспомощность, за то человеческое, беззащитно больное и уязвимое, что открывала и выдавала она в Иване, но более всего за то, что она как бы освящала и благословляла сейчас в нём самом его тайную, мучительную любовь к нему. Но он даже не приблизился, видя, что Иван не дотянется до него.
– Верю тебе, боярин, – вернув руку на подлокотник, скорбно сказал Иван, но скорбь эта была уже какой-то отстранённой, словно, каким-то непостижимым образом напитав её своей жестокой горечью, он отделил её от себя, чтобы она сделалась скорбью всех, чтобы сейчас все наполнились ею. – Верю, что ты не с ними... Верю, что не злоумышление, а добродетель привела тебя сюда. Стар ты стал, боярин, вельми стар... О душе своей печёшься, потому и верю. Отпускаю тебя с миром. Ты ещё послужишь мне, помня о судном часе. И службою сей, а не покладанием души вот за таковых, приобретёшь Господню милость. Ступай, боярин, и прости помрачение ума моего. Застила мой разум боль чёрная от того аспидиного лукавства, что восстаёт на меня в их душах. Вижу: беспредельно оно. И чую: всё благое иссякнет во мне, не одолев его.
– Да в чём то лукавство, государь? Ей-богу, не разумею. И пошто вдруг Мстиславского вменяешь повинным? Уж не пустошные ль нарекания святого отца тому причина?
– Он сам тому причина! – резко ответил Иван, явно задетый Челядниным, – может быть, последним его вопросом, а может, тем, что тот вообще пристал к нему с вопросами, вместо того чтобы покорно удалиться. – Как в кремне огонь скрыт, так в нём протива... Хотя и ходит тише тени.
– Ох верно, государь, верно! – подпрягся Левкий, не без торжества подчёркивая, что нарекания его были совсем не пустошные. – В тихой воде омуты глубоки.
– Он також с ними! Ежели не делом, то душой… И помыслами! И он один стоит их всех, понеже умнее их, изощрённей... Сё его выдумка с Вишневецким. Он, он надоумил сего безумца возвести таковое на князь Димитрия! Затем и ездил к нему, затем и со мною лукавил, склоняя призвать его и внять лживым покаяниям, хотя подсунуть мне разом с ними своё бесовское злохитрство.
Иван говорил это уже не Челяднину, а себе и не иначе как для того лишь, чтоб, высказав всё это вслух, ещё сильней утвердиться в своих мыслях.
– ...Тонко расчёл, окаянный! Чаял, пустит из мешка зайца, и я кинусь за ним, что та борзая в натаске.
Мстиславский, которого держали за руки Грязной и Малюта, в ответ на всё это только вздохнул, но вздохнул не робко, не виновато, не притаённо – шумно и глубоко, всей грудью, так, как давно и уже нестерпимо хотелось ему вздохнуть.
Ивана аж перекорёжил этот вздох.
– Что вздыхаешь, собака?! Дух спёрло?! Погоди, ты ещё не так вздохнёшь.
– Да ты что же, не веришь мне, государь? – Бельский в невольном, протестующем порыве попытался даже освободиться от вцепившихся в него Темрюка и Федьки Басманова. – Пред святыми образами могу побожиться! – решительно глянул он в святой угол – на божницу.
– Молчи, поганый! Тебе и на криве побожиться не тяжко!
Ярость и злоба уже сокрушили в Иване последние препоны, и теперь всё в нём – и голос, и жесты, и даже дыхание – стремительно наполнялось ими. Он как бы возрождался от злобы и ярости, обретая ту безудержность и свободу, ту жестокую силу и властность, которые нужны были ему не только, чтоб повелевать другими, но и самим собой.
– Вишневецкого! – Иван негодующе потряс руками, и было такое ощущение, что он наслаждается этим негодованием. – Князь Димитрия Вишневецкого удумали излыгать! А ве́ди он со мною в черте кровной![196]196
Иван Грозный и Дмитрий Вишневецкий были правнуками сербского воеводы Стефана Якшича, из рода которого происходили их матери – двоюродные сёстры.
[Закрыть] И на службу ко мне князь Димитрий притёк своей доброй волей. Похотел мне служить и добил челом. Что ж ему восставать на меня? Что измену заводить и изменою хотели вспять оттечи, коли меж нас с ним вольному воля?! Похочет он куда отъехать – на Черкасы к себе обратно иль в иные которые страны, попригожее службы приискать, и в том ему Бог судья. Токмо лучше моей царской службы ему нигде не сыскать и чести и богатества такового ни в которых иных странах не обрести. От добра добра не ищут! Которой же нуждой ему заводить на меня измены? Почто грех такой смертный на душу принимать? Почто славное имя своё и благочестие душевное сквернить, псу блудящему уподобясь?
– А мне почто, по которой нужде этак-то князя облыгивать? – не сдавался Бельский.
– По которой нужде?! – заорал Иван. – Чтоб его, истинного вождя вашего, укрыть. Да! Знаете, окаянные, что не трону я князь Димитрия, каковых бы несусветиц вы на него ни взвели, вот и прикрываетесь им! Да не пособят вам ваши уловки! Не про меня они! Вы тщитесь укрыть город, стоящий на вершине горы!
– Не знаю, о ком ты, государь, но ежели о Курбском?..
– О Курбском! – подхватился Иван со скамьи, чуть не опрокинув её. – О ком же ещё?
– О Курбском?! – невольно вырвалось у Челяднина – и удивлённое и испуганно-защитительное.
Иван, вскочивший со скамьи и метнувшийся было к Бельскому, даже подпрыгнул в резком повороте: этот переспрос Челяднина, видать, зацепил его уже так, что, окажись сейчас на месте боярина сам Господь Бог, он, наверное, и пред ним не сдержал бы своей лютой ярости.
– О Курбском! Что ты, старый, так вздивовался?
– Виделся я с Курбским, государь...
– Ах, виделся?! И что, не увидел в нём измены? А коль увидел бы? Донёс бы?! Так бы и поторопился! Все вы одним миром мазаны.
– Тот же калач, истинно, государь! Токмо исчерствевший, – злорадно прихихикнул Левкий, не упустивший случая поквитаться с боярином.
Иван вернулся к скамье, но не сел, только опёрся руками о её спинку – тяжело, бессильно. Дрожь, которую он пережидал или пытался унять, сбивала ему дыхание, воздуха не хватало, и он осторожно, будто бы украдкой, прихватывал его ртом, болезненно ужимая губы, но взгляд его с прежней ожесточённостью вонзался то в Челяднина, то в Вельского, то в Мстиславского, словно рвалось из него ещё что-то, не менее лютое и свирепое, которое невозможно было выразить словами – лишь взглядом.
– Все вы... одного поля ягода. Да слава Богу, оборонил он меня от вас... Теперь не я – вы будете бояться меня! Минуло время, коли, научаемый невеждой попом, не смел я души своей ожесточить на вас, боясь кары Господней. Внушал мне, всегнусный, что гнев не творит правды Божией, ибо сам гнев есть падение для человека. Но мне открылась иная правда... Ежели Господь помазал меня на земное пастырство, освятив мои стези и мой пастырский посох, то он освятил и мой гнев. И нет в нём греха и падения... Понеже гнев мой – то часть Божьего гнева, что уготовил он на всех нечестивых и беззаконных. Ибо писано: очи Господа обращены к праведным и уши его к молитвам их, но Господь против делающих зло, чтоб истребить их с лица земли.
– Истинно, государь! – воинственно перекрестился Левкий. – «Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, дабы пронзить идущих прямым путём». Восстать на них и попрать – то праведно и священно, государь!
– Да, праведно и священно! – вскинув грозную руку, повторил Иван вслед за Йевкием, но только потому, что и сам вёл к этому. – И гнев мой уже грядёт на вас! И я не престану в нём! Воротынский, блядивый общник ваш... Он так и закончит свои дни на Белоозере. Курлятев, злобесный приспешник поповский... Лукавым обычаем подался он в монастырь, чая монашеским клобуком спасти свою голову... Что ж, Господь уже принял его обет, и я не посягну на его монашество. Я сохраню ему и голову и клобук, токмо будет то монашество не таким, как он себе его расчёл и измыслил. Чает, поганый, что, сидя в келье, убранной коврами, и завесив образа, будет он прежним мирским князем и будет всё тако ж, ежели не пуще, козни свои и вражбы на нас вздымать. Тому не мало было примеров. Но более их не будет! Васька, видел я, нынче на сторожах у меня бояричи Хворостинины... Кличь-ка их сюда!
Васька, оставив Мстиславского, пошёл отворил дверь, зазвал Хворостининых в опочивальню. Братья, переступив порог, склонились в долгом подобострастном поклоне.
Иван сел на скамью, подозвал их к себе.
– Вижу вашу службу: усердна она и достойна, – похвалил он братьев. Те вновь поклонились ему. – Но приспела нужда сослужить мне иную службу... Готовы ли?
– Повели, государь, – за себя и за брата ответил Дмитрий.
– А что, коли повелю?.. – Иван испытывающе посмотрел на братьев, но недомолвка его ничуть не смутила их.
– Всё исполним, что повелишь, государь.
– Гораздо. Слушайте меня... Поезжайте на Волок, к Всемилостивому Спасу, что близко Кубенского озера, и возьмите оттуда боярина нашего бывшего – князя Димитрия Курлятева. Возьмите и отвезите куда подальше – на полуночь[197]197
Полуночь – здесь: север, северный край.
[Закрыть], в пустынь. И женишке его с чадцами место сыщите, дабы и их не отлучать от ангельского жития, коего так возжаждал их боголюбивый отец. Отвезите и забудьте – слышите, забудьте! – куда отвезли, и чтоб я у вас и под пыткой не дознался о том.
– Государь, не бери такового греха на душу, – тихо, почти шёпотом промолвил Челяднин, словно боялся, что, отговаривая Ивана, невольно выдаст его кому-то – тому, кто не простит ему этого греха и непременно покарает за него. – Курлятев, буде, и винен пред тобой, но дети его – они невинны!
– Ступайте! – выпроводил Иван Хворостининых и, как только затворились за ними двери, бешено напустился на Челяднина: – Дети невинны?! Пощадить их?! А моих детей вы щадили? Он, Курлятев, сына моего, младенца Димитрия[198]198
Дмитрий – царевич, первый сын Ивана Грозного, умерший во младенчестве.
[Закрыть], вельми щадил, отказавшись ему присягать? А меня самого, коли я осьми лет сиротою остался?.. Меня самого вы щадили? Не-ет! – вновь взметнулся он со скамьи и, растерявшись от невозможности броситься сразу на всех, яростно потряс руками. – Нет, не будет пощады! Никому! Ни детям вашим, ни внукам!
Вот когда наконец он дал волю тому, что нынче так упорно скрывал и залавливал в себе, стараясь не всколыхнуть, не стронуть, не зацепить своим злом обступившую его вражду – великую и малую, явную и тайную, с которой ещё не знал, как совладать, и потому не мог подняться против неё в открытую, не мог бросить ей вызов, боясь, что у него окажется мало приверженцев и защитников. Степенность, спокойствие, благодушие, а более всего простота и смиренность – вот что было пока его самой надёжной защитой.
Ещё как поехал он из Кремля, как собрался ещё только поехать на прохладу свою в Черкизово, так и напустил на себя это необычное спокойствие и благодушие, такое откровенно нарочитое, что, казалось, обмануть, подкупить им кого-то было просто невозможно. Но как раз именно эта нарочитость и подкупала, ибо была настолько откровенной, настолько явной, что невольно вызывала обратное чувство, и никак не хотелось думать, что всё это напускное, ложное, коварно-лукавое и трусоватое, принявшее ради какой-то цели личину степенности и благообразия. Наоборот, хотелось думать и думалось: а буде и вправду он таков и есть, царь наш и государь, буде и вправду всё его зло и ожесточение – от зла, что он видит вокруг и испытывает на себе, буде и вправду он степенен, и добр, и праведен? Думалось: Иван ведь и сам никогда не усомнился в том, что он добр, праведен и что зло его – исключительно от чужого зла. Об этом он непрестанно твердил везде и всюду, оправдываясь и казнясь, обвиняя других и казня. Да и нарочитость его, разве же она скрывала в себе осмысленное желание выдать зло за добро, преступное за праведное? Для этого ему нужно было бы признать за собой это самое зло и преступность. Но во всю свою жизнь он не сделает этого, и даже в минуты самых страшных раскаяний признание в собственном зле будет только покорностью высшей силе, спасительной, облегчающей его страдания покорностью, и неизбежной, неукоснительной платой, данью, откупом за покровительство и милость этой высшей силы.
Нет, он не стремился выдать зло за добро, неправедность за благочестие: так убого и неискусно он не притворялся! Нарочитость его была только в том, что как раз сегодня, вопреки всему, он был степенен и благодушен, – сегодня, когда, казалось, всё в нём должно было обратиться в злобу и гнев. Даже на пиру, во хмелю, удержал он себя, хотя от этого удержу у него самого душа изошлась перекипевшей кровью, и у других только тогда отлегло от души, когда проводили они его, уходящего почивать, последним усердным поклоном. И всё-таки прорвало его. Должно быть, недостало больше сил справляться с мало подвластными ему сегодня частями своей двуликости – слишком круто заломил он в себе одну из этих частей и слишком надсадно стало его душе, не привыкшей к таким насилиям, – а может, отпала надобность в притворстве: понял, что большего уже не добиться никакими притворствами.
– ...И панихид не будет по вас! Ни могил, ни крестов! Сдохнете, как собаки, – без покаяния! Как сдох Данила Адашев, как Репнин, благочестивый шут во боярстве. Что ты учинил с ним, Малюта?
– Я удавил его, государь.
– Опомнись, государь, опомнись! – возвысил молящий и протестующий голос Челяднин, – Ты говоришь так, чтоб застращать нас! О Даниле – не ведаю, но Репнина... Пусть иные возводят сей грех на тебя, а сам не черни своей души. Репнина ты не мог, государь... Не мог!
– Повтори для него, Малюта, что ты учинил с Репниным?
– Удавил.
– Господи... – Челяднин судорожно поднёс руку ко лбу, намеряясь, должно быть, перекреститься, но то ли сил у него не хватило, то ли понял он, что никаким крестом уже не оградить и не спасти того, что так жестоко разрушил в его душе Иван, и он лишь прикрыл ладонью глаза – как-то так, словно вдруг устыдился своей зрячести, – Дозволь мне уйти, государь, – совсем уже обессиленно попросил он.
– Ничего я тебе не дозволю, старая лиса! Сии Курбского вселичь боронят, метут за ним следы, и ты туда же со своим хвостом!
– Курбский, истинно, ни при чём, государь, – собрался-таки с духом и Мстиславский, видя, как всё исступлённей становится в своей ярости Иван, и понимая, что исступлённость эту рождает в нём уже не ненависть к ним, не злоба, не страх даже, которого он до конца не может скрыть, а бессилие – самое безуправное, жестокое и безрассудное состояние, которое может толкнуть на что угодно. – Бельский сказал тебе правду. И я скажу тебе правду...
Свирепая острота Ивановых глаз исподлобья на миг пресекла Мстиславского. Как приставленный к горлу нож был этот взгляд, но Мстиславский выдержал его.
– Вижу я, государь, что Данила Адашев ни в чём пред тобой не сознался либо... оговорил князя Курбского, направив тебя на ложный путь.
– Молчи, окаянный! Тебя я вовсе не желаю слушать! Да, не сознался Данила и сдох, как собака! Но мне и не потребны были его признания! Я без него знаю всё! И твоя правда мне не потребна: знаю я и твою правду... Распять тебя за неё, и то мало будет! Всех вас надобно, всех – в одну петлю. Но я погожу покуда, погожу... Сейчас вы потребны мне – чтоб иных, вам подобных, истребить с лица земли. Оскалили они свои смрадные пасти, хотячи в лютом злобесье пожрати нас... Вот я вас и напущу на них! И вы будете мне служить, будете! А учнёте противиться, учнёте козновать, вновь на меня клыки ощерите...


![Книга Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного] автора Елена Арсеньева](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zheny-groznogo-carya-garem-ivana-groznogo-213715.jpg)





