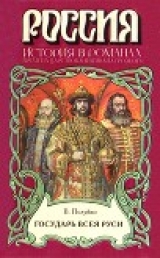
Текст книги "Государь всея Руси"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 35 страниц)
– Большого ума тут не надобно...
– Как знать?! Я вон – и не задумался! А задуматься надобно было, надобно... Дабы не очутиться нам, Василей, меж двух жерновов... А и своего не упустить. Кошки грызутся – мышам раздолье.
– Нет, братка, видать, не о том надобно теперь думать, – возразил Василий. – На чью сторону стать – вот о чём!
– А такого, Василей, я слышать от тебя не хочу, – враз посуровел Андрей. – И дум тех твоих – не приемлю. То думы двурушника и израдца, но не мудреца. А нам надобе быть мудрецами. Мы с тобой, братец, мелкая сошка, холопы без роду и племени, и единое наше достояние – мудрость, ежели она у нас есть, а единое наше достоинство – преданность тому, кому мы служим, ежели мы служим, а не прислуживаем.
– Преданность – то палка о двух концах.
– Для приспешников и лизоблюдов. Ежели они бывают-то преданными? Тем, кто служит, преданность не опасна. Мы служим государю... Уразумей: не человеку – государю! И всегда будем служить – госуда-а-рю! Каким бы именем он ни прозывался. Вот она, мудрость!
И тою службой и преданностью оградим себя от всех бед и упасём в любых смутах. Понеже... – Андрей взял чарку, голос его стал поучительно-мягок: он уже не отчитывал, он наставлял – холопы, умеющие преданно и ревностно служить, потребны всем государям. Без таковых холопов, сиречь без нас, не бывает государей! Знай сие и всегда памятуй!
Он выпил, свирепо искорёжился.
– Кожу вычинить – в самый раз. Иль крыс морить. Испробуй!
Василий пригубил на пробу, помедлил, оценивая вкус диковинного питья, снова приложился, допил.
Андрей ждал, что он скажет, и смотрел на него так, будто тот сию минуту должен был умереть.
– Моча собачья, коей коросту выводят, – сказал Василий. – Но пить можно.
Андрей вновь наполнил чарки. Выпили. Теперь – при обоюдном молчаливом согласии, что пить можно. Принялись за еду и явно были довольны, что разговор, который затеяли, пресёкся. Должно быть, оба почувствовали, что между ними впервые может проскочить чёрная кошка.
Андрей взялся рассказывать, сколько за Волгой земли лежит втуне: всю Русь со всеми её бебехами уместить можно. И ещё останется! Строгановы, выпросившие у царя часть этих земель и добившиеся больших льгот – полного освобождения от тягла в течение двадцати лет, – вызывали у него величайшую зависть.
– Покуда мы будем здесь грызться за свои клочки, – высказывал он свою зависть, – они там такую мошну наживут – сам государь станет у них взаймы просить!
Но этого рассказа хватило ненадолго, и араки, которое он не забывал подливать в чарки, опять вернуло его к питейной теме.
– А кабаков в Казани теперь не менее, чем у нас. Казне от них прибыток поболее, нежели от таможенных пошлин. Где были у них ранее заезжие дворы, и там теперь кружечная торговля. Насуслятся нашей горькой и жалуются – своими ушами слышал: деи, московский царь – сам татарин, а нами обовладел.
– Да чур тебя! – аж поперхнулся Василий. – Что безлепицу-то переговариваешь? Государь – татарин!
– Да ты что, Василей?! – удивился Андрей. – Про то, вона, даже в Казани ведают! От матери в нём татарская струя – через Глинских. Глинские ве́ди – из татар... При Витовте[208]208
Витовт (1350—1430)—великий князь Литовский, сын Кейстута Гедиминовича.
[Закрыть] в Литву из Орды выехали. Неужто не ведал?
– И ведать не хочу.
Василий засуетился, налил доверху свою чарку, выпил. Чтобы не встречаться глазами с братом, стал усердно засматривать в расставленные на столе миски и блюда с едой, будто искал чего-нибудь повкусней.
Андрей подвинул ему миску с похлёбкой.
– На-кась, похлеби ухи яичной. Таковой и на государевы пиры не варивают! – И прибавил с насмешкой: – Буде, и такое тебе страшно слышать?
– Тебе, братка, також не худо бы язык придержать, – всё ещё пряча от Андрея глаза, сказал с внутренней тревогой Василий. – Ты – не пьяный татарин, с тебя спрос иной. За такие речи... Сам знаешь, вырвут язык и «Господи помилуй» не дадут вымолвить.
– Что-то я не уразумею тебя, Василей! Неподобные речи о государе боишься и слышать, а отметнуться от него на другую сторону, израдить – не боишься? А за такое кой-чем иным расплачиваются.
Василий медленно поднял глаза на брата, виновато и доверчиво посмотрел на него – глубокое смятение проглядывало сквозь эту повину и доверчивость. Тихо сказал:
– Ещё как и боюсь, братка... Знал бы ты, как боюсь! А что делать? Середины-то нет! Нету, братка, в мире сущем спасительной середины, всё в нём размежёвано надвое: жизнь и смерть, добро и зло, свет и тьма...
– Мечешься ты, Василей, а с чего, ей-богу, должно быть, и сам до путя не ведаешь. Мудрости тебе недостаёт, степенности... Полошишься... А с чего уж так полошиться-то? Страшишься худых перемен? Страшишься, что явится кто-то... иной, поцепит тебя на дыбу и спросит, пошто ты, Василей Щелкалов, не поворотился загодя в его сторону?
– Страшусь, что даже и не спросит.
– Что ж, молчком повисишь... покуда нужда в тебе станет.
– А коль не станет? Неужто же без меня не обойдутся?
– Тут уж, братец, всё от нас зависит. Об том я тебе и толкую. Надобе так служить, а допрежь всего так знать, так уметь делать своё дело, чтоб тебя и в аду черти из Варной купели выимали, единого ради совета с тобой. Ты же покуда усердствуешь не столико в службе, сколико в питии вина на царских пирах. А тем, Василей, цены и достоинства себе не прибавишь и чести не обретёшь. Шуты да опивалы також потребны государям, да токмо на пирах, для потехи.
– Вино також надобно уметь пить. Твоими же словами и отвечу, – вступился за себя Василий, правда не очень твёрдо и решительно. – Не умей я пить вина на царских пирах, ходить бы мне доселе в подьячих – при самой ревностной службе! Тем умением я и взор его на на себя обратил. Вот и пью... А что далее делать – не ведаю!
– И ведать не будешь! И знаешь пошто? Пото, что смотришь на себя не тем взором. Да, мы холопы без роду и племени. Отец наш был подьячим, а дед барышником на конской площадке. Холопы, но!.. В Казани был я зван архиепископом Гурием к столу и между делом спросил его, зная, как он изможен в учёности, про слово «дьяк» – которое ему изначальное значение? И сказал Гурий, что слово изначально грецкое, речётся диакос, а значение ему – слуга. Ныне же иноземцы дьяка Висковатого канслерем величают. А канслерь – сие уже не диакос грецкий и не дьяк русский. Разумей сие! Поглянь, сколико в нём достоинства, в Висковатом-то! Бывает ли такое достоинство у слуги? А ты – слуга. Ты ищешь не службы, а господина. Потому и мечешься, потому и сторону приглядываешь... А у нас нету иной стороны, опричь той, на которой мы ныне. Помни сие! Пусть иные мечутся и выбирают, а мы мудро послужим, не преступая клятв. Или?.. – Андрея вдруг полоснула страшная мысль. Он весь напрягся, словно хотел закричать на Василия изо всей мочи и, наверное, закричал бы, но видно было, что ему даже дыхание перехватило от этой мысли. – Василей, сознайся! – прошептал он с придышкой, и шёпот этот был как проклятье.
– Не преступил ещё, не полошись, – сказал Василий, и так спокойно, так невозмутимо, что Андрей не поверил ему.
– Василей! – Голос его чуть набрал силу, но грозного крика всё равно не получилось, и он вместо этого устрашающе сжал кулаки. – Сознайся!
– Сказал уж: не преступил. Однако... что такое человек, как писано, чтоб быть ему чистым?
– Ты мне не по писаному, а как брат брату, – уже в полную силу потребовал Андрей. – С кем стакнулся?
– С чернцами, – сквозь досаду, но с облегчением сознался Василий. Ради этого признания он сегодня и рвался к Андрею.
– Что, и те туда же? – опешил от неожиданности Андрей.
– Да нет... Книги печатные им поперёк горла. Намерились расстроить сие дело. Чужими руками, вестимо... Серебра отвалили – ещё одну печатню поставить можно.
– Сего надобно было ждать. Говоришь, и серебро отвалили? Стало быть, крепко их забрало. Не отступятся теперь, покуда своего не добьются. Ох, то страшная сила, Василей! Угораздило же тебя!
– Угораздило, братка... На старой вражде моей к Фёдорову, к друкарю-то, уловили. Не дружен я с ним – истинно... Что-то мне в нём не по нутру. Оттого и грех на душу брал, совал ему палки в колеса. Черноризцы мне то и припомнили. Молвят, ежели дело будет расстроено людьми неумными и неискусными, то многие вины по старой памяти на меня лягут.
– Верно. Ещё постараются и чужое сопхнуть. Переусердствовал ты, братец, с друкарём-то... Неприязнь неприязнью, а голова на плечах всегда должна быть. Я, правда, також не люблю его. Его и сам государь не жалует, сказывали мне люди сведущие... Какой-то он уж больно праведный, а главное – одержимый. На Руси таких испокон не любят. Русь чтит праведное лише в мощах. Но дело его вельми потребное. И разрушить его так, чтоб под корень, уже не удастся! Можно сжить со свету друкаря... Одного уж и сжили. Можно разбить друкарский стан, спалить Печатный двор, но воспрепятствовать печатанию книг уже нельзя. Всё едино их будут печатать, понеже пришла тому пора. По-pa! Можно ли было, скажи, ещё полсотни лет назад помыслить, что татара – татара! – будет у нас под пятой? А нынче, гляли, мы пьём с тобой их араки и посмеиваемся над ними. Вот что такое – пора! Чернцы, отвалившие тебе серебро, не разумеют сего. Но тем они и страшны. Не разумея, они будут противиться до последнего... И ты до последнего принуждён будешь пособлять им. Теперь вы связаны единой нитью.
Андрей ненадолго задумался. Василий напряжённо ждал его решения.
– Пособляй! – Андрей твёрдо припечатал руку к столу. – Но умно! Чёрные ризы могут сделать для тебя гораздо больше, нежели всё твоё лихое питие на царских пирах. Не упусти сего! Но будь настороже: середь них не сплошь дураки. Пособляй им без лукавства, однако не порывайся надрать из избы лыка. Памятуй: дела сего под корень не разрушить! Можно лише напакостить, навредить, угодить чёрной братии... Вот и угоди, но не более того!
– Ты наставляешь меня так, будто мне предстоит подвигнуться на что-то благое, высокое, благочинное... – Василий протяжно и уныло вздохнул, рука его тяжело проутюжила лоб, словно он хотел стереть, снять с себя эту унылую хмурь вместе с надрывом и тоскливыми мыслями, но стёр только испарину. – Душа у меня, братка, что подмётки у сапог. Ни единой грязной лужи не обминул. В новую лезу... И ты меня подталкиваешь.
Андрей отвернулся от него, презрительно выцедил:
– В скит тебе надобно, Василей! В скит!
– В скит?! – Василий даже побледнел: слово это задело его сильней, чем презрение брата. – Нет, братка! – он отчаянно тряхнул головой. – То не по мне! В роду нашем были попы, но монахов и отшельников не было. И не будет! Мы не той закваски! Москва уж знает нас, будет знать и всея Русь!
3
Весна всё пуще набирала силу. С Пасхи стойко завёдрило, и теперь изо дня в день, с редкими дождепадами, сияли небеса, разогреваясь и доспевая к началу цветения садов.
Схлынули полые воды, реки вошли в берега. На подоле через Москву-реку навели из плотов Живой мост – и на посаде появился ещё один Торжок.
Посажане, промышляющие мелкой торговлей, больше всего любят располагаться со своим товаром на переездах через реки. Места эти бойкие, здесь самого чёрта можно сбыть за полушку, и поэтому на всех московских мостах братии этой – труба нетолчёная! Но особенно любят они этот – наплавной. Через него из Заречья в Китай-город люд валом валит, и люд по большей части мастеровитый, работящий, стало быть, и денежный. Там, за Москвой-рекой, слободы, где живёт этот люд – Кожевническая, Кузнечная, Кадашевская... Вот почему с такой прытью и устремляется сюда торгующая мелюзга. Не успеют ещё плоты от берега до берега дотянуть и как следует скрепить, а они уже понатыкают по обеим их сторонам своих шалашей, палаток, прилавков... Кому не хватает места на плотах, торгуют с лодок. Лодки позаведены у многих. Подспорье! Не заладится торговля, можно подрядиться отвезти какой-нибудь груз. По течению – на вёслах, против – бурлаком. Приработка не чураются никакого, даже самого дурного.
Бывает, заведутся на мосту слободчане, а завестись им – что плюнуть. Особенно если только из кабака. Во хмелю почему-то припоминается всё худое – и старые обиды, и старое зло: кто, где, что кому сказал, кто кому не уступил, кто кого подсидел, объегорил... Кожевники на кузнецов, кузнецы на кожевников, кадашевцы примутся разборонять да и встрянут, как палка в колесо. И их понесут, и им припомнят! Изволтузят друг дружку, изобьют – в кровь! Постаскивают в запале один одного в реку, а уж тут кому – потеха, кому – беда, ибо один в воде ужом, а другой топором.
Вот здесь и добывается тот самый дурной приработок. Вытянут лодочники из воды утопающего и держат перепуганного за шкирку, выжимают мзду. Скряжничает, упирается – снова в воду. Тут уж последнее отдашь! А народец-то этот лодочный – нахрапистый, шкурный, ни с молитвой к ним, ни с крестом! Нет денег – сымай рубаху, сапоги...
Выскочит такой пошарпанный слободчанин на берег, держа за тесёмку мокрые, оползающие порты, и заорёт благим матом:
– Христа забыли! Живоглоты!
– Гляди, – пригрозят с лодок. – В другой раз не вытянем!
– Кровопивцы! – не унимается тот. – Чтоб вам ошалеть!
– Эх, дурень! – засмеется какой-нибудь зевака на берегу. – От смертюшки тебя откараскали, а ты – живоглоты! В ножки добрым людям!
– Лучша б я утоп! Како без рубахи да без сапог в слободу явлюсь? Усмеют!
– Живой явишься...
– Проку-то?!
– Так сигай опять! В ларце берёзовом притащат!
Галдёжное, шебутное, презанятное это место – Живой мост. Чего-чего тут только не насмотришься, чему-чему только не надивишься! Но прежде всего это, конечно, переправа, перевоз, без которого городу никак не обойтись. В ледоходы и половодья, когда его нет, зареченцам туго приходится. Да и городу без Заречья тоже нелегко. Он тогда как об одной руке. Кремль и Китай-город – это его голова и тело, а Заречье и Занеглименье – две руки, причём Заречье – это правая, главная, рука. Без неё городу оставаться худо даже и на малое время. Давно уже нужен постоянный свайный мост, а может, даже и каменный, которому не страшны ни ледоходы, ни половодья. Иноземцы очень удивляются, что в Москве нет такого моста, и давно уже предлагают царю сыскать в своих странах мастеров для его строительства, полагая, что всё дело в неумении и неспособности московитов самим справиться со столь сложной работой.
Что ж, отчасти они правы. Умения нет. Но умение – дело наживное. Не умели когда-то на Руси лить пушки. Теперь самые лучшие ливонские и литовские крепости рушатся от осадного боя московского наряда. Стала бы нужда, а уж она, как говорится на Руси, научит и решетом воду носить.
Каменный мост через такую реку – и вправду диво и такая заковыристость, которой, истинно, следует поучиться у заморцев. Без доброй выучки, с кондачка, такого дела не свершить. А деревянный, на сваях, – разве и это такая же невидаль? Разве и этому надобно учиться у заморцев? Не надобно. Топором московит умеет управляться испокон. Мостов в Москве много: и на Яузе, и на Неглинной, и на Пресне... Через каждый ручей, через каждый овраг – мост. Нет его только на Москве-реке, и не скоро ещё будет. И дело тут вовсе не в умении, не в способностях московитов. Дело совсем в ином. Пока жив страх перед тем жестоким и коварным врагом, который приходит из-за Москвы-реки, моста через неё не будет. Не велика преграда, а всё-таки преграда. Бывает, что не на Оке, а как раз здесь, почти у самых стен Кремля, перед этой узкой полоской воды и останавливаются потные татарские кони. А будь мост?! Да ещё каменный! Деревянный хоть можно сжечь. Правда, можно и каменный разрушить, но уж слишком часто пришлось бы его разрушать и восстанавливать, потому что слишком часто на Москву заносит непрошеных гостей. Редко выдаётся такой год, когда крымчаки не тревожат её земель, но Москва никогда, даже в эти редкие годы, не знает покоя. Она всегда начеку, и потому не скоро решится соорудить такой мост, несмотря на великую надобность в нём. Ещё целых сто с немалым гаком лет будет она обходиться единственно этим – Живым, каждую весну наводя его и каждую осень, перед самым ледоставом, убирая. И долго ещё будет он служить московитам своеобразным признаком решительной смены времён года: убрали мост, – значит, на носу зима, готовь шубу, сани, ожидай первых зазимков, а как навели – так это уже весна, хоть пусть отныне и солнце не всходит.
На торгу теперь изо дня в день разносится клич глашатаев: не топить печей, бань, не жечь без присмотра лучин! Это тоже приметы весны. С наступлением тёплых, погожих дней Москве начинает угрожать другая беда, не менее страшная, чем крымчак, – пожары. Уж сколько раз выгорала она почти дотла. Потому и не умолкает предупреждающий клич, суля за ослушание немалые кары.
Прокликали глашатаи-бирючи и о том, что нынешней весной крестьянам снова дозволено привозить хлеб на торг во все дни недели и торговать им «на закуп» и «врозь» в любой час – без препон.
Это тоже примета, но уже не весны, а подступающего голода. Когда хлеба в достатке, им обычно торгуют три дня в неделю, и притом до полудня – лишь в розницу, а с полудня – лишь оптом. Но когда в житных рядах покупателей больше, чем продавцов, тогда правила эти побоку. Тогда все запреты снимают в наивной надежде, что хлеба на торгу прибавится.
Но где его взять тем крестьянам, которых теперь усердно зазывает на свой торг Москва? Прошлогодняя жатва закрома не переполнила, а недоимки были взяты сполна: царь ходил весной в Литовскую землю, а война недоимков не терпит. Взяли своё и помещик, и вотчинник, и монастырь. На белых землях они жмут соки из крестьянина точно так же, как и государева казна на чёрных, ежели не пуще. А где ему, бедолаге, набраться тех соков?! Он не стожильный, и уже надорвался, уже изнемог, уже согнулся под этим непомерным бременем. Одарит земля щедрой отдачей – чуть распрямится крестьянин, сведёт концы с концами, что-то и впрок положит, что-то и на торг свезёт, а поскупится или вовсе не даст ничего земля – тогда зубы на полку. И новые долги, и новые недоимки...
Два года кряду выдались тяжёлые, зяблые. Много озими вымерзло, а ярью матушку-Русь не прокормишь. В Новгородской земле, в Псковской, в Твери, в Смоленске меженина гуляла по крестьянским дворам уже и в прошлом году. Особенно голодно было в Обонежской пятине[209]209
Обонежская пятина – одна из пяти частей древней Новгородской земли.
[Закрыть]. Дело дошло даже до голодного бунта: в Пошехонье изголодавшиеся поселяне разграбили монастырь, убили игумена. В Москве нынешней зимой тоже кричали: «Разбивай богатинные амбары! Доставай корм!»
Нищих в Москве уже сейчас полным-полно: в голодные годы они стекаются в неё и в ближайшие к ней украинные города со всех замосковных земель, потому что украйна слывёт краем хлебным. И это покуда по большей части взаправдашние нищие, «странные рабы Христовы», кормящиеся исключительно подаянием. А вот чуть погодя – к середине лета, когда меженина в край доймёт, повалят в Москву и окрестные поселяне, в надежде раздобыть в стольном граде кусок хлеба – заработать иль, на худой конец, украсть, а не получится ни то и ни другое, так и протянуть руку за подаянием.
Москва зазывает их к себе на торг, зазывает с хлебом, а они приходят с сумой. Многие идут всей семьёй – с бабами, с детишками... Бродят по Москве наравне с собаками, толкутся возле монастырей, где иногда и перепадает им калачик или просвирка. Деля эту просвирку или калачик на несколько крохотных частей, чтоб не съесть всё зараз, непременно помянут прежние, «праведные», времена, когда монастыри кармливали в голодные годы по тысяче душ, не жалея для своих бедствующих братий последнего куска.
Потом, в будущие голодные годы, их внуки и правнуки станут точно такое же говорить и об этом времени. Таков уж он, русский! Ему всегда мнится... Нет, не мнится, – он убеждён, он свято верует, что прежде было лучше, что были на Руси праведные времена, когда миром складывались по нитке голому на рубаху. Веками не истлевает эта рубаха!
4
Нынешняя весна была особенная, необычная. Собственно, не весна только, сам год был особенный и необычный. Не оттого, конечно, что голодный. Голод – это как раз самое обычное. Кого им удивишь – в Москве ли, в Новгороде, в Твери, в Ярославле?.. Даже и не в голодные годы многим приходится перебиваться в послезимье соломой, древесной корой, кореньями, травами.
Особенным нынешний год был потому, что стал он для Руси тем самым рубежом, проклятым, гиблым рубежом, за которым для неё началось не просто завтрашнее, новое, неожиданное, а такое, что потрясёт её до самых основ, что разломает, разворотит её уклад, её устои, что пройдёт по ней яростной поступью зла, изуверства, насилия, надругается над ней, осквернит и утопит в крови, в слезах, в горе, в бедствиях. Хуже того: она будет повергнута в такое отчаянье и такую нравственную темноту, что даже и сама, берясь в этом отчаянье за топор, чтобы добыть правду, не сможет подняться выше слепой мести, выше того же самого зла, изуверства, насилия, которые вытерпит, выстрадает, вынесет на себе.
Многие летописи помянут и расскажут об этом времени, по-разному помянут и по-разному расскажут, но самым мрачным, самым горестным, неизбывно-горестным, окажется перо псковского летописца. С удивительной простотой и суровым, выстраданным спокойствием напишет он, спустя много лет: «Бысть при державе государя царя и великого князя Ивана Васильевича всея Русии самодержца на Москве и во всей Русской земли тишина и благоденствие великое, и рука государева высока над всеми ордами. Многия грады и земли преклонялися под государеву державу, и того же году и Полотцко взял. И потом, по грехам Русския всея земли, воссташа ненависть во всех людех, и межусобная брань и беда велика, и бысть мятеж по всей земле и разделение. И збыстся Христово слово: восста сын на отца, и отец на сына, и дщи на матерь, и мать на дщерь, и врази человеку домашние его. И оттого бысть запустение велие Русской земле».
Но этого ещё нет, оно впереди, оно грядёт. Потом, когда это всё явится, когда оно грянет, у него будет н имя, и образ, с которым всё это может сравниться, а пока есть лишь безобидное слово опричь, что значит – кроме, и отвлечённый образ ада кромешного – средоточия всего ужасного, мучительного, невыносимого. Общее у них только созвучие: кромешный – кроме, но потом появится и общий смысл, и действительный (не отвлечённый!) ад кромешный получит название опричнина, а тех, кому будет отдана на истязание Русь, назовут кромешниками.
А что же Русь? Что она загадывала себе? На что надеялась? Чего ждала? И ждала ли? Надеялась? Загадывала? Загадывала. Надеялась. Ждала. Перемены назревали давно, и она давно уже жила надеждами и ожиданиями. Победоносный поход в Литву только усилил эти ожидания и прибавил надежд.
И в самом деле, взятие Полоцка, как когда-то и взятие Казани, было не только большой и славной победой, не только большим и славным свершением, но и своеобразным рубежом, вехой, на которую были устремлены взоры всей Руси, думавшей: вот дойдём дотуда, до этой вехи, до этого рубежа, а там, за ними, непременно откроется что-то иное, новое, может быть, лучшее. Лучшего она никогда не переставала ждать – лучших времён, лучшей доли, – но это было ожидание вообще, ожидание вековое, неизбывное, подсознательное, которое не загадывало ни рубежей, ни вех, ни заповедных лет, оно жило само по себе, в отрыве от всего, как какой-то случайный придаток её судьбы, существовавший только потому, что существовала она. Теперь она ждала сознательно, ждала загаданное, заветное.
Давно уже, в ту самую пору, когда Иван, совсем ещё мальчишка, тринадцатилетний, выдал на растерзание псарям всемогущего боярского первосоветника Андрея Шуйского, вершившего тогда всеми делами на Москве, вживалась в её сермяжные головы блаженная мысль, что явился наконец-то государь, который восстановит на её земле правду и справедливость, попранную сильными и злосердными, и загадала она – на нём загадала! – своё избавление и освобождение от вековечного гнёта, насилия, бесправия, и ждала этого – истово, свято, – как не ждала, должно быть, второго пришествия. Тогда же начала она рассказывать и о чудесных знамениях, которыми было якобы отмечено его рождение, – о неслыханном дотоле громе, потрясшем землю до самого основания, об ужасных молниях, что сверкали на ясном небе средь бела дня, хотя родился он ночью и переделать ночь в день для такого случая не смог бы даже сам Всевышний. Но что ей до этого?! Ослеплённая своей верой, заворожённая своей мечтой, обманутая сама собой, она не отличала света от тьмы. И не хотела отличать. Тот, кто попытался бы открыть ей глаза, приблизить её к истине, заслужил бы от неё лишь презрение. И заслуживал! Не единожды! Разве не подкладывала она поленьев в костры еретиков?! Разве не глазела с алчным любопытством на лобные помосты, где ложились на плаху те, в ком доставало и сермяжного ума, чтоб разгадать собственный обман и восстать – в первый черёд против себя самого?! Было это и быльём не поросло. Отсюда весь тот её гром и молнии.
Однако грома и молний среди ясного неба ей оказалось недостаточно, чтоб должным образом подкрепить свою веру в него, и стала Русь-матушка подбавлять чудес, воротить уже в беспросветные дебри: он-де ещё во чреве матери рос, а печаль уже начала (уже!) отступать от человеческих сердец, а когда зашевелился во чреве (лишь зашевелился!), то несказанный страх нашёл на всех супостатов, посягавших на русские пределы, и обратились они все в бегство.
Как тут было не греметь грому и не сверкать молниям, когда он появится на свет?!
Много ещё напридумала Русь разных чудес и легенд, связанных с его рождением, и всё рассказывала их, повторяла – чаще, чем молитвы, всё носилась с ними, как курица с яйцом, но больше всего она любила рассказывать и вспоминать о другом – о пророчестве казанской ханши, которая, узнав о рождении Ивана, заявила московским послам: «Родился у вас царь, а у| него двои зубы: одними ему съесть нас, а другими – вас!»
Думала ли ханша просто досадить русским послам – в отместку: под стенами Казани как раз стояли московские полки – либо и вправду обладала даром провидения и говорила искренне, и кого подразумевала под этим вас – Бог весть. Но для неё, для Руси, всё было однозначно: ханша прорицала, а вас – это только их, бояр, сильных, вельможных. Кого же ещё?! Вот почему прорицание ханши и производило на неё такое сильное впечатление. Впрочем, не только поэтому. В нём удивительным образом сошлось всё, что носила она в себе, чем жила, чем грезила, что загадывала и ждала, сочилось в одну точку, в точку-остриё, и это остриё обладало такой проникающей силой, таким воодушевляющим напором, которыми не обладали чудеса и знамения, выдуманные ею самой.
Эти «двои зубы» не сходили у неё с уст, особенно после того, как предсказанное сбылось. Казань взята, татары покорены! Одними зубами он уже поработал, теперь настала очередь пустить в ход другие. Этого она ждала, этим ободряла себя и воодушевлялась, этим исплачивала сама себе его каждодневные долги перед ней, веря, что в урочный час он расплатится с нею сполна. Каждая его стычка с боярами, каждая усобица прибавляла ей уверенности, что час близится, что второе предсказание казанской ханши сбудется.
Вот и нынче, взбудораженная слухами о новой царёвой усобице с боярами, Москва опять, да ещё понастырней, чем прежде, взялась повторять эту притчу. Где бы ни заходил об этом разговор, где бы ни начинали обсуждать эти слухи, везде слышалось одно и то же: «А у него двои зубы...»
Звучало это по-разному: то как проклятье, мстительно и злобно, то простодушно и радостно, даже восторженно, то заумно и темно, как заклинание, а то и надменно, заносчиво, дерзко, угрозливо, словно эти зубы находились в собственном рту и ими можно было распоряжаться как вздумается. Но разница эта была чисто внешней. Смысл же сего речения: «А у него двои зубы» – давно уже был понятен всем, и давно уже оно стало не только своеобразным паролем, с помощью которого распознавали единомышленников, но и своего рода самозащитой, а также и самоутверждением, потому что вместе с мыслью об избавлении от гнёта, насилия, бесправия в сознании многих жила и крепла мысль о возрождении попранного в них человеческого достоинства, в котором они нуждались не меньше, а может, и больше, чем в хлебе насущном.
Нет, конечно, не думал простолюдин, что всё может поменяться местами и вельможные станут ломать перед ним шапку и уступать дорогу, как это делает сейчас он. Таких мыслей в нём не могли возбудить никакие пророчества. Но о том, чтобы перестать быть собакой, в которую каждый, кому не лень, мог запустить камнем, – думал, и эта мысль уже прокладывала в нём те первые борозды, куда лягут зёрна его грядущего великого гнева, его грядущих бунтарств и мятежей, что освятят его несбывшиеся надежды.
А в противоположном стане настроения черни вызывали свои настроения. Спесь, наросшая на костях, и кондовое тугоумие высокомерно, беспечно посмеивалось над этими страстями черни: «Бредни!»
Спесь презрительна и спокойна: да ин что ещё?! Вот коли кричат: «Разбивай амбары» – то лихо! А коли маются какими-то там страстями, коли забивают голову убогими придумками и утешаются ими, как молитвами, то – бредни и блажь!
Спесивость, как и прежде, гоняла вскачь по улицам и площадям, расшвыривала, сшибала зазевавшихся, не успевших увернуться, драла глотку, хлесталась плёткой – её ничуть не смущала осмелевшая чернь, её вызывающие взгляды и настырные разговоры про «двои зубы». Лишь бы не кричали: «Разбивай амбары!» Всё остальное – бредни и блажь!
Но трезвость и рассудительность думала иначе: голод страшен – верно, он самый первый зачинщик бунта. Но голод легко утолим. «Разбивай амбары!» – то вопль чрева и только чрева, а чреву немного надобно, чтоб насытиться.
– Пузище смышляет токмо о пище, – рассуждала степенно трезвость. – Разобьют амбары, наедятся и притихнут. Бывало уж! А вот чтоб места своего знать не хотели – такового досель не случалось. Впервой завелось в них такое. И что они теперь закричат – Бог весть, но закричат непременно. И погромче, пояростней, чем прежде, бо теперь не из брюха полезет их неистовость – из душ полезет она. А тут уж амбарами не обойдётся. Тут пахнет иным. Нынче они великородства почитать не хотят, а завтра?..
– Завтра будет то же, что и нынче, – бредни! – отмахивалась спесь. – Ничего нового в их душах не завелось. Бредни и блажь! Они ведутся в них испокон, вместе со всякой ересью. Они Бога не чтут, священное на свой лад толкуют! Чего уж тут сетовать да тревожиться, что они великородства чтить не хотят?


![Книга Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного] автора Елена Арсеньева](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zheny-groznogo-carya-garem-ivana-groznogo-213715.jpg)





