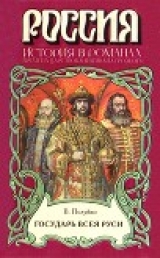
Текст книги "Государь всея Руси"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 35 страниц)
Висковатый, украдкой наблюдавший за боярами, видел, что многим из них была понятна вся эта царская ухищрённость – это прописью было написано на их досадливо-ухмыльных лицах. Понимали они и то, что теперь, особенно после того, что произошло в Столовой палате, каждый, кто ехал сейчас с царём в его свите, был как бы отмечен особой метой – причастности к тому, что призвано было царём и должно было противостать поднявшимся против него. Опровергнуть это можно было только единственным – отказом от поездки, но это значило бы открыто стать на сторону тех, кто уже не скрывал своей вражды. Третьего было не дано. Третьего Иван не мог допустить и принять: кто был не с ним, тот был против него. Поэтому сегодня с ним были даже тайные его противники, кому ещё не хватало мужества открыто выступить против, и сегодня он брал их с собой. Завтра он найдёт на их место других, истинно преданных, завтра у него появится истинная сила, с помощью которой он расправится и с ними, а сегодня, пользуясь их малодушием, он принуждает их сыграть свою роль до конца – и так, как задумал и хочет он! И они повинуются ему, повинуются и по малодушию, а ещё и потому, что живёт в них дремучая, вековая вера в незыблемость своего корня, и всё им покуда ещё нипочём. Злоба их не столько осторожна, сколько ленива, и думают они в этой своей нипочёмности, что царь подурует, подурует, да и отступится, расшибив себе голову об их могучие кряжи. Что веками установлено и обжито – незыблемо! Но завтра они спохватятся, завтра многие из них сумеют превозмочь себя, найдут в себе силы и поднимутся против него, но завтра будет уже поздно! Сегодня они могли бы одолеть его малой кровью либо вовсе без крови, завтра же – за одну лишь попытку! – они заплатят такой кровавой ценой, которую не платили досель ни одному из московских государей.
...Выехав из Кремля, царь медленно поехал вдоль рва, по прилегающей к нему площади, называемой Пожаром. Из-за частых пожаров, выметавших с этой площади хилые лавчонки и шалаши мелких торговцев, давно уже утвердилось за ней это название.
Площадь была тесна, узка. Десяток-полтора саженей между рвом и крайними рядами Китай-города – вот и всё, что приходилось на неё, однако и это пространство не было полностью свободным. Тут как раз и располагался в великом множестве и сплошном беспорядке весь мелкий торговый люд со своими лавчонками, шалашами, палатками. Лишь у самого рва оставалось узкое место для проезда – сажени в три-четыре. Здесь запрещалось ставить палатки и шалаши, но торговали и тут – с рук, с лавок...
Бывало, как ожидают на Москве великих послов – из Крыма иль из Литвы (а великие послы едут всегда широко, важно, людей с ними по целой тысяче!), так накануне их въезда в город чистят Пожар, и чистят под метлу. Кто сам не успеет убраться, замешкается – в два счёта очутятся все его манатки во рву, а ров непременно водой заполнят. И смех и горе! Но зато после такой чистки по Пожару хоть боком катись! Бывает, что и для своих выездов царь велит чистить Пожар, а нынче не повелел, выехал прямо в толчею, в теснотолпие...
Торг уже кипел, бурлил. Растревоженный муравейник и тот не сравнился бы с этим кишащим скопищем людей. Казалось и думалось, что всех их попутала какая-то нечистая сила и свела сюда, собрала, заманила единственно для того, чтоб, словно для какой-то великой потехи или издёвки, вскрутить каждого, подобно волчку, заставив бессмысленно вертеться и натыкаться друг на друга.
Воздух был наполнен тяжёлым гудом – не гомоном, не нудным стрекотом тысячеголосицы, а гудом – сплошным, протяжным, похожим на иссякающий гуд большого колокола. В небе, словно потешаясь над этой людской суетой, пучилось красномордое весеннее солнце.
На торгу заметили выехавших из Кремля всадников и тотчас узнали в одном из них царя – на Москве его чуть ли не все знали в лицо, – однако в первое мгновение, когда сквозь сердца только-только прометнулось стремительное и обжигающее: «Царь!» – перед ним даже не расступились – от неожиданности и растерянности, и ему пришлось объехать несколько кучек оторопевших людей, смотревших на него восторженно-испуганными глазами. Видя такое, Малюта и Васька Грязной кинулись расчищать дорогу, но Иван остановил их:
– Не насилуйте люда! – Голоса не повысил, как будто и не старался, чтоб его услышали. – Им недосуг уступать нам дорогу – они делом заняты! А нам, праздням, не завадит и обминуть их.
Васька и Малюта отступились. Васька послушно, а Малюта неохотно. Душа его, должно быть, не могла так просто смириться с тем, что царь станет обминать каждого встречного, а в дикой прямоте ума своего не смекнул, что не может такого и быть, чтоб царю не уступили дорогу. Успокоился он окончательно лишь тогда, когда увидел, что люд сам по себе расступился перед Иваном. А люд не просто расступился – отхлынул с такой восторженной поспешностью и радостью, словно уступал дорогу катившемуся к нему счастью.
Пёстрая, живая стена извилась вдоль Иванова пути. Торжественно, благоговейно пошли с голов шапки. Гул стал нарастать, усиливаться, хотя казалось, что никто даже и не дышит. Однако со всех уст готов был сорваться крик ошалелости, восторга, изумлённости.
И тут же тонко и дико, как предсмертное, взвилось:
– Исполати, государь! Испола-а-а-ти!
– Испола-а-а-ти! – дрогнув, простонала стена.
Иван придержал коня. Лицо его, освещённое прямыми лучами солнца, было сурово, напряжённо, крутые излучины скул, резко высвеченные солнцем, делали его даже грозным и злобным, но, несмотря на всю эту суровость и грозность, почему-то казалось, что он вот-вот улыбнётся торжествующей, самодовольной улыбкой, улыбнётся и непременно оглянется на едущих за ним бояр.
Не улыбнулся, не оглянулся – приложил руку к груди и поклонился. Толпе.
– Мир и благодать вам, люди московские! – сказал он, как благословил, и снова показалось, что вот-вот улыбка разрушит его суровость. – Вижу любовь вашу ко мне, и душа моя полнится желанием быть достойным той любви! Молю я Бога, и вы молите, чтоб ниспослал он мне силы и крепость духа, и я положу любовь вашу в основание дел моих и вашей любовью да подвигнусь! Спаси Бог вас, люди московские! Спаси Бог! – Иван поклонился ещё раз. – Да не иссякнет щедрость ваших сердец!
Обычно любивший поговорить, позаигрывать с толпой и не скупившийся для неё на слова, он на этот раз был, на удивление, краток, словно этой краткостью, этой сурово-истовой сдержанностью, пронизанной горечью недосказанного, хотел показать взирающему на него люду свою тайную, небеспричинную смуту и боль души, за которыми скрывалось ещё нечто такое, чего он не мог пока им открыть.
– Исполати, государь! Исполати! – благоговейно возносилось над ним, и было в этом благоговении, в этом совсем ни к месту употребляемом возгласе не только стихийное, бездумное ликование, естественное в такую минуту, но и что-то большее, глубинное, тёмное, вековое.
– Исполати, государь! Исполати! – рвалось из душ это вековое, тёмное, полное священного трепета и радостной муки.
Взволнованный и оттого ещё более посуровевший, Иван поехал дальше. Впереди, до самой Никольской стрельницы, площадь перед ним была свободна. У стрельницы, за раскатом, на котором, как два золочёных бревна, сияли начищенные известью пушки, его поджидали верховые черкесы, высланные сюда, чтоб перекрыть дорогу, идущую от Воскресенского моста. Там, на этой дороге, уже скопилось сотни полторы возов и большущая толпа народа. Самые отчаянные, несмотря на безжалостные нагайки черкесов, полезли на раскат и, гордые своей дерзкой проделкой, высокомерно поглядывали оттуда на грозящих им черкесов и на толпу, лишённую возможности увидеть проезд царя.
Минуя Ильинку, Иван направился к Никольской улице; за ним нестройными рядами двигалась вся его многочисленная свита, растянувшаяся так, что, когда ом уже повернул на Никольскую, хвост её только-только показался в проёме ворот Фроловской стрельницы.
Никольская была почти пустынна.
– Изгнали-таки люд, – досадливо буркнул Иван. – А не велел ве́ди... – Не оборачиваясь, сердито позвал: – Федька! Темрюк!
Федька Басманов и Темрюк мигом очутились рядом.
– Не велел ве́ди изгонять люд! – грозно возвысил он голос.
– Так... не изгоняли, цесарь, – невинно ответил Федька, вильнув глазами, как собака хвостом.
– А где же люди?
– Так... – Федька будто наткнулся на стену. – Так... так нетути более людей, цесарь! – извернулся-таки он.
– Нетути?! – Иван сморщился, будто собирался чихнуть, изнеможённо мотнул головой и, резко выхекнув, как при ударе, беззвучно захохотал, задыхаясь от натуги. – Блазень, блазень[161]161
Блазень – шутник, проказник, повеса, соблазнитель.
[Закрыть]! – наконец продохнув и смахивая с глаз слёзы, срывающимся голосом проговорил он. – Сё на Москве-то людей нетути?! Шут гороховый! Ума у тебя нетути!
– Так... – опять о чём-то заикнулся было Федька, но Иван пресёк его:
– Замолчи! Не то вон уж и конь мой ушами прядёт. Того и гляди, разоржется на твою дурь! Эк и чадо у тебя, Алексей Данилович, – обратился Иван с насмешкой к старому Басманову. – Глуп по самый пуп!
– Оженить его надобно, – равнодушно отозвался Басманов. – В него дурь из мошонки прёт.
– Так давай оженим! – с готовностью предложил Иван. – Сейчас я ему и невесту сосватаю. Сицкой! – позвал он. – Яви-кось свою рожу.
– Я туто, государь! – без промедления откликнулся Сицкий, елейно олыбливая своё выпнутенькое, похожее на дулю личико. Он был с царём в свойстве (их жёны были родными сёстрами), необычайно этим гордился и все царские выходки и насмешки, обращённые к нему, считал проявлением родственного панибратства, поэтому всегда принимал их с благоговением, почитая сие за высшую честь для себя.
– Дочка твоя к венцу доспела? – спросил Иван у него.
– Двенадцать годков уж, государь.
– Вот и выдавай её за Федьку. На Красной горке[162]162
Красная горка – Фомино воскресенье (первое после Пасхи) – время свадеб в старину.
[Закрыть] и свадьбу сыграем.
Федька горделиво помалкивал. Такой оборот дела явно устраивал его. Ещё бы! Через брак с двоюродной сестрой царевичей он получал возможность породниться с самим царём. «Вот вам и дурень!» – было язвительно написано на его спесиво-ушлой роже.
Торговые ряды на Никольской были самыми богатыми – иконный, жемчужный, седельный, саадачный[163]163
Саадачный ряд – тле продавали луки с налучниками и колчаны, а также чехлы на луки и т. п.
[Закрыть], котельный, скобяной, – и потому особенно людной она никогда не была. Сюда ходили лишь те, кто был при деньгах, да и то не часто, ибо острой и повседневной нужды в продававшихся здесь товарах не было. Слыла она ко всему прочему ещё и боярской улицей: спасаясь от кремлёвской тесноты, сюда, на просторные берега Неглинной, переселилось много знатных бояр, но ещё больше незнатных, – и потому ещё не была она многолюдной. Но нынче, благодаря горячему усердию царских приспешников, она выглядела так, что и вправду можно было подумать, будто на Москве «нетути более людей».
За торговыми рядами, заканчивающимися у Денежного двора, стало и вовсе безлюдно. Иван, однако, уже не замечал этого: Федькина дурь и затея со сватовством отвлекли его, развеселили, да и то искреннее волнение, которое он испытал при виде благоговеющего перед ним народа, должно быть, с лихвой насытило его душу; к тому же он доказал всем своим тайным и явным врагам самое главное – то, что народ любит и чтит его, что народ предан ему, что народ с ним и за него, и, доказав, поверил в это сам и ещё пуще ободрился.
Дорога, огибая мощную огорожу Денежного двора, слегка отклонялась влево и выходила к небольшому пустырю, занимавшему часть отложистой береговой низины, рассечённой надвое китай-городской стеной. На пустыре, почти под самой стеной, высился сруб Печатного двора. С дороги он был хорошо виден, и Иван сразу заметил его.
– Печатня? – спросил он у ехавшего рядом Мстиславского, кивнув в ту сторону головой.
– Да, государь. Ты ве́ди ещё не видал её.
– Вот и заеду, погляжу, – стал он заворачивать коня – В иное время, поди, и не собраться за недосугом.
Подъехали к печатне. Васька Грязной, упреждая приказ царя, выметнулся из седла, взбежал на крыльцо, рукоятью нагайки принялся нетерпеливо колотить в дверь. Отворил ему сам Фёдоров.
– Встречай государя, дьякон! – сурово, как приговор, объявил ему Васька.
Фёдоров выступил из сеней, увидел Ивана, поспешно спустился с крыльца.
– Здравствуй-ста, государь! – скромно поклонился он. – Не чаял себе таковой радости! Милость твоя нежданна-негаданна. Душа моя даже смутно не вещала о таковом...
– Что же так оплошала твоя душа-провидица? – ехидно усмехнулся Иван. – То она подвигает тебя на пророчества – о грядущем Руси... Быть иль не быть ей великой! А то вдруг слепа в самом простом. – Он улыбаясь смотрел на дьякона, и от избытка самодовольства его улыбка казалась даже покладистой. – Не о таковых ли, как ты, писано: «Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие»?
– Не о таковых, государь, – спокойно и просто ответил Фёдоров. Но знал бы кто, как дались ему эти спокойствие и простота. Он будто душу заклал за них.
– И сможешь довести сие? – не отступился Иван. Улыбка его коварно заманивала в какую-то ловушку.
– Буде, и смог бы... – Фёдоров собрал все свои силы, обходя эту ловушку. – Да ве́ди написано: «Не оправдывай себя пред Господом и не мудрствуй пред царём!»
Улыбка сошла с лица Ивана.
– И то верно, – сказал он холодно, возвращая на себя привычную личину царственного достоинства. – Недосуг мне твои изощрения расслушивати. Не для того я тут. Завернул поглядеть на печатню, и вот вижу: отменно сработано.
– И уж всё готово к началу, государь. Вели – и почнём!
– Я уж давно повелел, – недовольно свёл брови Иван. – Коль готово, почто же мешкаешь? Указ тебе, что ли, стать писать?
– Что же… вот так просто взять и почать? – растерялся Фёдоров. – Нет, негоже так, государь! Не по-христиански сие! Вели освятить печатню, молебен вели отслужить... Мы, христиане, любое доброе дело молебствием зачинаем, мы пред скромной трапезой крестом осеняем себя... А тут – такое великое дело... В летописец впишут сей день!
– Что я, государь, ездил тешиться в Черкизово – вот что впишут в летописец, – с жестокой прямотой и невозмутимостью сказал Иван, и вовсе не кощунствуя – просто твёрдо зная это. Но для Фёдорова это было кощунством. Слёзы обиды навернулись ему на глаза, и он опустил голову, скрывая их от Ивана. Не хотелось, чтоб он надсмеялся ещё и над его слезами. А Иван продолжал с прежней невозмутимостью и так, будто и не хотел вовсе говорить этого, будто лишь тяжкая обязанность наставлять на свет и на истину понуждала его:
– Спасу нет уж от ваших великих дел! Како послушаю, како позрю, нынче всяк, уповая собою[164]164
Уповати собою – быть чересчур уверенным в себе, самонадеянным.
[Закрыть], мнит своё дело великим, будто на земле уж не водится дел обыденных. Воевода выйдет с ратью на супостата, отечество своё заступить, и возвеличается, ежели от врага не побежит! Боярин, окольничий, сын боярский дело своё неоплошно, по чести, по совести справит, како Богом ему заповедано, во спасение присной души, и також – будто аист на притучне! И каждому – кади! Каждому – молебствуй! Оттого и гордость, как писано, будто ожерелье, обложила вас, и дерзость, как наряд, облачает вас, – сурово и резко возвысил голос Иван. – Вот уж и ты, холоп наш худейший, чело долу клонишь... Не от стыда – от обиды на слова наши!
– От обиды, государь, – согласно поднял на него глаза Фёдоров. – Да не за себя... Что я? Холоп худейший, истинно... И не моим произволением поставляется дело сие, и не моим благословением движется. Я – лише перст, а рука – ты, государь! Дело сие твоё, и тебе воздадут люди за него. Великим воздаянием воздадут, поверь мне! Посему и помыслил я, что достойному достойное и начало должно.
– Блажен ты, дьякон, истинно блажен. Хоть святи тебя самого! Сулишь мне воздаяние от людей... А я жду от них суда и вражды. Да, суда и вражды! И многие осудят меня, и многие восстанут... Сердцами своими оскорблёнными восстанут на меня, понеже дело сие для Руси непонятное, тёмное, страховитое! Я и сам почасту в смятении думаю: не беру ли греха на душу, не чиню ли вреда нашей вере правой, не ступаю ли в помрачении ума своего вослед за теми отступниками Божиими – Лютерами и прочими, что развратили веру Христову в иных многих землях? А ты – освятить! Именем Господним утвердить дело сие! А ежели Господь не с нами?
Единый раз он уже воспротивился нам, ведаешь... Расстроилось дело сие... Нет уж, пусть грех, да без святотатства! Тихо и укромно починай и твори дело своё. А буде не станет оно у тебя получаться, приди ко мне и скажи, и я не поневолю тебя: стало быть, Господь кладёт свой запрет. А станет получаться – приди и яви.
– Но, государь, – заторопился Фёдоров, видя, что Иван намерился поехать прочь. – Ты и сам не хуже моего ведаешь, что дело, сотворяемое отай, рождает худую славу, и мы сами дадим людям повод думать дурно и превратно и навредим делу, и, как знать, не погубим ли? Господь заповедал нам слово своё, сказав в притче: возжёгши свечу, не держат её вскрове или под спудом, но ставят на подсвечник, дабы светила всем в доме. Мы же поступим вопреки слову Божьему.
– Отступи от меня и не поминай более имя Господне всуе, как писано, – тяжело сказал Иван, давая понять Фёдорову, что больше не потерпит от него прекословия. – Сказал так Господь, да не о всякой свече. О той лише, что несёт свет, но не о той, что несёт ослепление, которое от дьявола. Разумевай разнство и поберегись окаянствующей гордыни! Паче скромно сотворить угодное Богу, неже с гордостью – святотатство!
5
От Никольской дальнейший путь Ивана пролегал по Мясницкой – к Мясницким воротам Китай-города, потом через Большой посад, по Стромынке, до переправы на Яузе.
И на Мясницкой, и на Стромынке тоже было малолюдно: та же самая усердная рука поработала и тут, предупредив скопление народа, что здесь было действительно необходимо, ибо на тесных и узких улочках этих, особенно же на окраинной Стромынке, где, как говорится, бабы из окна в окно горшки ухватом передают, собравшийся люд, любивший поглазеть на такое диво дивное, мог здорово помешать и задержать проезд царя.
Люди стояли лишь возле церквей, под надзором церковного причта, – кое-где и с хоругвями, с иконами... Тут уже не было и доли той стихийности и того искреннего, шалого воодушевления, какими встретила Ивана толпа на торгу. Тут всё было чинно, спокойно, в меру торжественно. Священники, облачённые как для богослужения, выйдя к дороге с возжжёнными кадилами, читали молитвы и кадили проезжающему царю.
Нудно, монотонно встречало и провожало его однообразное: «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твоё-ё, победы благоверному государю нашему Ивану Васильевичу-у-у на сопротивные даруя-я и Твоё сохраняя крестом Твоим жительство-о-о!»
Иван, занятый беседой с Мстиславским и Челядниным, почти не обращал внимания на это благочинное действо. Лишь изредка, когда до его слуха доносились особенно усердно вытягиваемые слова торжественного тропаря, именуемого молитвой за царя и отечество, он добросовестно крестился и одаривал стоящих в понуром спокойствии людей степенным, благословляющим поклоном головы – и не более. Ни разу не остановился, даже не повернулся в седле, но и не торопился – конь его, сдерживаемый уздой, всё время шёл шагом: позволить себе не замечать свой народ он мог, не показать же себя этому народу – не мог, не смел, ибо свято веровал, что это тоже одна из обязанностей, возложенных на него Богом, его долг как государя – показывать себя своему народу, и он ревностно исполнял его.
– ...И в том нет чести, что он затворился от нас. Нет! И в праведниках ему не ходить! Ибо не на нас он восстал и не на неправду нашу, как мнит, но в гордостном суемудрствии своём ополчил душу свою супротив той правды, коей утверждена воля наша государская и стези наши земные, – открестившись и откланявшись на очередную усердную молитву и каждение, сказал Иван, возвращаясь к прерванной беседе. Затеял он эту беседу ещё на Никольской. Там, проезжая после посещения Печатного двора мимо хором князя Горбатого[165]165
...проезжая мимо хором князя Горбатого... — Горбатый-Шуйский Александр Борисович (?—1565), боярин, воевода. Фактически командовал взятием Казани в 1552 г. Был первым наместником в Казани. Казнён вместе с сыном во время опричнины.
[Закрыть], он неожиданно и как бы между прочим, без всякого явного умысла, спросил:
– А сё, никак, подворье князь Александра?
Казалось, ему и ответ был не нужен: спросил, как спрашивают от пустого любопытства, когда отдаются во власть глаз, не зная, чем занять себя. Но когда Мстиславский ответил ему, твёрдо зная, что никакой, даже самый пустячный вопрос его нельзя пропускать мимо ушей, если не желаешь себе худа, он враз оживился, словно только и ждал этого, словно ответ Мстиславского как раз и был той самой нитью, которую он желал получить, чтоб начать плести свои хитроумные словесные тенёта.
– Не подворье, а погост. Крестов токмо и недостаёт, – тут же и ухватился Иван за эту ниточку и, довольный своей шуткой, с зазывной улыбкой посмотрел сперва на Мстиславского, потом на Челяднина, как бы дозволяя и приглашая и их посмеяться вместе с собой, но весёлое его ехидство отозвалось смехом лишь в устах Федьки Басманова да Васьки Грязного. Челяднин сделал вид, что не совсем расслышал, а Мстиславский прикрылся своей обычной невозмутимостью, которая была для него тем же, чем для Ивана лукавство. Даже старый Басманов, вряд ли расположенный к Горбатому, и тот удержался от проявления своих чувств: не тем человеком был князь Горбатый, насмешками над которым можно было прибавить себе чести – скорее наоборот.
– ...А буде, князь уж и вправду помер? Два года, поди, как ни слуху ни духу! А буде, хвор? Иль в чёрные ризы влез?
Отвечал Ивану всё тот же Мстиславский – на правах близкого родственника Горбатого. Отвечал серьёзно, не подыгрывая и не подлаживаясь под его весёлое ехидство, а Иван, не обращая внимания на серьёзность ответов Мстиславского и на его явное нежелание вести разговор в таком духе, продолжал шутить и ехидничать, наверняка скрывая за этими шутками что-то совсем не шутейное. Заодно раздразнивал Мстиславского и тем самым всё сильней и сильней втягивал его в разговор, не забывая, однако, и про Челяднина, к которому не обращал своих вопросов, но вёл себя так, словно искал у того поддержки и союза, притом делал это столь тонко, что поначалу и понять-то было нельзя, против кого он старается составить такой союз – против Мстиславского, стремившегося защитить своего тестя от насмешек, или против Горбатого?
– Хотя бы плюнул к нам! Экой гордец! Да и глупец, истинно, глупец! Получается как в этом присловье: скачет баба задом и передом, а дело идёт своим чередом.
Давно остались позади и Никольская, и подворье Горбатого, Ивану впору было уже и позабыть про князя... Ан нет! Чем бы он ни отвлекался, куда бы – надолго или ненадолго – ни отклонялась его мысль, он снова л снова возвращался к разговору о Горбатом, и чем дальше заходил этот разговор, тем всё меньше и меньше оставалось в его речи шуток и ехидства и всё настойчивей и твёрже поворачивал он на тот путь, который наметил загодя, преследуя какую-то одному ему ведомую цель.
– Затворничество его – никому не укор, а паче всего – нам! Мы его с глаз долой не гнали и от милостей своих не отставляли! Нашими милостями он повсегда пребывал и пребывает в благополучии, и дни его сохранены. Душевные же утеснения его, о коих так велеречиво печалуются некой, – так то присный яд души его... Пред каждым из нас в одночасье положено две стези – Богом и дьяволом. Князь сам, своей волей избрал, по которой пойти. И ни славы его, ни греха мы не преложим. Токмо славы ему на том пути не сыскать и праведности не обрести. То путь греха и душевного осквернения, и не мы боимся глядеть ему в глаза, но он нам. Иль, буде, не прав я? Иль превратен? – с плохо скрытой самоуверенностью спросил Иван. – Вот ты, Челядня! Ты всё молчишь... Заткнутый сосуд и молчаливый человек – неведомо, что в них есть. Скажи: прав я иль не прав?
– Мне как судить, государь? Я был далеко, и дела сего допряма не ведаю. Толико и слышал я, что вскручинился вельми князь Александр... А пошто – ты сам ведаешь.
– Ведаю! Како ж не ведать?! – Иван то ли улыбнулся, то ли поморщился: явно не такого ответа он ждал от Челяднина. – Похотелось князю, плывя по реке, править не токмо судном, но и рекой, – сказал он нарочито громко, чтоб слышали не только Челяднин и Мстиславский. – А река, ведомо, течёт своим неизменным током, как и пристало ей течь... Вспять не поворачивает. Вот князь и вскручиннлся, осердившись на реку. Да и он ли один? В те поры многие воскручинились. И Курлятев и Курбский!.. Весь тот синклит Алёшкин, с попом их любезным Силивестром, чьими проповедями зловредными и надоумились они реку вспять поворачивать. Он их прельщал сладостной мыслию, что они достойны делить с нами власть... И нам внушал то же самое, выставляя за высшее благочестие искать согласия с холопами своими. В обычай уж стало входить: я не смен слова сказать ни единому из самых последних советников, а советники могли говорить мне всё, что им вздумается, и обращались со мною не как со владыкою или даже братом, но как с низшим... Кто нас послушает, сделает по-нашему, – тому гонение! Кто раздражит – тому слава и честь! Попробую прекословить – и вот мне кричат, что и душа-то моя погибнет, и царство разорится!.. Кто мог такое снести?!
Иван говорил таким тоном, что невозможно было понять – оправдывается он или обвиняет, и делал это, несомненно, намеренно, ибо предназначал сказанное и друзьям и недругам – одновременно.
– ...Однако же, разогнав ту синклитию Алёшкину и сыскав все их измены собацкие, я никому не заплатил за зло злом: смертною казнию не казнил никого... Лише по разным городам разослал. И попа, вождя их духовного, також не злобой и опалой отогнал от себя, но он сам оттёк по своей воле. И я его отпустил... Не потому, что устыдился, но потому, что не хочу судить его здесь. Я хочу судиться с ним в грядущем веке, пред агнцем Божиим!
Голос Ивана оставался спокойным: всё, о чём он сейчас говорил, уже отболело, отмучило его, ярость и надсадная острота прошли, и теперь в нём говорила лишь память, пусть и злая, мстительная, но память – или что-то другое, такое, что могло быть и страшней и злей его памяти. И в самом деле, это что-то существовало. Оно явно чувствовалось в его необычном спокойствии, которого он, должно быть, и сам ещё не замечал в себе – так неощутимо оно вошло в него, преодолев в нём, казалось, непреодолимое. Он как будто поднялся сейчас над самим собой, обретя это спокойствие, поднялся над ничтожностью злобной одури и юродства, уводивших его в мрачные потёмки, за которыми крылась и вовсе кромешная тьма. Но конечно же, это его спокойствие пришло к нему совсем не потому, что в нём отболела душа и поулеглись былые страсти. Да, старая рана затянулась и боль поутихла, но разве же в нём была только одна эта рана и разве же были лишь старые раны? Нет, тут было иное. Тут исподволь, но властно проявлялась его окрепшая вера в себя, в свою правоту и непреложность той созданной им для себя правды, которой он увенчал своё изгойство, а также и внутренняя сила, прежде всего сила его власти над самим собой, как раз и давшая ему это спокойствие – как оружие, которым он ранее не владел, и вместе с тем твёрдая, трезвая устремлённость, которой было необходимо именно такое оружие.
– ...Я с ними со всеми хочу лише Божьего суда и давно уж отставил от сердца всё былое нелюбье. И в памяти – також не стал бы держать, отступись и они от своего недоброхотства. К ногам им моим бы притечь, осмирив гордыню, и доброю службой затмить всю былую усобицу... Так нет же! В возносчивости своей закосневши, плодят недоброхотство и нелюбье враждебное...
– Нелюбье ли, государь? – вставил осторожно Челяднин. – Пошто так едино и мнишь? Ан как обида горчайшая?
– Такого и вовсе приять не могу. Не бабы мы, чтоб обидами разум себе затмевать. Коль обида, то вот он и сказ весь, тому же князь Александру... Поезжайте к нему, ты, Челядня, да и ты, Мстиславый, и скажите на обиду его, моим словом скажите: довольно бабам уподобляться! Силивестра уже не воротишь! Да и не стоит того поп, чтоб из-за него свару длить.
– В сердце у князя великая рана, и боль, и обида, и не нам с князь Иваном приглушить в нём ту боль, не нам уменьшить его обиду, – возразил Челяднин. – Прости меня, государь, но я сие на себе изведал. Покуда ты сам не призвал меня своим присным словом, никто не смог бы меня уговорить.
– А я не уговаривать его посылаю вас. Я посылаю вас передать ему моё повеление, – резко возвысил голос Иван. – Мои слова – наказ! – добавил он ещё резче и вдруг, словно напугавшись чего-то в самом себе, потупился и смолк, явно пережидая эту короткую вспышку гнева и злости, которые сейчас почему-то изо всех сил старался придушить в себе, не выказать, не выдать, будто они могли стать помехой чему-то.
– Мы-то, государь, твой наказ исполним. Исполнит ли его князь Александр? – заметил невозмутимо Мстиславский. Но эта невозмутимость была похлеще откровенной издёвки.
Иван, однако, как будто не учуял этого, сказал – опять спокойно и ровно:
– Запамятовал князь простую истину: служа мне, он служит отечеству... Допрежь всего! Я и зову его послужить отечеству, а не чоботы с себя стаскивать. Отечество-то уж ни в чём не повинно пред ним. Да и не время нам нынче считаться обидами, – совсем уже примирительно прибавил он. – Доручим их паче Господу. Он нас разочтёт в судный час по справедливости, а нам надлежит иным вооружить свои сердца... Русь стоит у великих врат. Там, за теми вратами, – слава её и могущество. Добыть их – нетто же есть деяния достойней? Нетто же можно таковое презреть и попрать в угоду своей разбесившейся гордыни?
– В человеке, государь, самое великое безумство – сё безумство его гордыни, – сказал Челяднин так, словно предостерегал Ивана от чего-то. – Она может попрать и презреть всё – веру, отечество, собственную жизнь.
– То не гордыня, что может презреть святыни. То чистое безумство уже... Либо вражда. Истинная гордость мудра, боярин, и благочестива, и степенна. Она не затевает никчёмных свар, дабы явить себя, и злопыханий мерзостных не плодит, и скверны не источает ядовитой. Она являет себя велелепостью своего достоинства, чуждая бренной суетности, и, стоя даже на низких местах, воздвизается надо всеми. Будь у князя Александра, у Бельского, у Воротынского, у всех вас таковая гордость, я бы воздал ей должное и приял в сердце своё, ибо ведал бы, что она не заманит вас на лихие стези, не уведёт в стан недругов, не выдаст души ваши великому греху измены... Но что я зрю ныне? О князь Александре не буду уж говорить, всё о нём сказано. Об иных скажу... О тех, кто у нас в великой чести от пелёнок – о Воротынском да о Бельском. Что Воротынскому злопыхать на нас? Что злокозненность творить? Какие неправды воздвигли мы на него? В чём умалили, в чём разверстали? Не отдали выморочного жеребья? Так нетто же не своим распорядились, тем, что искони нам принадлежит? Нешто не мы, а Воротынские государят на земле Русской? И ежели в том вся причина его злобства, то в том и всё достоинство его, и цена его верности – нам и отечеству...


![Книга Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного] автора Елена Арсеньева](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zheny-groznogo-carya-garem-ivana-groznogo-213715.jpg)





