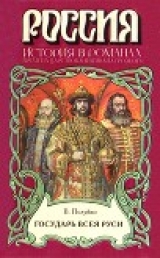
Текст книги "Государь всея Руси"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 35 страниц)
2
Над урочищем стояло полуденное солнце – ярое, обложное. Оно словно расплавилось в прозрачном тигле весеннего неба и пролилось на землю невесомостью тепла и света, яркостью бликов, радужностью красок и мягкой сусалью теней, приникших даже к самым мельчайшим былинкам. И всего этого было так много, и так щедро всё это отдавалось земле, что казалось, его, солнца, просто не хватит, что оно иссякнет, истлеет, угаснет... Щедрость эта, эта избыточность, казалось, была и земле в тягость: не шелохнувшись, будто в изнеможении, стоял лес, ещё не набравший после зимы полной силы, недвижно, распластанно, будто приплюснутый чем-то тяжёлым, лежал пруд, отсвечивая всей своей прозрачной толщей, словно был наполнен не водой, а этим искристо-радужным расплавом, стекавшим с неба; и степь, раскинувшаяся позади пруда, и далёкие холмы, катившиеся, как волны, в широкую луку урочища, и само урочище – всё, всё это, переполненное, перенасыщенное теплом и светом, казалось, изнывало, изнемогало в тягостной, неравной борьбе с солнцем. И только люди явно радовались ему и не тяготились его обилием и щедростью, не прятались от него, не искали защиты. Даже Иван не велел ставить свой шатёр в усолонь – под деревья. Раскинули царский шатёр посреди урочища, настелили вокруг ковров, принесли из хором лёгкую фряжскую скамью со вслоном[168]168
Вслон – спинка.
[Закрыть], обитую рытым бархатом, и царь, воззирая на лихую игру с медведями, полдня нежился на солнце, сняв шапку, распоясавшись, распахнув кафтан...
Бояре, те, что были познатней и побогаче, приехавшие, по обычаю, с собственными шатрами и шатерниками, тоже, глядя на царя, расположились на солнышке – и самим понежиться, и шатры просушить после зимнего хранения. 0ни и теперь, после прекращения игр и ухода царя, не полезли под пологи: солнце оказалось сильней обычаев, сильней их умащённого чванства и изощрённых правил чести, по которым для них считалось зазорным быть в простоте среди худородных или не столь знатных и богатых, не имеющих своих шатров. Эти бесшатерники, они ведь и ночевать-то будут в царских обиходных хоромах – в подклетях, в сенях да предсеньях, где обычно обретается царская дворня. Так разве ж можно смешиваться с ними, пусть даже и средь урочища или чистого поля, где, казалось бы, все пути и места одинаковы?!
Но нынче принишкла в дородных спесь, вылезли они на солнышко, как сурки после долгой зимы, пригрелись, разомлели, лень им стало сторониться худородных, да и не всякого худородного сторонится боярская спесь. Разборчива она. Вон Висковатый! И худородный, и бесшатёрный, а бояре так и льнут к нему, в шатры к себе зазывают: «Пожалуй, дьяк Иван!» А то и по отчеству: «Иван Михалыч!» То медку хмельного отведать, то ещё какой-нибудь любезностью заманивают – почтительно, угодливо, даже льстиво, и, хотя в душе у них полно презрения к нему и самой чёрной зависти – полно, не иначе! – но с виду готовы рассыпаться перед ним в прах. Не все, разумеется, Мстиславский не станет заигрывать и панибратствовать с дьяком, даже если этот дьяк – Висковатый. Не станет и Бельский, и Челяднин, и Шуйский, и Щенятев... А Темкин станет, и Сицкий станет, и Салтыков, и Умной-Колычев, и Чёботов... Все они не преминут позаиграть с первым дьяком, уноровить ему, похлебить, авось и отзовётся это в нём каким-нибудь добрым словцом, замолвленным за них перед царём. Влиятелен дьяк и в чести у царя – в особой чести! Слово дьяка веское, и царь никогда не пропускает его мимо ушей.
Нынче Сицкий, занудистый царский свояк, рьяней всех наседал на Висковатого, зазывая его к себе в шатёр. Причину этой особой любезности и настойчивости боярина понять было нетрудно. Свадьба дочери, которую Иван нынче сосватал за Федьку Басманова, – вот что понуждало боярина так усердно обхаживать дьяка. Дочь Сицкого была не просто боярышней, одной из тех боярских дщерей, которые, благословясь у батюшки с матушкой, после Пасхи, на Фоминой неделе, пойдут под венец. Дочь его была двоюродной сестрой царевичей – кровное родство! – и свадьба её должна быть сыграна так же, как играют свадьбы в царском дому. А в царском дому свадьбы играют по особому чину. Тут ничего не делается как Бог на душу положит, и своей волей никто и шагу не ступит, и слова не вымолвит. Тут всё расписано до мелочей: кому что делать, где стоять, где сидеть, куда ходить и как – кому за кем и в какой черёд, кому нести свечи и каравай, кому чесать волосы жениха и невесты, кому осыпать их хмелем и опахивать соболями, кому раздавать ширинки, а кому ставить блюда перед молодыми, и кому – перед гостями, и кому – посылать эти блюда в рассыл... Досконально расписано и то, где должны быть поставлены свадебные места молодых и как они должны быть убраны: бархатом или камками, какие изголовья должны быть положены на них – расшитые и низанные жемчугом или только расшитые, и сколько соболей будет на изголовьях – по сороку или по полсорок, и какой стол должен быть поставлен подле, где будут лежать калачи и соль, и какими столешниками он будет покрыт, и сколько денег – золотых или серебряных – будет лежать на свадебном каравае; не забудут ни о покровцах, ни о ширинках, ни о свечах с обручами, что поднесут молодым, не забудут и о склянице, которую разобьёт и растопчет ногами жених, выпив поданное ему при венчании в церкви вино, и осколки которой, по древнему обычаю, отнесут и бросят в реку. Ничего не забудет дьяк-грамотей, который будет составлять эту роспись, называемую свадебным чином или разрядом. Да и не может он забыть или упустить чего-нибудь, потому что не из своей головы берёт всё это, не сам придумывает, а пишет, глядя на прежние росписи, которые все до единой собраны в свадебных книгах. Росписей этих там столько, что многих никто и не помнит, особенно тех, что записаны туда и двадцать, и тридцать, и пятьдесят лет назад, и в воле дьяка составить чин познатней, пороскошней или, наоборот, – попроще, похудей, сыскав в книгах любые нужные примеры и доказательства. Конечно, свадебный чин самого даря или самых близких, единоколенных его родственников никто не посмеет умалить. Каждая новая такая свадьба всегда пышней прежней, и чин таким свадьбам составляют без оглядки на прежние, ну а с прочими царскими родичами – третьих, четвёртых, пятых колен – дьяк, составляя роспись, может и посамовольничать. Ежели тридцать лет назад на свадьбе какой-нибудь царской племянницы взголовье на местах молодых не было шито жемчугом и лежало по полсорок соболей, а десять лет спустя у такой же племянницы или племянника и жемчуг изукрашивал взголовье, и соболя лежали сороками, и на свадебном каравае были фряжские золотые флорины и дукаты вместо серебряных московок или новгородок, то дьяк для нового чина мог выбрать то, что ему заблагорассудится. А дьяческое благорассудство и побуждения неисповедимы, как пути Господни. Ненависть и вражда к одним, расположение и любовь к другим, корысть, расчёт, угодничество, лизоблюдство ложатся на весы и склоняют чашу то в одну, то в другую сторону. Нередко серебряные новгородки иль московки в дьяческих руках легко превращались в золотые флорины и дукаты на свадебных караваях, а тафтяная шуба, поднесённая во мзду, ложилась на шитые жемчугами взголовья полными сороками соболей.
Велика и непостижима эта штука – дьяческая благорассудность, и тот, кто хочет переплюнуть других то ли свадьбой, то ли крестинами, то ли даже похоронами, тот не пустит дела на самотёк, не доверится дьяческой благорассудности и разрядным книгам, в которых эта же самая благорассудность, задобренная серебром и шубами, давно утвердила себя чернильной строкой, смешав праведное с грешным.
Вот и Сицкий от той же заботы заходился обхаживать Висковатого, зная, что тот, составлявший последний царский свадебный чин, будет непременно составлять и этот.
Боярин не питал надежды задобрить или подкупить дьяка: Висковатый был неподкупен, и ни серебро, ни шубы, ни соболя не заставили бы его составить для Сицкого чин, которого ни он, ни его дочь не заслуживали. Просить дьяка, уповая на его добросердечность, тоже было бесполезно: он не был добрячком. Наоборот, слыл суровым и непреклонным, даже беспощадным, особенно в делах службы, потому что стремился быть справедливым, а справедливость – это чаще кнут, чем пряник.
Зная всё это, Сицкий намерился подойти к дьяку совсем с иной стороны: соблазнить, подкупить его собственным расположением. Ведь он, Сицкий, – глава особой думы, созданной Иваном при царевичах, и, стало быть, главный опекун, ежели... И дьяк, конечно, как и все иные, не может не думать об этом и не приискивать себе новой опоры на случай этого ежели.
Что злато, что серебро, что шубы, шелка, бархаты? Для мудрого вся эта рухлядь – ничто! Иное дело – человеческое расположение! Дружбу и участливость не купишь ни за какие деньги. А земное счастье переменчиво: сегодня ты на коне, а завтра сброшен долу, в прах, в гной, и кто тебя поднимет оттуда, как не тот, кто облагодетельствован тобой. Так думал Сицкий, нисколько не сомневаясь, что Висковатый, со своим умом и прозорливостью, не станет пренебрегать его благорасположением. Он был неглуп, Сицкий, и понимал людей, но понимал ровно настолько, насколько понимал самого себя, и потому мерил всех на свой аршин. А той меры, которая могла бы быть приложима к Висковатому, он не знал и не подозревал даже её истинной величины и сущности, и потому сейчас – с презрением, поняв, что не возьмёт дьяка своими ласками, а после – в злорадстве, когда свершится над дьяком лютая воля царя, он будет думать, что дьяк просто ошалел от свалившегося на него счастья, положив себе слишком высокую меру и слишком высоко оценив себя.
– Что же обижаешь меня, Иван Михалыч? – Сицкий не стал скрывать своего неудовольствия холодным отказом Висковатого. Его маленькое, бабоватое лицо даже слегка ощупло, стянутое, как завязкой, надменно-обиженными губами.
– Да чем же, Василий Андреевич?
– Гнушаешься моим приглашением. А я ве́ди с добром к тебе...
– Не гнушаюсь, Василий Андреевич. Стерегусь... Как бы не сказали ненароком, не к чести твоей, что улащиваешь ты меня.
– Пошто мне тебя улащивать-то, дьяк Иван?! Мы с тобой – как небо и земля!
– То верно, Василий Андреевич. И вон, у окоёма, земля с небом смыкается, да с виду токмо... А поди на то место, позри – ан и тамо они первозданно разъяты.
Из царского шатра высунулся Федька Басманов, властно позвал:
– Дьяк Иван! Цесарь кличет!
Иван сидел на невысоком лежаке, покрытом белой, татарской выделки, кошме, был угрюм, отрешён. Руки, сплетённые на груди, тяжело оттягивали ему плечи, и он казался вялым, безвольным, подавленным, покорно ждущим чего-то или уже отчаявшимся дождаться. На вошедшего Висковатого не обратил никакого внимания, не глянул, даже не пошевелился, – так и остался сидеть, безвольно, угрюмо сгорбленный, но с напряжённо вскинутой головой, которая одна и не покорилась этой тяжёлой истоме, одолевшей его тело.
Перед ним стоял небольшой, низенький столик с круглой столешницей, отделанной тонкими резными пластинами из бивня моржа, на столешнице – книга. Висковатый знал эту книгу, он и прежде не раз видел её у Ивана. Это был «Просветитель» Иосифа Санина[169]169
Это был «Просветитель» Иосифа Санина... – Иосиф Волоцкий (Иван Санин; 1439/40– 1515), основатель и игумен Иосифо-Волоколамского монастыря, известного своим высоким иноческим уставом; глава иосифлян, возглавлявший борьбу с еретиками и нестяжателями. Писатель (в том числе автор «Просветителя»).
[Закрыть], знаменитого вождя иосифлян. После Священного Писания и Патерика[170]170
Патерик (отечник) – сборник житий русских святых.
[Закрыть] книга неистового волоцкого игумена была наиболее читаема и почитаема Иваном. Отсюда, не без усердной помощи митрополита Макария, он почерпнул первые и самые впечатляющие мысли о божественной природе царской власти, здесь нашёл идею самодержавства и беспредельности воли государя, уяснив со всей силой своей могучей страсти их священное триединство и нерасторжимость, подобные триединству и нерасторжимости Святой Троицы. Тут, в этой книге, были истоки его незыблемой веры в великую предопределённость своих путей, которыми он шёл, попирая всё – и правое и неправое, – тут были истоки его вседозволенности и святой убеждённости в неподсудности ничему земному, ибо преизощрённая эта скрижаль торжественно провозглашала: «От Бога дана бысть держава вам. Вас бо Бог в себе место избра на земли и на свой престол вознёс, милость и живот положи у вас». Тут были истоки ещё очень многого, тут было начало начал!
Теперь всё это уже вызрело в нём, окрепло, заматерело, соединившись с его собственным – ещё более непомерным и воинствующим, но он до сих пор не расставался с этой книгой. Что он ещё искал в ней и что находил? Что она рождала в его неистовой, посягнувшей на нечеловеческие пределы душе? Этого никто не знал. Не знал, быть может, он и сам.
Федька Басманов, выжидательно стоявший за спиной Висковатого, тихо окликнул Ивана. Тот будто и вправду очнулся: неподвижные глаза его дрогнули, он всхмурил брови, глухо сказал:
– Поди прочь, Басман.
Федька, обиженно сопнув, убрался из шатра.
– Почитать хотел... – Иван положил руку на книгу, помедлил, насторожив ухо, словно опасался, что Федька будет подслушивать. – Да не чтётся.
– Что же так, государь? – спросил Висковатый, чувствуя под сердцем холодную пустоту. Так бывало всегда, когда он не знал, зачем Иван призывает его. – Книга прискучила иль иное?..
– Нешто книга сия может прискучить?! – возмутился Иван, словно Висковатый усомнился в каких-то его личных достоинствах. – Книга сия!.. – Он взял книгу двумя руками, торжественно приподнял. Слова уже ничего не могли добавить к этому, и он, измерив дьяка презрительно-вялым взглядом, бережно опустил книгу на стол. – Неужто не читал ты её, что безлепицу таковую глаголешь?
– Не довелось, государь.
– Не довелось? – Взгляд Ивана стал напряжённей, острей, вялость исчезла, и презрительность, в которой была немалая доля снисходительности, сменилась холодной отчуждённостью. – Да и не станешь читать... Знаю. Как тебе стать читать книгу столь ревностного гонителя еретиков, коли ты сам еретик?
– Куда мне, государь? – улыбнулся Висковатый, стараясь отшутиться. – Знать бы свои дела, которые на меня положены, да не разронять списков.
– Вот-вот! Не позабыл выговор митрополита. Я також помню, за что на тебя святой собор епитимью наложил. За то, что о святых иконах сомнение имел и вопил, возмущая народ.
– И за то – також... Но более всего за то, что нарушил правило шестого Вселенского собора, возбраняющее простым людям принимать на себя учительский сан, – подсказал Висковатый, не оставляя шутливого тона, хотя уже не шутил, а скрыто дерзил, правда целя не прямо в Ивана, но и не мимо.
– А за то тебя пуще следовало покарать, бо уж больно любишь ты всех поучать. Почал с попов, а уж подбираешься ко мне.
Иван сказал это со злым ехидством и явным намерением нанести Висковатому удар почувствительней, но, сделав это, сразу же и понял, что перестарался. Напоминать о их недавнем недобром разговоре, а тем более возвращаться к нему он совсем не собирался и не хотел вновь разругаться с дьяком. Глаза его, только что злорадно пялившиеся на Висковатого, чуть ли не виновато вильнули в сторону: он явно ругнул в душе свою запальчивость, но исправить ничего не захотел, предоставив дьяку самому выбираться из этого положения.
– Я, государь, за то, что ты зовёшь поучениями, жалованье от тебя получаю, – сразу же затворив в себе на крепкий запор всё, кроме разума, спокойно и уже серьёзно сказал Висковатый. – Щедрое жалованье, государь! И мне не пристало справлять своё дело небрежно, межу чахи и ляхи. Совесть не дозволяет.
Иван ничего не ответил на это, смолчал: то ли давал возможность Висковатому выговориться и облегчить душу, то ли просто сдерживал себя, боясь вновь соблазниться какой-нибудь злой издёвкой, что в изобилии рождал его ум, и вконец замкнуть, пригнести дьяка, который и без того уже был достаточно угнетён усилившимся между ними разладом.
– А опричь того, государь, что положено мне по службе и что совесть моя возбраняет справлять безревностно, есть ещё нечто большее... Долг пред тобой, государь, и пред отечеством нашим, у коего мы все под тяжкою, но благою данью. И оплачивать ту дань надобно сполна и неотступно: делами, но и бесстрашием сердца, государь, и крепостью духа, и дерзанием разума.
Иван молчал. Висковатый, смущённый этим молчанием, но не напуганный им, не подавленный, ещё прибавил – с душой, не удержав её таки под запором:
– Паче витиевата моя речь и, буде, смешна тебе, да пришёл черёд и таковым словам. Бо меж нами, государь, всё либо злые, усобные слова, либо шутки пустотные.
От Ивана не ускользнула перемена в голосе Висковатого – его почти неуловимое дрожание и глуховатая омягченность, как будто сдавленность, – от горькой судороги, перехватившей ему горло. Он понял, отчего это пришло, и ждал, когда дьяк, сжавшийся в комок от его слов, вновь приоткроет свою душу.
– Что в том худого, что шутки? Шутки – то веселие, а без веселия како человеку прожить? – Тон, каким были произнесены Иваном эти слова, сбивал с толку. Невозможно было понять – оправдывается он или обвиняет, примирительность это или воинственность, нарочитость или искренность.
– ...А что, говоришь, усобица меж нами... Так заносчивого коня построже зануздывают.
– Я не заносчивый, я самый верный твой конь.
– Пусть так. То мне любезно и радостно слышать. Но что же ты, верный мой конь, за каждый удар плёткой норовишь меня из седла выкинуть? Ну, хлестнул я тебя! Ну, зря! Нешто чести твоей то ущербно?
– Что честь, государь? Честь – пустая людская выдумка. Душе истомно...
– Ну, я тебе не поп, чтоб душу твою ублажать! И не наводи меня на новую усобицу – не для того я тебя позвал. Давеча говорил ты мне про каперов, что у свейского да у Жигимонта заведены, – резко переменил разговор Иван, – которые разбой чинят над купцами, что к нам в Ругодив с товаром плывут. А и в прежние сказывал, как из посольства от дацкого воротился, что видел их суда разбойные. Я в те поры войной был занят, не до того было... Пустил мимо ушей твой сказ. А ныне, прочетчи сказки[171]171
Сказка – здесь: подробная запись рассказа о чем-либо; письменное свидетельство.
[Закрыть] купецкие о разбое, что ты мне подал, хочу раздумать гораздо и порешить о том, како нам тех купцов любчанских от того разбою оборонить. Посему и покликал тебя, время втуне не проводить дабы...
– Сказки те, государь, да расспросные речи, что ты прочёл, я уж, поди, как с лето целое собираю. Повелел я подьячим ругодивским записывать слово в слово, как купцы скажут, что они сами своими очьми зрели и что им самим учинилось от тех каперов ляцких и свейских, а чего не зрели и чего с ними самими не учинилось – того не велел записывать... бо вельми много, государь, всяких безлепиц и лжи течёт с языка на язык. И как мне было с тою безлепицей и лжой к тебе идти? А нынче ты сам ведаешь, как тот разбой учиняется и сколико убытков от того разбою.
– Худо дело. Этак-то и вовсе к нам ходить не станут... Отобьют охоту.
– Худо, государь... да не вовсе. Я расчёл: во всякий месяц, как сходит лёд и починается плаванье, к нам приходит до сотни судов, а каперы захватывают три, редко четыре... Случается и пять. Но всё равно, купцы сказывают, что многие из них уж поразорились и больше не хотят везти к нам товаров.
– И не повезут! – резко, с сердцем сказал Иван. – Им бы токмо прибытки считать, тем худославным лавочникам, а щитить от каперов их должен я, будто дел иных у меня нету!
– Я, обаче, мню, государь, что любчане не перестанут ходить в Ругодив, ежели и из каждых десяти снаряженных судов каперы будут разбивать у них два или даже три.
– Ты мнишь, – буркнул, успокаиваясь, Иван. – Что мне от твоего мненья? Мне накрепко надобно знать: будут ходить иль не будут?
– Накрепко, государь, о таковом деле как дознаться? Обаче давай рассудим... И Жигимонт, и Ирик, и сам император ерманской запрет положили ругодивскому плаванью, а любчан тот запрет не остановил. На имперских съездах и в послании Ирику они на своём стоят, что не могут перестать торговать с нами. Для Любока, государь, и для иных городов немецких прямая торговля с нами, в обход свейских таможен, – такой жирный кус, что оттащить их от него не под силу ни Ирику, ни Жигимонту.
– То слабый довод. Так было, покуда их не одолевали убытки от разбоя каперского. А как будет нынче?
– Тебе ведомо, государь, что любчане отказались пособлять Ливонии, коли ты на неё наступил, а вот Фридерику на свейского они свою подмогу сулят. Стало быть, ради беспрепятственной торговли с нами они готовы вступить даже в войну с Ириком на стороне дацкого. А война, государь, изубытчит их пуще всяких каперов.
– К тому их принуждают опять же убытки. Стало быть, вон как велики они, раз любчанские лавочники готовы раскошелиться на войну. И они уже есть! А будет ли та война – один Бог ведает... да ты! – не утерпев, поддел-таки Висковатого Иван. – Саксонской князь Август, тесть Фридериков, не жалеет сил, чтоб уговорить его сложиться со свейским и выступить сообща супротив нас. А иные имперские князья – и бурги[172]172
Бурги – князья Бранденбургские.
[Закрыть], и пруссы, и померанские також – в свой черёд стараются, подымают на нас императора. Каждое лето жду: вот пойдёт Ермания на нас!
– Не пойдёт, государь. Любчанские лавочники сильней имперских князей, и они не допустят такой войны. Покуда ты будешь держать в своих руках море и прямо торговать с ними, потуда они будут держать в своих руках императора.
– Экий вещун-провидец! – вновь поддел Иван Висковатого. – Мнишь, миром правят лавочники? Не-ет! Миром правят вражда и страх! Они могут пересилить всё! И всегда надобно опасаться вражды – не токмо в сильном, но и в самом слабом. А страх надобно использовать... Себе во прок. Император пуще всего боится нынче турского. У турского великая сила, и императору не превозмочь одному той силы. Он будет чаять себе крепкой подмоги. И мы будем сулить ему ту подмогу. И теми посулами сами будем держать императора в руках... В своих руках, не уповая на лавочников. Нынче, ты прав, любчане будут вселичь отворачивать императора от войны... Выгоды, сулящиеся от торговли с нами, пересиливают в них вражду к нам. Но уповать, что так будет во всякую пору, – негоже! Завтра всё может перемениться, как уже было не раз... Почитай летописи! Сколико Новоград потерпел от них! Посему – не лавочники, а мы сами должны не допустить войны с императором. А лавочников також негоже оставлять на разбой каперам, дабы протори и убытки не отворотили их от нас и торговли не затворились бы[173]173
Торговли не затворились бы – не прекратились бы торговые отношения.
[Закрыть]. Надобно нам оборонить их... Сколико у Ирика да у Жигимонта тех разбойных судов?
– Свейские суда, государь, ходят на разбой по едину, по дву... Ходят под чёрной хоругвью, и быстры на ходу вельми. Купцы сказывают, что уйти от них и под всеми парусами не просто. А сколько всего тех судов у Ирика – неведомо. А ляцкие ходят по пяти, по шести, а на хоругви у них орёл и рука с мечом. И, сказывают, вооружены гораздо – фальконетами и пищалями. О том я и сам могу посвидетельствовать. Как правил я посольство у Фридерика, то суда его королевские воинские захватили в ту пору и привели в гавань одного ляцкого капера. И я просил короля показать его мне, и король пожаловал меня, велел показать, и я видел. А приставы после сказывали, что капитан того ляцкого судна был пытан и с пытки показал, что у Жигимонта таких судов пятнадцать, и ходят они на разбой из Гданеска. А люди на тех судах, государь, разноплеменные: и ляхи, и кощубы, и свей... Добыча от того разбою идёт в раздел – капитанам и людям всем, а король в ту добычу вступается лише десятой частью.
– Ляцкие каперы ещё в бытность отца моего вредили торговле с нами. Жигимонт Казимирович изобрёл сей разбойный промысел, коли с отцом моим враждовал. А ныне и сын его, не умея одолеть нас своим королевским дородством, наострился на тот же гнуснейший промысел. Ну да ежели при отце нашем у нас моря и в горстке не было и мы щитили себя лише на суше, то нынче мы постоим за себя и на море.
– Но где, в какой земле мы сыщем себе суда и капитанов, государь?
– А то уж твоя забота! Скажи купцам, что я зову к себе на службу таких храбрецов, а купцы разнесут мой зов по всем землям, и таковые сами сыщутся. В любых краях, дьяк, обретается немало людей, которые повсегда готовы обратить свою храбрость в ефимки и флорины.
Иван замолчал и как-то сразу, в один миг – это стало видно по его заострившемуся лицу – отрешился от всего, о чём только что говорил и думал. Руки его вновь заплелись тяжёлым узлом, оттянули ему плечи, сгорбили его, и он вновь стал казаться таким же, каким увиделся Висковатому вначале. Висковатый смотрел на Ивана, на эту его угрюмую отрешённость, как будто уже навсегда разделившую их, и в нём было такое чувство, словно всё, о чём они только что говорили, ему пригрезилось, а на самом деле никакого разговора не было, и прошло лишь мгновение, как он вошёл в шатёр, лишь короткое мгновение, которого не хватило бы даже на одно-единственное слово.
Висковатый, поддавшись этому чувству, уже чуть было не оглянулся – проверить, не стоит ли и в самом деле за его спиной Федька Басманов, но голос Ивана остановил его.
– Скажи, дьяк, – тихо, словно таясь от кого-то, сказал он. – Что там сейчас... в Москве? Как думаешь, что там сейчас?
Боль, прозвучавшая в вопросе Ивана, отозвалась и в душе Висковатого. Как всё-таки он был привязан к нему! Знал бы это Иван! Но Иван этого не знал. Он видел в нём иное, тоже не менее нужное ему, но это иное он мог найти и в других – в том же Федьке Басманове или Ваське Грязном, – тесной привязанности же больше не было ни в ком.
– Я думаю, государь... – Висковатый тоже приглушил голос, но только затем, чтоб и голосом, его спокойствием и тихостью приунять, уменьшить тревогу в Ивановой душе, – что тайных врагов у тебя стало меньше, а сие уж не так худо. И в Москве, государь, и нынче и в грядущем, всё будет в твоей воле. Токмо... покажи её, свою волю, пусть узрят её, познают! Стань пред ними с открытым ликом, ибо ты прав, и правота твоя – сила твоя!
– С такою силой я не одолею даже мышь, – сказал угрюмо Иван. – Мне потребна иная сила... Правая иль не правая – всё едино, лишь бы помогла одолеть их. Кто нынче со мной неотступно? Федька, Васька, Малюта, ты... А иные?
– Дьяки все с тобой, государь. Неотступно.
– Дьяки! Что вы такое – дьяки? Какая в вас сила? Вы слабая поросль, прозябшая по весне. Вас просто затопчут.
– Есть иная сила, государь... Я уж не раз указывал тебе на неё. Поместные[174]174
Поместные – разряд служилых людей, которых государство наделяло поместьями, за что они обязаны были нести воинскую службу.
[Закрыть], государь.
– Ту силу ещё надобно собрать, совокупить, угобзить, улестить... Единым словом своим призывным я их к себе не приворочу. То как нива: вспахать и засеять, а будет ли жатва – неведомо. А у них... У них уж всё давно в закромах. Они давно копят свою силу... И уж довлеть накопили. Подняться супротив неё в открытую – всё едино что разом разрушить высокую греблю.
О, дьяк, я не могу тебе даже поведать, как велика их сила! – с неожиданной, редко прорывающейся из него доверительностью воскликнул Иван. – Дед мой не одолел её, отец не одолел, ежели и я не одолею, не быть России великой державой, а мне – истинным государем на ней. Всё так и останется под ними – закосневшим, погрязшим в низкой суете, в усобной пагубе и алчбе. Ибо что для них Русь?! Им бы токмо вольготно и сытно жилось, токмо не было бы порухи их дородству, не было бы тяжких забот, а там – пусть Руси той и вовсе не будет! Даже лучшие из них не могут избытися сего векового недуга, и ежели идут за мною, то движутся не страстью сердец, а корыстью, честолюбством.
– То вельми гораздо, государь, что ты разумеешь сие, – сказал с волнением Висковатый. – Разумение сего – такая же великая твоя сила, как и твоя правота!
– Послушать тебя, так у меня столико силы, что хоть нынче берись корчевать их с корнем! А я вот сижу и думаю: чем встретит меня Москва и чем я смогу ответить, ежели?..
– Неужто ты думаешь?..
– И думаю и знаю: они не будут сидеть сложа руки. Кончилась пора тайных противлений. Зло выплеснулось наружу. Теперь – либо они меня, либо я их.
– И что же будет, государь? Страшно подумать, что будет? – ещё сильней взволновался Висковатый. – Лютая усобная распрь... Чем она вновь обернётся для Руси? И не сгубишь ли ты в ней все свои задумы, всё, что ты почал?
– И с таковыми вот вопрошателями мне також бы не водиться, – неприязливо, с досадой выговорил Иван. – Да не могу... Ибо сам думаю о том... И уж столико передумал, что супротив сотни таких вопросов выставлю тыщу иных, – начал распаляться Иван, но голос его не повышался, а, наоборот, становился всё тише, притаённей, сходя на шёпот – острый, режущий шёпот, который сейчас был страшней самого лютого его крика. – И ты мне соли не сыпь на рану, вопрошатель! Что будет? А что будет, коли я стану пред ними на колени? Поверстаю себя в хлопоты? Что будет, коли двадцать недоумков, обсев меня кругом, начнут учить, как мне царство своё держать? Что будет?! Молчишь?! Паче б ты чаше молчал! Чаял, душу мою облегчишь, а ты... Убирайся с глаз моих! Видеть тебя не могу! В Москву убирайся!


![Книга Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного] автора Елена Арсеньева](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zheny-groznogo-carya-garem-ivana-groznogo-213715.jpg)





