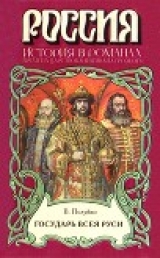
Текст книги "Государь всея Руси"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 35 страниц)
3
В далёком Пскове воевода и наместник псковский князь Дмитрий Куракин принимал нежданного гостя, – принимал с опаской, затворившись с ним в обиходных хоромах. Необычный был гость, и явился он к воеводе необычно...
Утром пришёл на наместничье подворье подьячий из таможенной избы – доложить князю, что приехал из понизовых городов купец незнаемый с кызылбашским да с иным заморским товаром, с узорочьем всяким, с жемчугом, с каменьями... Такой товар, прежде чем пускать в продажу, должен быть непременно явлен наместнику, боярам, боярыням, чтобы могли они сперва для себя отобрать всё, что им приглянется. Так ведётся исстари, о том и в судебниках записано: на Москве заморские товары первым смотрит государь, в иных городах – наместники.
Велел князь Дмитрий призвать того купца понизового. Княгиню свою позвал. Купец явился не мешкая, принёс образцы товаров, разложил их перед князем и княгиней, стал угодливо предлагать:
– Проше! Вельможна пани! Вельможный пан! Для вас найлепший товар! Проше!
Князь Дмитрий одним глазом на товар, другим – на купчину. Насторожил его этот понизовый – и выговором своим польским, и обликом. Хоть и в нерусские одежды обряжен, и безбород, как латынянин, а русское, сердцевинное, кондовое, так и выпирает наружу.
Купец слазил в свою огромную заплечную сумку, оставленную у порога, вынул из неё ларчик, из ларчика – несколько серебряных перстней с камнями. Воеводе они не приглянулись.
– Можливе, шановный князь, хце мець на своей руке таки персцень? – Купец захлопнул ларчик, рука его быстро юркнула за пазуху, и он, усторожливо вметившись в глаза князя, протянул ему массивную золотую жуковину. Воевода взглянул на неё и, не будь перед ним этих усторожливых, вонзистых глаз, наверняка не удержал бы в себе своего великого изумления: купец показывал ему их родовую реликвию – перстень с древним гербом первых Гедиминовичей[22]22
...перстень с древним гербом... Гедиминовичей... — Гедиминовичи – потомки великого князя Литовского Гедимина (? – 1341; великий князь – с 1316). На Руси – княжеская ветвь, вторая после Рюриковичей.
[Закрыть], от которых вели свой род и Куракины.
Воевода взял перстень, с нарочитой внимательностью принялся его рассматривать, прикидывая тем временем в уме, что бы всё это могло значить и как ему повести себя?
– Ежели вельможный князь не може тераз заплациць, нехай вызначе иной час, – поспешил с подсказкой купец, давая понять князю, что хочет с ним встретиться в иной обстановке.
– Приходи нынче... после обедни, – решил воевода. Дольше вытерпеть он не смог бы и сам.
В урочный час купец явился. Князь Дмитрий для виду, чтоб и челядь не заподозрила чего-нибудь, потомил его в сенях, сам томясь в горнице, а когда позвал – прокрался с ним укромным проходом в обиходные, нежилые хоромы и запёрся на засов в отводной[23]23
Отводная – обособленная от остальных помещений.
[Закрыть] горенке.
Говорили тоже с утайкой – вполголоса.
– Я не купец... И русский.
– То и дурно видно. По единому твоему наречью ляцкому.
– Худо, коли так... Намеренно образ купецкий принял, чтоб царских соглядатаев обвести. Больно их много повсюду.
– Царских соглядатаев, буде, и обвёл, а меня – нет. Говори, что там брат? Беда какая стряслась иль иное что?
– Я к тебе, князь, не от брата твоего... Я из Старицы, от княгини Евфросинии.
– А сё? – князь оттопырил палеи с перстнем.
– Велела княгиня сей перстень тебе передать. Молвила: иному ты ничему не поверишь.
– А ей кто его передал?
– Того мне княгиня не сказывала, да мне и не надобно ведать сие. Токмо ясно и так: тот, кто с нею в согласных мыслях. Ты, князь, чает она, також с нею?
– Ей потребны доказательства?
– Нет. Восемь лет твоей ссылки – самое великое доказательство. Ей потребно иное – твоя смелость и решительность постоять за правое дело... Твоя и братьев твоих.
– Что так вдруг загорелось княгине?
– Не вдруг, князь! На Москве... Неужто вести сюда не доходят?
– Что на Москве?
– На Москве открыто поднялись свойственники ваши – Оболенские: Кашин, Немой, Шевырев... Стародубские, суздальские, ярославские княжата ещё медлят, но и они уже наизготове. Пожар уж занялся, князь! Пора начинать и вам. Княгиня так молвила: вы, Куракины, можете сделать более, нежели все княжата разом. Ты, князь, тут, во Пскове, старший ваш, князь Фёдор, – в Новограде, Пётр и Семён – в Казани, а Иван, сколико сможет, будет пособлять вам в Москве. Ежели вы поднимете сии три конца – Новоград, Псков и Казань... Княгиня молвила, ежели вы поднимете их...
– Ежели, ежели! – подхватился с лавки князь Дмитрий, то ли рассердившись, то ли чрезмерно разволновавшись, и принялся ходить из угла в угол с напряжённо вскинутой головой. – Господи! – он остановился, мучительно зажмурился. – Неужто я дожил до сего часа?!
Он постоял так несколько мгновений, взволнованно-отрешённый, и вдруг надменно заговорил – в полный голос, забыв о предосторожности:
– Княгиня, должно быть, мнит, что на тех трёх концах вся Россия держится? Новоград! Казань! Казань за Волгой! Сё почти на том свете! И братья мои там как в преисподней! Новоград! Великий Новоград! Но великий он токмо в преданиях, в летописях. Новоград уж давно позабыл про своё величие, зато добре помнит те виселицы, что стояли на всём пути от Москвы до самого Рюрикова городища[24]24
Рюриково городище – предместье Великого Новгорода, где во времена его независимости находилась резиденция новгородских князей.
[Закрыть]. Нынешний Новоград не супротивник Москве, тем паче Псков. Что Псков? Он и в лучшие времена был лише пригородном Новограда.
– Что же сказать княгине? Отрекаетесь?
– Отрекаемся?! Мы, Куракины, отрекаемся? Княгиня повелит вырвать тебе язык, буде скажешь ей такое. Да, Новоград со Псковом не супротивник Москве... без нас, без Куракиных! Но мы тут, и как писано: кирпичи пали – построим из камня, сикоморы[25]25
Сикомор – немецкий клён, явор (по словарю Даля); в Библии – смоковница, тутовое дерево.
[Закрыть] вырублены – заменим их кедрами! Некогда пращур наш Иван Юрьевич Патрикеев свёз на Москву вечевой колокол новогородский... Он и доныне висит на набатной башне в Кремле. Теперь мы, потомки Ивана Юрьевича, вкусив сполна великокняжеских милостей, возьмёмся возворотить тот колокол назад. Иным ничем Новоград не прельстить и не поднять супротив Москвы. Токмо во имя прежних вечевых вольностей и станет Новоград вершить головой[26]26
Вершить головой – рисковать головой.
[Закрыть].
– У меня грамота... к новогородскому владыке и ко всей Новогородской земле. Неотступным, крепким словом своим обещает князь Володимер Старицкий, внук великого князя Иоанна Васильевича и правнук Василия Васильевича Тёмного, прежние вольности Великому Новограду.
– Паче б внук Иоанна Васильевича[27]27
Василий Васильевич Тёмный – великий князь Московский с 1425 г. (жил в 1415—1462). В 1446 г. был ослеплён Дмитрием Шемякой.
[Закрыть] новогородскому владыке святительский сан[28]28
Святительский сан – сан Митрополита всея Руси.
[Закрыть] посулил. Доходят вести, что Макарий[29]29
Макарий (1482—1563) – митрополит Всероссийский с 1542 г. В истории Церкви занимал видное место. Он произвёл канонизацию многих святых, местные предания были заменены общерусскими и т. д. Им был созван знаменитый Стоглавый собор 1551 г. Его трудами созданы Четьи-Минеи и др.
[Закрыть] дряхл вельми и хвор, не сегодня-завтра преставится?
– Истинно, вельми дряхл. На Вербное воскресение вход Господень в Иерусалим праздновали в Москве без владыки. На осляти вместо него ехал Варлаам Коломенский.
– Смерть Макария и нам облегчит дело. Макарий новгородец, и Новограду сие не безразлично. Там чтят Макария. Увещательное слово его может подействовать пуще царской грозы. Сие також надобно учитывать... внуку Иоанна Васильевича. Вот о чём непременно скажи княгине! А может статься и так, что по смерти Макария Иван сам призовёт Пимена на святительское место[30]30
А может статься и так, что по смерти Макария Иван сам призовёт Пимена на святительское место... – Пимен – новгородский архиепископ Пимен Чёрный (?—1571). Противник митрополита Филиппа (см. коммент. №134). Иван IV одно время благоволил ему, возвёл его на новгородский престол. Однако позже вследствие доноса снял с Пимена его сан и в нищенском одеянии приказал посадить на белую кобылу и везти по городу, после чего сослал в тульский Венёвский монастырь.
[Закрыть], и тот не отречётся, нет! Хоть и почитает свой белый клобук выше чёрного митрополичьего. Об этом думала княгиня, составляя свою грамоту? Думала, кому вверяет свою и нашу судьбу? Иль внук Иоаннов думал за неё?
– Княгиня и мысли таковой не допускает. При нынешнем государе Пимену не быть митрополитом. Да и архиепископом остаться ли? Князь запамятует, чьими стараниями воздет на голову Пимена белый клобук. Стараниями протопопа Селивестра! А нынче царю ненавистно всё, в чём хоть капля деяний его прежнего духовника.
– Пимена он не тронет. Свариться с Церковью не дерзали ни дед его, ни отец. Он також не дерзнёт. Тем паче нынче. Наоборот, он поищет союза со святопрестольными отцами, ибо на чьей стороне будет Церковь, на той стороне будет и верх. А Церковь – сие не токмо Макарий, но и Пимен. А Пимен и Макарий – не одно и то же! Се два стана, две стороны. Одна, та, что с Макарием, – осифляне[31]31
Иосифляне (осифляне) – церковно-политическое течение на Руси в конце XV – начале XVI в. Идеолог – Иосиф Волоцкий (см. коммент. №168). В борьбе с нестяжателями отстаивали незыблемость церковных догм, защищали церковно-монастырское землевладение.
[Закрыть]. Другая, та, что с Пименом, – нестяжатели[32]32
Нестяжатели (заволжские старцы) – религиозно-политическое течение в Русском государстве в конце XV – начале XVI в. Проповедовали аскетизм, уход от мира. Требовали отказа Церкви от земельной собственности. Идеологи: Нил Сорский, Вассиан Косой (см. коммент. №122) и др. Осуждены на церковных соборах 1503 и 1531 гг.
[Закрыть]. Одна – торжествующая, другая – гонимая, вечно терпящая поражения, понеже великие князья неизменно становились на сторону осифлян, поддерживали их и всячески благоволили. Но теперь Иван примется улащивать и нестяжателей, приголубит и их, горемычных, чтоб не попомнили они своих обид и гонений и не примкнули к его супротивникам. Ему надобно, чтобы Церковь единодушно поддерживала его! Посему он не токмо не ополчится на Пимена, но, наоборот, станет всячески приворачивать его к себе. Ещё и потому, что он не доверяет Новограду и боится его. Даже наместничество и то упразднил там. Нынче брат мой уже не наместник, а лише городской воевода, и делами вершат всеми дьяки, у коих брат мой под надзором.
– Княгиня о том ведает, потому и послала меня не в Новоград, а сюда.
– А о том княгиня ведает, что Пимен отстаивал наместничество для Новограда и в прошлом лете ездил на Москву, чая себе великой опалы за то отстаивание?! Однако Иван принял его ласково, держал у себя много, с почётом, и отпустил с любовью. С любовью! Тою любовью и ласковостью прельщённый, Пимен, у меня на гостивстве будучи, из Москвы возвращаясь, больно много елею вылил на боговенчанную голову. Чает Пимен теперь уж себе не опалы великой, а милостей... В митрополиты метит он.
– Что ж сказать княгине?
– Грамоту я покуда оставлю у себя. Для Новогородской земли она годна, а с Пименом обождём. Вот коли он обманется в своих чаяниях, коли царь возведёт на святительское место не его, – вот тогда Пимен может прельститься уже и посулами внука Иоанна Васильевича. Беда нам с сними внуками Иоанновыми! Один таков, что и земля отеческая не мила с ним, а другой... Пошли, Господи, долгоденствие матери его! Были на Руси великие мужи, теперь Господь избрал такую и средь жён. Кланяйся княгине и скажи: Новоград и Псков будут с нею, а вот Казань баламутить негоже. Сами не рады будем, коль вмешаем в свои усобицы татаровю. Потомки Батыевы горше Дракулы[33]33
Дракула – валашский (румынский) князь Влад, известный по «Сказанию о Дракуле-воеводе». Был прозван за свою жестокость Драконом (Дракулой). Враждебно настроенные к Ивану Грозному представители боярства ассоциировали его личность с образом Дракулы.
[Закрыть]. Княгиня об этом не размыслила добре... Злоба и ненависть затмевают в ней разум. А об том добре глубоко и гораздо размыслите надобе, бо великое неустроение может вчинитися земле нашей. Ежели сами приведём к себе в дом татаровю, то не станет ли нам отечество горше чужбины?! Негоже теряти нам правду нашу и ходить мимо заповедей Господних, понеже не злоба движет нами, но она, правда наша. Об том княгине не надобе запамятовать, ве́ди судный час грядёт на всех!
4
Князь Владимир Старицкий после возвращения из Полоцкого похода[34]34
...после возвращения из Полоцкого похода... – В начале 1563 г. Иван IV с большим войском направился к литовским границам. Целью похода был Полоцк, который считался главной твердыней Литвы и был хорошо укреплён. Этот город был особенно важен в Ливонской войне, в которой участвовали Русь, Польша, Швеция. 31 января 1563 г. Полоцк был осаждён, 7 февраля взят острог, 15 февраля город сдался. Царя и его воевод по возвращении в Москву встречали так же торжественно, как после взятия Казани (1552).
[Закрыть] второй месяц жил в своём родовом уделе. Делами удельными он никогда себя не обременял, вверив их всецело воле и рачительности матери и её многочисленной родни – Хованских, Пронских, Борисовых, прочно прижившихся на вольготной вотчинной ниве, – поэтому праздность вскоре занудила князя. Однообразие удельного быта наводило на него тяжёлую тоску. Заняться ему было нечем: соколиная охота ещё не подоспела, пиры и скоморошьи потешки надоели, истомили, да он и не был, в отличие от царя, любителем подобных развлечений, – оставалась только церковь да долгие ночи в супружеской постели, наполненные тревожными, мучительными раздумьями. Даже ласки жены прискучили князю. Но в Москву возвращаться он медлил, тянул с отъездом, откладывал со дня на день, с недели на неделю, словно чего-то ждал или страшился чего-то – такого, что пересиливало все его прежние страхи. И тужил! Мать поила его отваром из корня плакуна, над которым в полночь в храме был совершён заговор. Отвар этот помогал от болей в чреве и от тоски, ибо отваживал злых духов, устрашал нечистую силу. «Будь страшен злым бесам, полубесам и ведьмам, – заговаривают корень плакун-травы. – А не дадут тебе покорища – утопи их в слезах! А убегут от твоего позорища – замкни в ямы преисподние!»
Но заговорное зелье не облегчало княжеской туги: те бесы и полубесы, что донимали его, не страшились никаких заговоров и заклинаний. Это были особые бесы – во плоти и крови! Они окружали князя везде – «там, куда он боялся возвращаться, и здесь, где тоже не нашёл успокоения и избавления от страха. Один из таких бесов подносил ему каждый день заговорное питьё – от каких-то иных, мнимых бесов, – не подозревая, что как раз сам и является им – самым одержимым, самым неотступным, самым неодолимым и злым бесом, давно уже терзающим душу князя.
Каждый день после заутрени князь выпивал налитый в серебряную лампадку отвар плакуна (только из лампадки, хоть немного повисевшей перед святыми образами, и полагалось пить подобные зелья) и каждый день слышал почти неизменное, с той лишь разницей, что иногда это было сожалеюще-жалостливое, а чаще сердитое, негодующее:
– Ах, князь, князь! Горько видеть тебя таким! Отбыла я с кручины ума и мысли, не уразумею, где в тебе изъян? Духом ты слаб иль умом? Иль, буде, и тем и другим?
Меньше всего князю хотелось отвечать на эти слова матери. Он не обижался, слыша такое, и так же равнодушно и покорно, как проглатывал заговорное питьё, проглатывал бы и их, если бы не требовалось отвечать. А не отвечать было нельзя – тогда начиналось ещё худшее:
– Заступником, чаяла, будешь. Отец твой голов сложил, защищая от попрания честь свою... Царство небесное душе его! А ты? Пошто робеешь? Пошто в холопах тебе быть у него? Ты великокняжеской крови! Ты внук Иоаннов и правнук Василия Тёмного! А он – выблядок Еленин!
И князь отвечал, чтоб не слышать подобного, ибо страшился такого даже в собственных мыслях:
– Время нынче смутное, матушка, оттого и на душе у меня смутно. Ты бы паче призадумалась, как нам уберечься, как уцелеть средь невзгодья-то сего жестокого?! Ан нет, не о том твои помыслы. Неотступна ты...
– Неотступна, да! И тебе бы, сыну моему, вскормленному не столико молоком из сосцов моих, сколико горечью неисчислимых страданий, пришедших на нас от того Богом проклятого рода, – тебе бы напитываться силой и твёрдостью от моей неотступности, а не корить меня за неё! Тебе бы, сын мой, радовать и ободрять меня своим мужеством, а не мне мужествовать вместо тебя. Подол мой бабий николи же не уподобится твоему боевому княжьему стягу. Николи же! Хоть и чтут его нынче, подол мой, но сражаться пойдут лишь за тебя, князь, лишь под твоим стягом!
– Сражаться?! Матушка, да за что сражаться?
– За правду нашу, князь! За поруганную нашу правду!
– Да какая она уж такая особливая наша правда, что кто-то пойдёт за неё сражаться? Бескорыстно! По велению сердца! Ежели и пойдут, то каждый за свою, присную... Ты уж сбирала однажды под мои стяги таковых правдоборцев. Деньгами сбирала! Помню я... А ве́ди он нам простил, простил, матушка! Стало быть, не сплошь в нём зло. Мы же почто не хотим простить его – неповинного в наших страданиях?
– Ты боишься его, князь, сын мой, ты просто боишься его. В тебе говорит страх.
– Боюсь. Боюсь, матушка! Ты не ведаешь, что он за человек! А я ведаю, добре ведаю. Знай: он нам боле не простит... Даже мысли, коль дознается о ней. Отступись, матушка, отступись! Не лезь сама и меня не тяни под топор.
– Не погибели страшись, князь, – бесчестия! Паче уж сгибнуть, как сгиб твой отец, неже похолопить себя и детей своих пред ублюдком. Ты – Старицкий, сын мой, помни о том! Сколико взоров на Старицу устремлено – и о том не забывай. Ежели мы отступимся, сколико гордых и непреклонных умов огорчится, сколико храбрых и дерзких сердец изведётся втуне, не имея вождя и предводителя.
– Я не буду вождём и предводителем – никому и никогда! Нет во мне таковой страсти и желания також нет. Я не хочу того, чего хочешь ты, матушка, не хочу – уразумей сие! И злобы на него нет во мне. Я двадцать лет живу с ним бок о бок, страхом мучаюсь, во снах его вижу... Извёлся, изнурился уж в край! Очам моим нестерпимо зреть его, ушам – слышать. Я перекрещусь с леготой над гробом его, но не от зла, не от ненависти к нему – лише от присной радости своей, от того, что обрету избавление от страха.
– И не токмо ты – вся земля наша, погноблённая злой волей его, возложит на себя крест возрадования. Неужто же ты не хочешь приблизить сей час? И для себя, и для земли своей отчей, коя ждёт не дождётся своего избавителя?
– Ах, матушка! Откель тебе ведать про землю всю нашу? Земля наша велика вельми, и много в ней всякого: никому не изведать её. Он мнит, что она – с ним, ты – с нами, а истина – у Бога. Оставь всё на волю Божью, матушка.
– Нет! Возмездие придёт на него ещё тут, на земле, допрежь Божьего суда!
– Я прошу тебя, матушка, заклинаю: отступись!
– Он також хочет, чтоб я отступилась. Ты не страшен ему. С тобой он поладит, и ты с ним... Но каков будет тот лад? И как ты соединишь с тем ладом погубленную душу отца своего и неисчислимые страдания матери своей?
– Память об отце для меня свята, и твои страдания повсегда в душе моей. Но не он повинен в них.
– А в том, что вся твоя жизнь – сплошь страх, також не он повинен?! Дети твои, рождённые и нерождённые, они також обречены на извечный страх!
– Господь милостив, матушка. За наше смирение он пошлёт моим детям лучшую долю. О них как раз и подумай – и отступись. Пресеки в себе свою вражду, упрячь гнев и ненависть и именем моим ни в ком не возбуждай пагубных чаяний.
– Ещё есть Старица, князь! Неужто и ей повелишь исчезнуть с лица земли?!
5
Дел своих, и задумов, и тайных козней, направленных против царя, Евфросиния сыну не открывала. Действовала за его спиной, его именем и решительно полагала, что знать ему обо всём этом совсем ни к чему. Владимир с его душевной нестойкостью и угнетённостью, с его укоренившимся страхом перед Иваном был бы для неё только обузой и помехой. Вдохновить же его, настроить на какие-то действия против царя, оживить в нём давно умершие от страха ростки противления – такое было не по силам даже ей, Евфросинии Старицкой, – она это понимала и особенно не усердствовала. Она предпочитала действовать сама, лишь прикрываясь именем князя, да и то не всегда. Зачастую в таком прикрытии не было никакой нужды, ибо те, с кем её связывала давняя ненависть к царю и такая же давняя борьба против него, тоже знали истинную цену князю, и ей незачем было лукавить с ними. Никто из этих людей не стал бы полагаться на самого князя, а только на неё, и только с ней они могли иметь дело. Князь был сбоку припёка, но имя его, имя внука Иоанна Васильевича, было высоким и могло привлечь многих, особенно тех, кто обычно толком ничего не знает, не понимает и не желает понимать, оставаясь слепым орудием в чужих руках, и поэтому Евфросинии приходилось действовать с разбором. Князю Петру Щенятеву, своему единородцу, отпрыску всё тех же Патрикеевых, от старшей ветви которых, от Хованских, вела свой род и Евфросиния, она писала от своего имени; от своего имени она обращалась и к Куракиным – они тоже были её единородцами, младшей патрикеевской ветвью, а вот к новгородцам – от имени князя. Для Новгорода Евфросиния была никем. О ней там, конечно, слыхали и кое-что знали, но вряд ли больше, чем о любой другой женщине из царской семьи. Для новгородцев весомо было только слово князя. Для Щенятева и Куракиных – только слово Евфросинии.
По необходимости слово князя подкреплялось и её собственным или наоборот, но в любом случае, как и от чьего имени ни действовала бы Евфросиния, князя она оставляла в полном неведении.
Владимир в свою очередь тоже таился от матери. Кое-какие дела и тайны водились и у него: не так уж на самом деле он был беспомощен и покорен судьбе, как казалось Евфросинии и её сообщникам. Страх угнетал его – да, изводил, залавливал, но страх же и побуждал к действию. Правда, это были не те действия, которыми он мог порадовать свою воинственную родительницу. Евфросиния сама наклика́ла грозу, она ждала её и приближала, чтоб в неистовой круговерти дать волю и своему неистовству, а он, сын её, искал укрытия и спасения от этой грозы; Евфросиния разжигала пожар и сама готова была сгореть в его пламени, а он отдёргивал руку от самого слабого огня и отступал подальше от края пропасти, не веруя, в отличие от неё, что в этой пропасти сгинут враги, а не он. И руководила всеми его действиями покорность той могучей первородной силе, что охраняет на земле жизнь. Порождение этой силы – страх, и он оберег для всего живого, но бессмертный дух человеческий давно уже презрел этот оберег, и осилил его, и возвысился над ним, – правда, не всякий дух... Владимир был всецело во власти этой первородной силы и не тяготился ею, не восставал на неё, не стремился одолеть, наоборот, полностью отдавался ей, как поводырю, чая себе безопасных стезей. Но поводырь-то этот был слеп. Слеп! Этого Владимир не понимал, зато хорошо понимал другое: что предаёт свою мать, и не столько её самое, сколько дело её. Потому и таился, зная, какой гнев она обрушит на него, ежели дознается о чём-нибудь, и боялся этого гнева ничуть не меньше, а может, и больше, чем царского. Он и вообще-то матери всегда боялся больше, чем Ивана. Даже время, долгое время, прожитое им вдали от неё, не убило, не вытравило из него этого страха, лишь приглушило, ослабило, но сейчас, проведя подле неё целый месяц, он вновь почувствовал, как этот страх потёк по всем его жилам.
Эх, с какой радостью, с каким облегчением укатил бы он из родового гнезда – подальше, подальше от всего, что поселилось в нём вместе с неистовой душой его матери. Но куда? На Москву? Из огня да в полымя?! «Да уж паче на Москву!» – говорил себе всякий раз Владимир после каждого такого разговора с матерью, говорил и готов был немедля пуститься в путь, но чуть погодя решительность спадала с него, и отъезд вновь откладывался.
Евдокия, по ночам просыпавшаяся от бессонных ворочаний мужа, тоже растревожилась, опасаясь, как бы Иван не заподозрил в их столь долгом гостеванье чего-нибудь недоброго, говорила о том с Владимиром и со свекровью, уговаривая её поторопить князя. У Евфросинии был один ответ:
– Он ему не холоп, чтоб неотступно при нём быть. Где любо, там себе князь и живёт! Неужто не волен он в себе?!
И Владимир поначалу отговаривался от жены пустопорожним, стараясь успокоить её, потом открылся:
– Погодим ещё, Овдотьюшка, погодим покуда... Нынче на Москве смутно. Княжата Оболенские, совокупись меж собой, вражду на Ивашку взняли. Переждём. Поглядим, куда всё поворотится.
Про Оболенских Владимир знал – Евфросиния поведала ему, да и то потому только, что проговорился перед ним его двоюродный брат – дворецкий Андрей Хованский.
Евфросиния сурово отчитала своего не в меру торопкого на слово племянничка, а Владимиру – куда уж было деваться – рассказала всё, что знала, насоветовав строго держать вид, будто он так и остаётся в неведении, а для пущей убедительности – на все случайные сомнения и подозрения Ивановы – грамотку ему дослать, красномовную и пустячную, какие пишут от простоты душевной.
Владимир грамотку послал и, как мог, держал вид, да не выдержал, открылся Евдокии, хотя мать предостерегала его и от этого, боясь, как бы ночная кукушка не перекуковала чего-нибудь на свой лад.
Евдокия, услышав такое про Оболенских, даже дара речи лишилась. Только охнула и ни слова больше. Но быстро пришла в себя:
– Князь, а не тот ли сё час, коего ты ждёшь?
Была глубокая ночь. В опочивальне призрачно теплился огонёк лампадки. Уже много ночей кряду Евдокия не гасила лампадку и не задёргивала занавески перед образами – пресытился князь её ласками и любовью. Но сейчас даже её затаённая бабья обида на это отхлынула. Она приподнялась на постели, посмотрела на мужа – в тусклом мерцающем свете её глаза казались двумя насторожившимися зверьками.
– Не упустишь ли ты его, на пуховиках-то со мною леживая? В Москву тебе надобно, князь, сокол ты мой резвокрылый, в Москву! – Евдокия ободряюще чмокнула Владимира, приткнулась к самому его уху, горячо зашептала: – Не глядеть и не ждать, куда всё поворотится, а самому поворачивать в потребную тебе сторону.
– Вас бы с матушкой спаровать, – отстранился от неё Владимир. – Воительницы.
– Велишь, так я слова не вымолвлю более, – обиделась Евдокия. – Но ведай: я пойду за тобой на смерть, на позор, самый тяжкий грех возьму на душу!
– Во имя чего? – Владимир нетяжела вздохнул. – Матушка жаждет отмщения... Горе и злоба затмили в ней разум. Она страдала, мучилась... Душа её в струпьях. А тебе бы с чего ожесточаться? С чего в таковую безрассудность впадать? Он тебе зла не причинил.
– Так причинит ещё!
– В отплату за наше присное зло, коль не престанем в нём. Каждый день мы копим его зло на себя.
– Мы отступимся, да он не отступится! Будет искать твоей погибели всё едино... Чтоб Старицей завладеть! Он уж давно нацелил на неё своё алчное око. Матушка сказывает: у московских князей издавна живёт обычай губить своих братий из-за отчин, несытства своего ради.
Евдокия, пересилив обиду, опять потянулась к мужу, обняла, прижалась, прильнула к нему с трепетной, обнажённой нежностью – той самой нежностью, всегда неожиданной, невесть откуда берущейся в ней, против которой Владимир никогда не мог устоять. Но сейчас устоял.
– Матушка вельми много всякого сказывает. У неё на всё своё слово и свои откровения, которые и Иоанновых[35]35
Иоанновых... – Здесь: Откровения Иоанна Богослова, что представлены в новозаветной книге того же названия, именуемой иначе Апокалипсисом.
[Закрыть] пуще. И Бог весть, чьё над ней произволение и кто ей путеводитель?! Об том и загадывать страшно, не то что следовать за ней. А ты, не рассудив добре, в ту же страсть поползнулась. Вон како воспылала она в тебе! В матушке я не волен, а в тебе, жене своей, волен и вновь говорю: уймись. Нам надлежит своим разумом жить, своими очами глядеть и видеть. Матушка нам худой указчик.
– А я и своими очами вижу! – Евдокию злила нынешняя сдержанность Владимира, а вовсе не то, что он говорил. – И ранее видела! Да не разумела доселе, что видела!
– А нынче матушка тебя в разум ввела?!
– А ужли нет? Что я думала про опалу князей Воротынских? Думала, преступили они пред ним, он их и покарал, и вотчину у них отнял... А он допрежь вотчину отнял, а коли они возмутились – покарал.
– Не так все с Воротынскими. То ты со слов матушки речёшь, а как истинно есть – не ведаешь.
– А ты ведаешь?
– Допряма и я не ведаю, а токмо не вотчины ради положил он опалу на Воротынских. Тут иное... Прошлым летом, когда стоял я с ратью у Серпухова, сторожа приход хана, в полках под рукой у меня были Воротынские – оба, и Михайло, и Олександр. И как пришёл хан к Мценску, так прислал царь гонца с наказом доступить[36]36
Доступить – выступить навстречу, настигнуть.
[Закрыть] тех пришлых воинских людей, и бой им великий учинить бранный, и полон отбить. Я и послал Воротынских с полками, а они измешкались... Хан ушёл без урона и полон весь увёл. И сдаётся мне, узрел Ивашка в том злой умысел, заподозрил всех нас в сговоре. Меня, однако, тронуть не посмел: не сыскал явных улик. Зато на Воротынских отыгрался сполна, чтоб не столико им, сколико мне показать свою грозу. Замахнулся он – на меня. На них токмо опустил... А вотчина их – что ему в ней? Казне от неё невелик прибыток: у них отнял, другим отдал. Сами Воротынские ему были дороже. Таких воевод лишился.
– Никто ему не дороже! Ни Воротынские, ни Адашевы[37]37
Адашевы – Адашев Алексей Фёдорович (?—1561), поначалу царский ложничий, человек незначительного происхождения; позже окольничий, член Избранной рады, царский любимец. С середины 50-х гг. руководил всей дипломатией. Инициатор многих реформ середины XVI в., укреплявших централизованную власть. Возглавлял составление разрядных книг и летописей. С 1560 г. в опале. Он был прогнан от очей царских в нововзятый город в Ливонии – Феллин, воеводою, там пользовался любовью и уважением окружающих; по наущению врагов царь отправил его в Дерпт, где Алексей Адашев скончался от горячки. Адашев Данила Фёдорович (?—1563), окольничий, брат Алексея Адашева. Участник Казанских походов и Ливонской войны. В 1559 г. первый воевода в Крымском походе. С 1560 г. в опале. Казнён вместе с двенадцатилетним сыном.
[Закрыть], ни Курбский[38]38
Курбский Андрей Михайлович (1528—1583) – князь, боярин, писатель. Участник Казанских походов, воевода в Ливонской войне, член Избранной рады, один из образованнейших людей своего времени. Некогда любимец и друг царя Ивана IV, он, опасаясь опалы за близость к казнённым Иваном лицам (в том числе к Адашеву), в 1564 г. бежал в Литву; стал членом королевской рады, участвовал в войне с Россией. Автор многих сочинений, в том числе «Истории о великом князе Московском».
[Закрыть]... Всех разослал, посгубил!
– Да не вотчин же ради...
– И вотчин! У Адашевых, и у родни их всей, и у общников их, всё поотымал!
– Родня адашевская да общники их плутовали, ковы[39]39
Ковы (ед. ч.: ков) – вредный замысел, злоумышление, заговор, злонамерие.
[Закрыть] строили, тщась вновь воротить Олешку на первый чин. Он и воздал им за то... И поделом.
– Да ты что же, боронишь его? – не то удивилась, не то уже возмутилась Евдокия, а скорее всё разом – и удивилась, и возмутилась. Объятий, однако, своих, как и прежде, ничуть не прислабила, словно боялась, что, отпустив мужа, потеряет над ним последнюю власть. И Владимир больше не рвался из её рук, не отстранялся, лежал спокойно, покорно, явно откупаясь этой телесной податливостью за душевную непокорность, но откупаясь с удовольствием: в объятиях жены, в её и чисто бабьей, и материнской осмиряюще-ласковой теплоте, ему и вправду было покойно, легко, и все те мысли, всё то надсадье минувших бессонных ночей, отвратившее его даже от плотских утех, воспринималось сейчас как что-то стороннее, чужое, прошедшее сквозь него искренностью сопереживания, но не касавшееся его лично. Он мог бы даже поговорить сейчас об этом с Евдокией – как чужой, непричастный к этому человек, и только сознание, что Евдокия, в отличие от него, не будет чувствовать себя непричастной, останавливало его. Подливать масла в огонь, разожжённый в ней матерью, он не хотел. Наоборот, огонь этот следовало притушить. Евдокия должна была остаться его единомышленницей, каковой она и была до последнего времени, покуда не сблизилась со свекровью и та не взмутила ей души.
– Я себя бороню, тебя, детей наших... Ибо он не пощадит и детей! Уразумей сие! Единый мой опрометчивый шаг, и что станется с нами – ведает лише Всевышний. Буде, он токмо и ждёт, когда я споткнусь, чтоб совсем подразить мне ноги. И на Старицу зарится – ты не больно далека от истины. Зарится, да в душе, и от единой корысти и несытства своего не посягнёт на меня. Так непроста чести своей не станет ронять. Имя своё государское он высоко подъемлет. Прежние государи в такую высость и не учинялись, не уповали тако собою. Он пред всеми окрестными государями христианским всесветным заступником выставляет себя, радетелем о правде и добротворцем, и вдруг – посягнуть на брата своего статков[40]40
Статки – имущество.
[Закрыть] его ради! Нет, Овдотьюшка, не тот сё человек. Ты не знаешь его, а я знаю. Он слово изречёт и слушает, как оно отзовётся окрест! Шаг ступит, рукой поведёт и смотрит – как запечатлелось сие на лице вселенной! Во всех всюдах – в Цареграде, в римских цесарских странах, в Аглицкой земле, в Немецкой – он жаждет слыть доброжелательным и великоправедным государем, и бережёт того накрепко, чтоб в те пределы ни единое худое слово о нём не прозябло. А на меня посягнуть – то ж не на Воротынского, не на Бельского, хотя и про их опалы он строго приказывает послам отнекиваться и всячески заминать истину. Нет, Овдотьюшка, не сыскав на Старице великой вины, он на меня не посягнёт. То я ведаю накрепко и берегусь дать ему повод, и матушку удерживаю от того, в тебя остерегаю...
Владимир говорил ещё долго, почуяв, как притихла, присмирела и Евдокия, то ли остепенённая его доводами и убеждениями, то ли затаившаяся в ожидании его ласк. Над ней он ещё имел власть – власть мужа-господина, которого она в знак покорности разула перед их брачным ложем, и власть мужчины, который был ей мил и желанен, но круто пользоваться этой властью не решался, боясь вспугнуть её искренность и доверчивость, а более всего – потерять в ней последнего человека, которому мог ещё довериться и сам, и потому всегда был с нею мягок, терпелив в уговорах, дотошен в доводах...


![Книга Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного] автора Елена Арсеньева](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zheny-groznogo-carya-garem-ivana-groznogo-213715.jpg)





