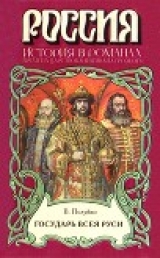
Текст книги "Государь всея Руси"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 35 страниц)
Вот и сейчас он будто затем только и сидит, что дожидается Бельского, которого пригласил в свой шатёр на ночлег. И вправду ведь дожидается и, пойди Бельский прочь из трапезной, следом пойдёт со спокойной душой, ни о чём не жалея, ни в чём себя не коря, не упрекая. Да только себя ведь не обманешь. Знает он: не до сна сейчас Бельскому и не поторопится он в его шатёр. Стало быть, и он, Челяднин, тоже не только ждёт. Видит он: совсем худо надменному Гедиминовичу, попался тот в царские тенёта – как муха попался, хотя, видать, и мнил себя шмелём, и не высвободиться ему, не выбиться... Да он и не бьётся, не вырывается – нет у него на это сил. Он просто ждёт своей участи, но и ждать уже тоже нет никакой мочи. Выручать его надобно, выручать! Зачем, во имя чего, ради какой целине ведает этого Челяднин, а ведай, вероятно, и одумался бы, и отказался бы от своего намерения. Зачем ему Бельский? Или тот же Мстиславский? Если он не выберет Ивана, то уж тем паче не выберет их. Но тогда кого же? Кого ещё, если не их?
– Что посоветуете, бояре? Буде, пойти мне сейчас к государю? – спросил вдруг Бельский, и так спокойно, будто о каком-то сущем пустяке. Челяднин пристальней всмотрелся в него: неужто же в нём ещё есть силы для такого спокойствия? Но взгляд Бельского – отталкивающий взгляд обречённого – подсказал Челяднину, что это спокойствие не от силы, а от бессилия, от полного бессилия его души, в которой отчаянье подавило все остальные чувства.
– Сейчас?! – удивлённо воскликнул Мстиславский. – Сейчас я самому Исусу Христу не посоветовал бы являться к нему.
– То верно, – буркнул Челяднин и, помолчав, благоразумно прибавил, обращаясь к Бельскому: – Утро вечера мудренее, боярин.
– Утро? – сдавленным голосом, как что-то невыносимо страшное для себя, повторил Бельский и закрыл ладонями лицо. – Я не доживу до утра. Не доживу, – слезливо, сквозь ладони, выговорил он.
– Коли так – я пойду. – Челяднин, тяжело опершись рукой о столешницу, решительно поднялся.
– Да полно! – вскочил и Мстиславский. – Что самим-то на рожон лезти?!
Но Челяднин уже пошёл. Бельский, не отнимая ладоней, сквозь пальцы, молча, убито смотрел ему вслед.
В темноватом коридоре, освещённом лишь несколькими свечами, догоравшими в настенных шандалах, Челяднин вдруг приостановился. Нет, не оттого, что в нём поубавилось решительности. Ему неожиданно почудилось нечто странное: на него как будто кто-то очень пристально смотрел, притом было такое ощущение, что он знает, кто это, даже не видя его, – знает его лицо, его душу, его мысли, и они, эти мысли, каким-то странным образом перетекали в него, и он чувствовал, что это его собственные мысли – всё то, что он передумал, сидя сейчас в трапезной. Только там, в трапезной, эти мысли рождались как бы вне его и обращены были тоже как бы не к нему; теперь же, словно отразившись от чего-то, они возвращались, повёрнутые к нему своими остриями, и вонзались в него с такой силой и так глубоко ранили, что подумалось ему в суеверном страхе: не испытывает ли и вправду его душу чья-то злая воля? Рука уже потянулась наложить крест, да и замерла: от себя самого не открестишься.
Всё время, пока он шёл к царским покоям, его преследовал этот всевидящий взгляд, суровый и беспристрастный взгляд его второго «я», как будто потому и отделившегося, отстранившегося от него, чтоб не быть причастным к тому, на что толкало и куда вело первое – стихия, существующая наперекор всему. И он чувствовал, что истинное, лучшее, что есть в нём, – там, во втором его «я», там его совесть, его правда, могущая предстать пред любым судом, и это истинное, главное должно наконец-то возобладать в нём – хоть в конце его жизни; но стихия была сильней, и напрасно внутренний голос допытывал его: «Зачем? Во имя чего? Ради какой цели?» Напрасно! Он оставался глух к нему, ибо не хотел искать ответа в себе одном, зная, что он не только в нём. Ответ этот был и в Иване, и в Бельском, и в Мстиславском, и в Горбатом, и в Курбском, и в сосланном на Белоозеро Воротынском, и в убитом Репнине, и в замученном на пытке Даниле Адашеве...
...Войдя в предпокой – с темноты на свет, – Челяднин щурко поогляделся и устало опустился на придверную скамью. Глаза его на мгновение смежились – он будто пережидал что-то в себе или, наоборот, что-то призывал в себя. Стоявшие в предпокое на сторожах братья Хворостинины вытянули шеи в немом удивлении. Появление боярина явно озадачило их, может быть, и насторожило, но они почтительно молчали и ждали.
– Государь почивает иль бодрствует ещё? – спросил Челяднин.
Братья переглянулись.
– Нешто не слышит боярин? – почтительно ответил старший из братьев – Дмитрий, – Ивашка Нос[180]180
Иван Нос – знаменитый придворный певец Ивана Грозного.
[Закрыть] государю песни поёт.
– Стало быть, бодрствует, – не прислушиваясь, сказал Челяднин и поднялся со скамьи. – Надобно мне к государю на́ очи.
– Нешто не ведает боярин чину и уряду? – с прежним почтением вымолвил Дмитрий Хворостинин, и это почтение уже начало вставать перед Челядниным непреодолимой преградой. – Заказ тому крепкой, чтоб как кому вздумается и похочется к государю на́ очи не являлись. Того и беречи велено накрепко, – прибавил он для пущей убедительности.
Челяднин нахмурился. Острый, донимающий взгляд не оставлял его и тут, и было особенно тягостно стоять под этим взглядом вот так, по-холопьи – перед дверьми царских покоев.
– Челяднин я! – сказал он резко, с невольной, защищающей себя значительностью. – Ступайте-ка, кто из вас похрабрей, да скажите государю: боярин Челяднин в столь неурочный час на́ очи просится.
– Мы знаем тебя, боярин! – Дмитрий Хворостинин приложил руку к груди и поклонился Челяднину, выказывая ему самое искреннее почтение. – Да не уряжено нам, на сторожах-то стоячи, к государю с докладами ходить.
– Тогда прочь с дороги, я сам пойду! – рассердился Челяднин и решительно двинулся к двери, ведущей в царские покои.
– Негоже так, боярин, – встал на его пути Дмитрий. – Уж коли столь неотступен ты, погодь, буде. Ваську иль Федьку Басманова покличем.
– Будут мне мерзкие холопы ещё дорогу к царю отверзать! – вовсе вознегодовал Челяднин и, оттолкнув Хворостинина, ступил за порог царских покоев.
Скрипнувшая дверь враз привлекла к нему внимание. Васька Грязной, Федька Басманов, Темрюк, Малюта (Малюта самым первым!) мигом повскакивали со своих мест и угрозливо встали на его пути. Лица их по-собачьи, зло и встревоженно, ощерились. Челяднин остановился, чуя, что, если он сделает ещё хоть один шаг, хоть одно малейшее движение, они бросятся на него.
Пение, разносившееся по опочивальне, оборвалось, и стало тихо – до жути. Казалось, что через мгновение всё начнёт мертветь от этой жуткой тишины.
– Ба, да то ж боярин Челяднин! – удивлённо, с пригнуской возгласил Левкий, разрушая тягостную тишину. – Иван Петрович Челяднин! – погромче повторил он уже с шутовской торжественностью и недоумённо, вопросительно обернулся к Ивану, возлежащему среди шёлковых подушек на широком, занимающем добрую половину опочивальни бархатном ложе роскошной турецкой работы.
– Зачем явился, боярин? – спросил Иван. Голос его звучал спокойно, невозмутимо, с этакой даже ленцой, Появление Челяднина, казалось, ничуть не удивило его, словно он давно уже поджидал боярина и знал, что тот непременно явится, и знал зачем.
Челяднин не ответил. Четыре злобные рожи, стоявшие перед ним, были как стена, отделявшая его от Ивана, и он не хотел говорить с ним через эту стену. Иван почувствовал это, велел своим любимцам убраться прочь и не заслонять боярина.
– Так зачем же явился, боярин? Ивашкино пение послушать? Аль решил вызнать, где курица яйцо снесла?
Иван приподнялся, недолгим, но цепким, вонзистым взглядом посверлился в боярина, будто лишний раз хотел удостовериться в чём-то, и, лукаво, с довольнцой хохотнув, снова откинулся на подушки.
Света в опочивальне было мало, стоял лёгкий дымчатый полумрак, и лицо Ивана среди тусклых сгустков шёлка, утратившего в полумраке свой настоящий цвет, казалось каким-то размытым, оплощенным, казалось, что это только нечёткое его отражение. Челяднину стало даже чуточку не по себе: было такое чувство, будто перед ним не сам Иван, а его бесплотная тень, и он поспешил ответить, заговорить с ним, чтоб избавиться от этого странного ощущения:
– Ни за тем, ни за другим, государь.
Иван указал рукой Ивашке Носу, чтоб шёл прочь, дождался, когда за ним притворилась дверь, и хладнокровно, зная, что бьёт точно в цель, сказал:
– Тогда – за Бельского пришёл просить.
Челяднин, услышав это, вдруг поймал себя на мысли – совершенно бредовой, – что Бельский просто ломал перед ним дурака, договорившись заранее обо всём с Иваном, чтобы как раз его, Челяднина, зачем-то толкнуть на этот поступок. Но он тут же и отогнал её – это было совершенно невероятно.
– А буде, за Воротынского? – с прежним хладнокровием, лишь чуточку поязвительней, приспросил Иван.
– Покуда токмо за Бельского, государь.
– Покуда! – Иван искренне рассмеялся. – Горазд ты, боярин, горазд! Узнаю твою стать! За неё и люблю тебя! Так люблю, боярин, что, случись помирать стану, на тебя царство оставлю.
Челяднин смолчал, даже не поблагодарил Ивана за столь высокую и необычную похвалу: видать, не принял её всерьёз.
– Знаю: без меня ты сбережёшь его, честно и праведно сбережёшь, не посягнув на священный наш стол[181]181
Стол – здесь: престол, трон.
[Закрыть]. И иным возбранишь посягать. Без меня! – резко присказал Иван, подчёркивая самую суть, как будто не был уверен, что она дошла до Челяднина.
Челяднин молчал.
– А со мною того ты беречи отчего-то не хочешь?!
Челяднин молчал.
– Знаю отчего! Я тебе не угоден! Сердце твоё восстаёт на меня! Вот и сейчас... Ты не за Бельского идёшь.
Плевать тебе на него! Ты супротив меня идёшь! Ты мне тщишься досадить, вступаясь за Бельского, мне тщишься учинить мешкоту[182]182
Чинить мешкоту – мешать, противодействовать.
[Закрыть]...
Иван помолчал, ожидая, должно быть, что Челяднин хоть на это ответит ему, но тот не отвечал, и Иван, не умевший долго сдерживать себя, опять заговорил:
– А уж стар стал, стар, и многого не уразумеваешь. Ранее ты таких оплошек не допускал. Ранее б ты уразумел, что сейчас, пойдя сюда, не противное, а угодное мне сотворишь. Заплошал ты, боярин, заплошал... Вельми стар стал и умом изрядно пообносился. Теперь уж я не боюсь тебя, как прежде. Теперь ты бойся меня, бо теперь я и умом сильней тебя!
Левкий, сидевший на скамье рядом с царским ложем, тихонько, со злорадным пристоном хихикнул и осторожно, чутко скосился на Ивана, проверяя, угоден ли ему его смех и можно ли присовокупить к нему ещё и словцо – ядовитое словцо, подливающее масла в огонь? Святой отец был великий искусник на таковое, и сейчас ему тоже, должно быть, кортело отрыгнуть свой яд, но что-то насторожило его в Иване, и он сдержался.
Челяднин по-прежнему молчал. Михайло Темрюк, понимая, что это молчание оскорбительно для Ивана, не выдержал, угрожающе прошёлся за спиной боярина. Чуял он, что у Ивана уже кончается терпение и, гляди, повелит он силой заставить боярина отвечать. Но Иван даже глазом не повёл на своего горячащегося шурина, однако и молчания Челяднина тоже не мог больше снести.
– Что же молчишь... яко праведник? Ужли и слова на нас истратить жалко?
– Что ж сказать, государь? Вижу я: вельми ты на меня кручиноват... Впору мне головой отвечать, а ты ждёшь от меня слова.
– Головой?! – Голос Ивана чуть смягчился. – Голова твоя мне ещё пригодится. Таковой головы поискать! – вновь восхвалил он Челяднина, и столько было в этой похвале простоты и непринуждённости, так легко и свободно она сорвалась с его уст, что не верить в неё было нельзя. – Истинно реку: помирать стану, на тебя царство оставлю.
– Да что же ты, государь? – у Челяднина будто заперло горло. – Что же ты так со мною?.. То в студёное, то в вар!
– Я и сам тако, боярин: то в студёное, то в вар...
Голос Ивана совсем смягчился, ослаб, приглушился.
Казалось: что-то иссякло в его душе и остепеняющая истома и смиренность завладели им, но если бы Челяднин мог видеть его лицо, его глаза, запавшие в чёрную глубину глазниц, ему увиделось бы в них совсем не то, что услышалось в голосе.
– ...А что молвил на тебя худое – оставь мне... От скорбен то моих от сердечных... От скорбей, боярин! – Иван нетяжела, с протягом вздохнул. – А скорби мои – от окаянства моего. Како помыслю на себе неправды великие, и горе людское, и невзгоды премногие, и мой дух болезнует от тех мыслей... И вопрошаю себя: кто аз еемь? Истай вопрошаю, боясь истины горькой. И отвечает мне глас духа моего: изгой еси, отметиик[183]183
Отметник – отщепенец.
[Закрыть] презренный, поправший в себе добро и свет и пошедший неведомо куда и творящий неведомо что. И никто же супротив меня, но я сам супротив всех – в помрачении ума своего, в окаянстве своём стыдобном. И всяк ко мне с добром, а я в том добре вижу зло – в помрачении ума своего.
– О государь, невозмогше те внемлити! – скорбно, с выслезью взлепетал Левкий и перекрестился, утаив в шевелящихся губах то ли молитву, то ли проклятье на чьи-то головы.
Иван словно и не услышал возгласа Левкия, продолжая негромко говорить, но голос его стал иным: он как будто наполнился отзвуками той самой скорби и слезливости, что прозвучали в возгласе его наперсника-черноризца.
– Вот и ты... також ко мне с добром пришёл, а я на тебя хулу возвёл, злыми помыслами изупречил.
– Да с каковым уж таковым добром, государь? – смущённо вымолвил Челяднин, чуя, как его подкупает, околдовывает скорбно-слезливая смиренность царёва голоса. – Боярин Бельской звон... извёлся в край, искручинился – от твоего, государь, сердца на него. Сидит в трапезной горюном, токмо что слёз не льёт. Прискорбно глядеть на него, государь, с тем и пришёл... А дела мне, истинно, нет до него никоторого, – согласился он с Иваном, невольно, отступнически согласился, хватаясь, как за соломинку, за эту призрачную, обманчивую возможность освободиться, отмежеваться от всего, с чем был связан той самой глубинной, нерасторжимой связью, за которую презирал себя и в которой не хотел быть уличённым Иваном именно сейчас.
– Нет, боярин, – с добром... С великим добром! – мягко, приласкивающе сказал Иван, словно платил этой лаской и мягкостью за почуянное им отступничество Челяднина. – Ты пришёл душу положить за ближнего своего. Ужли сие не добро? И ужли есть ещё что выше сего? Сам Христос свидетельствовал о том!
Он примолк, явно для того, чтобы дать возможность Челяднину самому прочувствовать это. Сказанное им было не просто высокими, похвальными словами, словами по случаю, – сказанное было великой истиной, у которой имелся великий свидетель, и это не могло не действовать.
– Ты пришёл добром подолати зло, – тихо продолжал Иван, – и в том уже доблесть твоя, боярин, и подвиг твой, и честь; да и в том ещё, что ты принёс душу свою за тех, кто за тебя своей не принесёт. Коли меж нас с тобой нежитье[184]184
Нежитье – раздор, плохие отношения.
[Закрыть] великое всчинилось, никто же не подвигнулся душу за тебя положить, никто не воздвиг глас в защиту твою. Ты и сам ведаешь сие, ведаешь, что говорить, и, однако, не отступаешься от добра...
– Да что же ты, государь, будто молишься на меня? – вконец смутился Челяднин. – Не угодник святой я – человек...
– Истинно, человек! – подхватил Иван. – И я человек! Вон и Васька – також человек! Вси есмя человецы, как писано. Да где в нас то благо, то истинное добро, что завещано нам Господом как начаткам Своим? Где в нас подвиг и жертва во имя ближнего своего? Нет, боярин, не молюсь я на тебя – дивлюсь тебе и радуюсь и устыжаюсь тебя. Смутил ты душу мою, придя сейчас ко мне, так смутил, что и изречь не могу. Одно сейчас во мне желание – покаяться! Пред тобой, пред Бельским...
Голос Ивана, надломленный, скорбный, звучал как покаянная молитва.
– ...Ибо – что твоя былая вина предо мной? Она более в сердце моём, нежели в разуме. А сердце – плохой доводец. И была ли она, та вина? Не примнилася ль мне в помрачении ума моего? Тако и с Бельским... В сердце моём окаянная страсть всклокотала и застила глаза разума моего. И пошёл я вослед страстей своих – слепота моя повела меня.
– Господи, узри душу человечью! – воздел кверху руки Левкий. – Вот она, жаждет высоты и благочестия! Устреми на неё око Своё, Господи, и мышцей Своей воздвижь!
Иван поморщился: возгласы Левкия были не очень-то к месту, да и больно уж смахивали на подыгрыш, на шутовство. Впрочем, знающий Левкия не удивился бы этому: святой отец и на амвоне оставался шутом, – таков уж он был, этот чернец, и его шутовство, его забобоны были как бальзам для Ивановой души. Но всему есть мера, всему есть предел. Святой отец, однако, нередко забывал об этом, и Ивану приходилось напоминать ему... Иногда вот так – лёгким движением лица или хлёстким, как удар бича, взглядом, иногда – покруче. И тогда летело в святого отца первое, что попадало Ивану под руку. Бывало, после такого особенно крутого напоминания Левкий по нескольку дней отлёживался у себя в святительской, врачуясь примочками и припарками, но проку от этого не было никакого – Левкий оставался Левкием. Ему бы и сейчас помолчать, ведь больно уж странен был Иван, непонятен, и если играл, то играл необычайно тонко, и конечно же не ради одного лицедейства. А в таком случае самое разумное – тихонечко ждать конца представления и не лезть в подголоски, ежели он сам того не пожелает. Но уж очень проникновенен был Иван и говорил такое, что и вправду брало за душу, и вправду выжимало слезу, а чёрная душа Левкия была не чужда умильно-восторженных и сострадательно-хлипких порывов. Таков уж он был, этот чернец!
Сейчас, воздев кверху руки и вперив взгляд в потолок, олицетворявший для него поднебесье, выспренний, святошно-торжественный и, казалось, до последней кровинки захваченный этим порывом, он, тем не менее следил за Иваном и заметил, как передёрнулось его лицо. Что это значило – ему не нужно было объяснять, и как вести себя дальше – тоже! Он уяснил себе это в тот миг, как только на лице Ивана дрогнула первая жилка, и воздал про себя хвалу Господу, что этим всё и обошлось.
– Слепота моя повела меня, – скорбно, повинно повторил Иван, опасаясь, что святошеский причет Левкия отвлёк Челяднина. – Но да будет положен тому предел! – Решительность, прозвучавшая в его голосе, воспринималась почти зримо – не только как слова, но и как определённые жесты, движения, и не хотелось верить, что он даже не пошевельнулся, даже не двинул рукой, продолжая спокойно, с хмельной отяжелённостью лежать на подушках. – Жажду я: пусть свершится моё прозрение через покаяние моё! Ты пришёл просить о милости к Бельскому, но я сам хочу просить его милости. Пусть войдёт ко мне, и я стану пред ним на колени и покаюсь, и пусть отверзнутся глаза разума моего. Слишком долго я был слеп!
– Государь! Нету таких слов... Мой косный язык не изыщет их, чтоб поведать тебе, что сейчас в моей душе! Но, государь... – Челяднин смятенно и умоляюще приложил руки к груди.
– Молчи, боярин, молчи! – остановил его Иван. – Знаю, что ты хочешь изречь. Но сейчас я – не государь. Я человек... Просто человек. Но и как государь я не страшусь умалить своей чести: покаяние не умаляет, но возвышает всякого! Я с радостным сердцем зову: пусть войдёт!
– Тогда вели кликать его из трапезной, – сдался Челяднин, – бо за дверью он не стоит. Я явился к тебе сам-друг.
– Так покличем, – с прозвуками разочарованности и досады сказал Иван и повелел Ваське Грязному отправиться в трапезную и призвать Бельского. – А случится кому иному быть с ним иль иным, и тех кличь, дабы не взмнилось Бельскому, что не с добром призываем его, – дополнил он свой наказ с какой-то уж больно тонкой и не к настроению здравой предусмотрительностью.
Васька обернулся сноровно. Не успел Челяднин, смущённый, растроганный, сбитый с толку Ивановым поведением, хоть чуть собраться с мыслями, как Васькина карая рожа, ставшая свирепой от усердия, уже выпнулась из-за приоткрытой двери:
– Государь, привёл!
– Войди! – сурово зазвал его Иван. – Что, как тать, в позадверье кроешься.
Васька вошёл, дрыгнул головой, указывая куда-то за дверь:
– Привёл, государь, как велел.
– Я велел призвать!
– Призвал, – виновато поправился Васька. – А с ним, государь, окромя боярина Мстиславского, никого боле не было. Так я, как ты велел, и Мстиславского привёл... Призвал, государь! Велишь впустить обоих?
– Пусть войдут, я призываю их!
Васька шире распахнул дверь и не больно учтиво поклонился, а скорей просто сгорбился, приглашая Бельского и Мстиславского войти.
Бельский перекрестился и на негнущихся ногах, приволакивая их, как старец, первым вошёл в опочивальню и сразу, будто утратив последние силы, прямо у порога бухнулся на колени.
– Государь! – в полумраке он не сразу увидел Ивана, а когда увидел (тот приподнялся на ложе, будто как раз для того, чтоб показаться ему), так на коленях и пополз к нему, истово прижимая руки к груди, словно старался посильней придавить себя к полу и стать ещё ниже, ничтожней. – Внемли слову моему! Винен я пред тобой, винен и готов принять любой приговор! Повели казнить, в чернцы повели, и я возблагодарю Бога за любой твой приговор... За любой! Токмо дай услышать его!
Мстиславский, оставшийся у дверей, стоял спокойный и даже как будто равнодушный, словно не видел и не слышал ничего. 0н и в самом деле не смотрел на Бельского и не слушал его стенаний: всё это он знал наперёд, знал, что Бельский дойдёт до края, до самой неистовой низости, будет ползать на коленях, как самый последний холоп, и просить – не милости, нет: выпрашивание милости требует хоть какой-то пристойности, – будет просить приговора, кары – самое мерзкое, что может делать человек, таящий в душе злобу и ненависть к тому, у кого вымаливает эту самую кару. Но, странно, зная всё это и видя воочию, Мстиславский не чувствовал сейчас в себе того протеста и того отвращения к Бельскому, которые испытывал, когда уезжал от него после проведывания. Тогда он презирал не только Бельского, но и себя, сознавая, что не многим разнится с ним. Это ощущение сохранялось в нём и теперь, и он не мог с полной уверенностью сказать самому себе, что, очутись на месте Бельского, не повёл бы себя так же, ведь и само его предвидение поведения Бельского возникало в нём как отражение состояния, переживаемого им самим: думая о Бельском, он на самом деле думал о себе и предугадывал себя в подобном положении. Однако совсем не потому приглушалось сейчас в нём чувство протеста и презрения к Бельскому, что он сам был во многом сродни ему. Презирая духовную хилость в самом себе, он ещё сильней презирал её в других и вряд ли бы, даже при всём своём самообладании, остался сейчас так неподдельно спокоен, видя рабскую приниженность и ничтожество Бельского, если бы не осенила его неожиданная мысль, – раскрепощающая и примиряющая прежде всего с самим собой, а в чём-то даже злорадная и воинствующая – о том, что низость, ничтожество, духовное бессилие, всё то, что являл сейчас собой Бельский и что тайно жило в нём самом – вовсе не бессилие, а сила, особенная, своеобразная сила, с которой не только невозможно, но и просто нечем бороться. Мужество стойко, сильно, но оружием против него могут быть и простая пощёчина, и гадкий, сквернящий плевок. А что может быть оружием против ничтожества? И что разить в нём, в ничтожестве, что унижать? Мужество, стойкость, духовная сила – вот что опасно в противнике. В мужественном стараются уничтожить именно мужество, дух, волю, а не жизнь, не плоть. Но что уничтожишь в ничтожном? Что уничтожит Иван в Бельском? Его жизнь, его плоть? Но сами по себе они не страшны, а Бельский, таков, как есть, даже нужен ему, и, значит, Бельский неуязвим, надёжно ограждённый своим ничтожеством. Тогда неуязвим и он, Мстиславский, неуязвим ещё более, потому что, в отличие от Бельского, знает об этом. ЗНАЕТ!
Эта торжествующая мысль не вознесла его ни над Иваном, ни над Бельским, ни над самим собой, напротив, он снова, и вот уже как – с торжеством, с воинствующим торжеством! – признал своё ничтожество, и теперь уже, наверное, окончательно, потому что открыл и осознал его охранительные свойства, но эта мысль наконец-то освободила его от страха перед Иваном. Он впервые был спокоен по-настоящему, безо всякой игры и нарочитости, спокоен так, как никогда бы не смог изобразить, и это спокойствие, – это, а не то, что носил на себе как личину, – было истинным вызовом Ивану. И Иван, похоже, почуял это. Поднявшись с ложа, он властным жестом остановил причитания Бельского и, будто разом позабыв о нём (должно быть, и вправду позабыв), долго в упор глядел на Мстиславского.
Мстиславский потупился, чуя, как этот упорный, въедливый взгляд царя обратил на него и взгляды всех остальных. Даже Бельский, казалось совсем уничтоженный пресекающим жестом Ивана, и тот с выражением полоумного косился на него из-за плеча, недоумевая, чем он так привлёк к себе внимание.
– Говорил я Мстиславскому, коли ехать он за тобой намерился... – заговорил Иван, обращаясь к Бельскому, и медленно, нехотя перевёл на него глаза, а в них – не видел этого Бельский, – как резкий, неожиданный высвет его души, вдруг вспыхнуло и утаённо пригасло холодное, хищное презрение, и радость, и торжество, и страх, тот особый, исконный, охранительный и вероломный страх, без которого не бывает побед, – что нужды в тебе нет никоторой... И пребывал весь в кручине и зле на тебя, да нежданно явился ко мне боярин, душу свою за тебя принеся, как о том завестовал нам Спаситель... И устыдил он меня, и смутил великою смутой, и душа отверзлась моя. Жадит она покаяния за неправды мои жестокие... Покаяния пред тобой!
– Нет, государь, нет! – с ужасом воскликнул Бельский, выметнув к Ивану руки. Он и вправду ужаснулся от мысли, что может быть втянут Иваном, намеренно или невольно, в непосильную сейчас для себя лукавую игру с ним. Эта игра потребовала бы от него напряжения душевных сил и ума, но ни ум, ни душа его уже не способны были сопротивляться Ивану.
Иван только более прискорбил голос:
– Допрежь за всё – пред тобой, ибо ты потерпел от меня великий ущерб и тесноты премногие.
– По грехам моим, государь, по грехам! – умоляюще тянул к нему руки Бельский.
– В темнице томил тебя, вотчинишку отнял...
– По грехам моим, государь!
– А вина твоя, есть ли она? Не примнилася ль мне? Не восстало ли на тебя окаянство моё и не слепота ли моя всему причина?
– Государь! – просяще, с надрывом всхлипнул Бельский, ловя и боясь поймать Иванов взгляд, который лишь иногда, вскользь касался его, будто Иван и сам боялся встретиться с ним взглядом.
– Посему и призвал тебя, дабы за всё испросить прощенья, покаяться и примириться с тобой.
– Государь! – Бельский припал к ногам Ивана. – Не мучь меня мукой столь нестерпимой! Винен я пред тобой, винен! Что тебе душу свою уранять, чая неправды мои слепотою своей? Винен я, истинно винен! Не пощады прошу – приговора!
Иван высвободил ноги из исступлённых объятий Вельского, отступил от него.
– А ежли и винен, то суетною страстью своей. Через ту суетность по чужой мысли ходишь, и она, та мысль чужая, зловредная, искушает тебя, понуждая ступать на пути нечестивые. Но то более грех твой душевный, нежели вина, ибо не ведаешь, что творишь, чем движешься и куда.
– Не ведаю, государь, истинно, не ведаю, – обречённо, с мучительной истомой и истерзанностью засоглашался Бельский. Стремление Ивана обелить его, стремление столь упорное и совсем ему непонятное, было особенно невыносимо – не тем даже, что таило оно в себе и чем в конце концов должно было обернуться, а тем, что всё это нужно было пропустить через себя, вытерпеть, и не просто вытерпеть – как боль, как муку на пытке, – но участвовать во всём этом, напрягая душу, разум... А для этого у него уже не было сил. Он и вправду хотел лишь одного – услышать приговор.
– О том я и боярину рёк... – Иван чуть приобернулся к Челяднину. – Рек, что примнился мне в тебе волк... Но какой же ты волк? Ты овча заблудшее. Подымись! Не тебе предо мною стоять на коленях – мне пред тобой!
Иван подступил к Бельскому, наклонился, ласково взял его за руки, намеряясь поднять с колен. Глаза Бельского расширились от навернувшихся слёз, он покорно и доверчиво поддался Ивану. Жалобная удручённость, надсадность исчезли с его лица; он как будто освободился в этот миг от чего-то или, скорее, переполнился чем-то – искренним, неодолимым, что исподволь зарождалось в нём и вдруг сразу, в одно мгновение, полностью завладело им. Он поверил Ивану.
– Государь, великодушие твоё безмерно! И ежели сердце лежит к тому, прости меня и пощади, токмо... не обеляй. Не обеляй, государь! – Пришедшая вера неудержимо влекла к покаянию – уже бессознательному, которое потянуло из его души и то, чего в иное время не вырвала бы и пытка. – Не достоин я обелы... Ты ве́ди знаешь сие... Ты всё знаешь, государь... Данила Адашев тебе всё рассказал.
– Данила?! – Ивану явно перехватило дыхание. Должно быть, лишь только это, единственное, он как раз и не ожидал услышать от Бельского, и не готов был к этому. Однако замешательства его, которое и проявилось-то лишь в почти неуловимом, невольном вскиде голоса, не заметил никто; пожалуй, только Мстиславский почуял что-то, но когда он осторожно посмотрел на Ивана, то наткнулся на встречный взгляд, и уже не он, а Иван, поймав его глазами, удостоверился, от кого Бельский вызнал про Данилу.
– ...Верно, Данила вельми много поведал мне. – Глаза Ивана опять метнулись к Мстиславскому, и опять их взгляды столкнулись. – Да вот жаль... – Иван вздохнул, потупился, словно прятал что-то в себе, и медленно, в крайней истоме отошёл от Бельского. – По упорству своему нелепотному навлёк на себя Данила железо[185]185
Железо – здесь: пытка раскалённым железом.
[Закрыть] и дыбу, и не стало его в животе от тех тягостей. И о том ураняется душа моя, бо Данила також был заблудшей овцой. От ветра главы своей повлёкся он вослед тех, кто забыл Бога над собой... Да пусть Даниле! Разумлено о нём: Данила был худороден, приятельство именитых прельщало его... Но тебя укорю: не срамно ли было в единой упряжке с худородным чужой воз тянуть?
– Про Данилу я, государь, лише слыхом слыхал... От князя. А и сам-то дивился, что князь Данилу жалует. Да князю, то ж ведомо, ратное сдружение паче любого высокородства.
– Ратное сдружение?! – Иван попытался засмеяться, но от внутреннего волнения дыхания ему не хватило, и получилось лишь срывистое глухое сипение. – Юродствует князь ваш вельможный! Дабы души таких, как Данила, к себе приворачивать да их руками вред нам чинить. Но тебя-то уж како в свой воз он запряг? Чем прельщал? Что сами государить учнёте, Володимера на престол посадив?


![Книга Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного] автора Елена Арсеньева](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zheny-groznogo-carya-garem-ivana-groznogo-213715.jpg)





