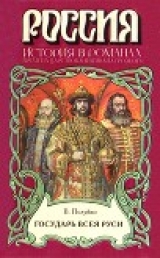
Текст книги "Государь всея Руси"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 35 страниц)
Так оно, пожалуй, и было: бражник, прелюбодей не желал знать ничего – ничьих тайн, ничьих намерений, ни дел, ни задумов, а философ, ужившийся (чудом!) в нём рядом с его непутёвостью, желал, и философ таки одолел.
– Разумею, братанич. Токмо ли безрадостно? Сиротливо тебе в отечестве. И всё у тебя беспросветно. Вам с ним ни на чём не поладить: два медведя в одной берлоге не уживутся.
– Твоя правда, – обрадовался Владимир, словно Андрей высказал за него как раз то, чего он сам не решился или не смог облечь в слова. – И я уж давно ищу выход... Но праведный путь лише один – в монастырь.
– Нет, монастырь – для тебя не выход. И не спасение. Инок Власий иль князь Володимер Старицкий! От кого легче избавиться? Разумей! Ты ему опасен в любых одеждах – и в мирских и в иноческих. А боится он токмо князя Володимера Старицкого. Боится, братанич, – твёрдо повторил Андрей в ответ на возражающую ухмылку Владимира. – И пуще, чем ты его. Да! Ему есть что терять. Разумей! Тебе – токмо присный живот, ему – царство. Положи-ка на мерила!
Андрей покачал руками с растопыренными пальцами, мысленно взвешивая эти две весомости – человеческую жизнь и царство, и глаза его, пристально следившие за покачивающимися руками-чашами, словно он боялся обвеситься, стали торжественно-суровыми – казалось, сама истина непреклонно смотрела на Владимира.
– Гордись сим иль гнетись, но он боится тебя. Да! Не тебя вот лично – имени твоего. Разумей! Имя твоё, братан, – и враг твой, и оборонщик. Мнишь, отчего попы пред тобой черевами трясут? Уноравливают, угождают, печалуются о тебе? Даже второй брак дозволили! Любят тебя? Сострадают? Жалобятся на твою участь? Как бы не так. Авось! Вот где собака зарыта. И то их авось не с дуба сорвалось, как речётся в мирских присказках. Кто-кто, а уж попы ведают, как всё переменчиво в посюстороннем мире. Переменчиво! Уразумел?! – Андрей уже вовсю гарцевал на своём коньке. – А княжата! Вся та спесивая московская свора! Они-то, мнишь, почто в горстке тебя носят? Ты им нужон? Тебя они возлюбили и хотят быти под твоею рукой? Имя твоё им потребно, право твоё на престол, которого у них ни у кого нету. Вот и берегут они тебя. Презирают, а берегут! В ссылки, в темницы, на плаху идут, а тебя покрывают... Понеже ты – последняя их надежда. Уразумел?
– Да в чём же они меня покрывают? – удивился Владимир и попробовал даже рассердиться: – Ты что на меня возводишь? Я давно уже не с ними.
– Ты не с ними, но они – с тобой. Вот в том и покрывают. Когда он мучит их, жжёт жегалом[51]51
Жегало – орудие пытки.
[Закрыть], вздымает на дыбу и кричит в исступлении: «На что вы, окаянные, надеетесь», – они отвечают: на Бога, на правду. А на самом деле они надеются на тебя. Да, братанич! Хоть гордись, хоть ужасайся, но всё так!
– Да откель ты-то сие знаешь? – и вправду ужаснулся Владимир.
– В себя зрю, братан! – грохнул кулаком в грудь Андрей. – В сие вот местецо. Оно зовётся душой. Верно зовётся! Она потому и душит, что в ней скапливается вся скверна человеческая. А выхода, как для скверны телесной, в ней нет. Я зрю в неё и вижу: осе злоба, осе коварство, осе израда, – кулак его ожесточённо бухал в грудь, – осе зависть, осе корысть! И то ж не моя присная зависть и корысть, что токмо во мне едином живёт и плодится. Она ж по всему свету рассеяна, между всеми людьми. У людей, братан, всё общее – и телесные язвы, и душевные. А ты дивишься, откель я про всё сие ведаю? Познай себя, и тебе откроется вся подноготная мира.
Разговор их происходил в одной из горниц – в глубине дворца, но и сюда, через решетчатые слюдяные окончины, через дубовые двери, через стены, пол, потолок, проникал шум, наполнявший княжьи хоромы. Всюду кипела жизнь – в подклетях, в клетях, в сенях, на подворье, – жизнь близкая и понятная Андрею Хованскому, любимая им и презираемая. Не оступью, не осторожным шажком – всей тяжестью своей ломовой поступи прошла она через его собственную жизнь – от младых его ногтей до обильно умащённой бороды боярина, и именно она, эта жизнь, в большей мере, чем собственная душа, раскрыла перед ним те тайны и истины, ту подспудную сущность бытия, изначальность и непреложность его законов, о которых он так велеречиво вещал Владимиру. И если он был философом, то философом доморощенным: «высокому» мудрованию, логике, то бишь заумно-плутовским рассуждениям, ереси, кощунам и прочим лукавым вывертам он тоже обучился у этой жизни, – и как знать, может, это и было высшей мудростью и самым главным, что должен постичь человек?! Не обойди эта жизнь Владимира, затронь, зацепи его хоть краем, бочком, сомни, измарай хоть полу его объяревой ферязи, а тем более залучи, заневоль съесть с собой пусть не пуд – четверть пуда соли, как съел её Андрей Хованский, да покуражься она перед ним, подури, распахнись, распояшься, удиви добром, смиренностью, ужасни алчностью, нахрапистостью, оголи перед ним тот самый свой испод, тот корень, из которого прорастает её буйная поросль, – и он вряд ли бы стал внимать Андреевым надоумствиям и ужасаться его «откровениям»: он знал бы всё это сам. Но судьба обошлась с ним по-своему, и эта жизнь, ядрёная, оголтелая жизнь, которая кой-чему да и научила бы его, а то, глядишь, и вовсе переокрестила в своей смрадной лохани, – эта жизнь ни чуть-чуть не коснулась его. В детстве его ограждал от неё тюремный тын на Берсеневском дворе в Кремле, затем – ревностная опека матери, ставшая для него вторым тыном – и более крепким, чем первый: за каждым его шагом, за каждым вздохом следила она, и кормила, и поила из собственных рук, и мыла, и одевала, и спать укладывала – всё сама! И ночью бдела над ним, охраняя его сон. От кинжала, от яда, от сглаза, от заговорной порчи, от лихого поветрия, от всего, что могло хоть чем-нибудь навредить, берегла она своё чадо, берегла истово, самоотверженно – он был её надеждой, орудием её грядущей мести. И доберегла! До того доберегла, что зло стало представляться ему лишь в образе царя, а добро... добро в его сознании вообще не опускалось произвольно на землю с небесных высей. Его нужно было вымаливать, вымаливать, вымаливать – по крохам, на каждый час, на каждый день, на седмицу, на месяц, на год, – вымаливать и верить, что оно назначено тебе и крестиком – тем самым, что повесил на тебя поп, вынув из купели, – помечено: твоё, и токмо твоё, иже и присно, во веки веков. Вот что содеяла она с его душой и вот чем вооружила для той борьбы, на которую обрекала.
А потом, после такого отрочества и не лучшей юности, был царский двор, служба и высочайшая честь на этой службе, которая не позволяла опуститься даже до уровня самых знатных бояр, до их человеческого, обыденного, житейского... И эта жизнь, которая ещё могла бы преподнести ему некоторые уроки, тоже оказалась недоступной для него: честь и знатность стали последним и самым прочным тыном. Из-за этого тына уже совсем невозможно было что-нибудь разглядеть, понять, постигнуть, да он и не пытался делать это, полагая в своей глубокой ограниченности, что, кроме той жизни, которой жил, и тех истин, которые постиг, на свете нет ничего иного. Есть дела, заботы, труды, которых нет у него, есть устремления, чаянья, страсти, чуждые, неведомые и непонятные ему, – есть, да! Но это же совсем другое. Это как одежда, как вещи, окружающие человека повседневно. У одного их больше, у другого меньше – и только! А главное, то, что создал в человеке Господь Бог по своему образу и подобию, что вложил, вдохнул в него вместе с жизнью, – это всегда неизменно, постоянно и ничем особенным, необыкновенным, отличным от другого ни один человек не наделён.
Так думал Владимир, так представлял себе человеческую жизнь и самого человека, предопределённая сущность которого, по этим его представлениям, была заключена и в нём самом. Многое тут было и от духовников. Попы с удовольствием пичкали его святой глупостью, примешивая к ней и свою собственную, и в том, что он так к не поднялся выше этих представлений, они тоже были повинны; но первопричина была не в них, а в скудости тех жизненных родников, которые питали его с младенчества и до нынешних дней.
Как же ему – такому-то! – было не удивляться, не ужасаться тому, что слышал он от Хованского?! И как было понять – с его-то понятиями! – что всё, сказанное Андреем, заключало в себе всего-навсего простое знание жизни – и ничего иного?! Ему же казалось, что Андрей стремится раскрыть перед ним какую-то тайну, известную немногим или только одному Андрею, и потому удивлялся и ужасался, воспринимая всё так, будто за каждым словом Андрея, за каждым его утверждением стояло нечто вполне определённое, которое при желании могло предстать перед ним, перед Владимиром, наяву.
Это мнимое прикосновение к чужой тайне (тоже мнимой!) делало его ещё решительней в намерении открыть собственную. Ему даже показалось, что Андрей и так уже догадывается обо всём, ведь не случайно же завёл он этот разговор, который был куда как опасней всех его ересей и кощунств. Ни о чём подобном, несмотря на всю свою бесшабашность и откровенность, он досель даже не заикался. А тут вдруг дал себе волю! Но полной уверенности у Владимира не было: Андрей, даже если он и вправду кое о чём догадывался, всё же пока ничем не выдавал этого и говорил и размышлял совсем о другом. Он как будто стремился лишь отплатить своей откровенностью за откровенность Владимира и дальше этого мог не пойти. Не самому же ему набиваться в сообщники, даже если он и готов на это!
– Себя я знаю и всё про себя решил, – сказал не совсем впопад Владимир, стремясь перевести разговор на своё и открыться Андрею до конца, чтоб пошло у них уже всё напрямик, без намёков и недомолвок. – Твёрдо. Разладу во мне никоторого более нет.
– Почто же о праведном пути глаголешь? То ли не разлад, что все иные греховными почитаешь?
Владимир отчего-то вдруг струсил, словно Андрей уличил его в таком, что было преступней всего, что он намерялся открыть. Но отступать было поздно, и он, стараясь не выдать голосом испуга, быстро сказал:
– Не все. Токмо тот, что избрал.
– Коли ты порешил всё накрепко, так что тебе до того – праведен путь тот иль нет? Пред кем тебе ответ держать? Пред самим собой лише. А кто из нас самому себе беспощадный судия?
– Да неужто же нет надо мной ещё вышнего суда? Али мнишь, что я такой же, как и ты, безбожник? – по-господски, непритворно рассердился Владимир, забыв, что тут уже не было ни господина, ни слуги: то, о чём они говорили, ещё не сблизило их, но уже уравняло. И Андрей (куда делись его простота и безобидность!) не замедлил напомнить ему об этом – с простотой и безобидностью, от которой Владимир побелел, как береста:
– Ах, братанич, дивлюсь я тебе! Ты намерился оставить родительские гробы, оставить святое отечество и потечь в чужую землю искать избавления от сиротства, но тщишься при сем не попрать правды. Како ж можно пройти по болоту, не измарав ног?
– Я тебе такого не говорил, – с неожиданной твёрдостью сказал Владимир, но бледность выдавала его волнение.
Андрей добродушно, снисходительно улыбнулся. Казалось, ещё и потреплет Владимира по плечу.
– Не то мудрено, что переговорено, а то, что недоговорено. Да не трусь, не трусь, братан! – таки не удержался он и хлопнул Владимира. – Не выдам я тебя. Кой мне в том прок? Рассуди! Тридцать сребреников московских – для меня не соблазн.
Он опять улыбнулся, проникновенно глядя на Владимира, и эта улыбка, и этот взгляд ясно договаривали: «А больше за тебя не дадут!»
– Так уж не соблазн? – усомнился Владимир и тем самым косвенно подтвердил, что Андрей прав относительно его намерений. А недомолвка Андреева не дошла до него: вялый, медлительный ум его не учуял её, иначе не возникло бы в нём сомнение. А именно в этой не больно тонкой и не больно хитро упрятанной недомолвке заключалось самое веское доказательство Андреевой искренности.
– Московские сребреники – то царская милость и жалованье, – объяснил он, решив, что Андрей как-то иначе понимает это. – Почёт, чины, высокое место. Служба при царском дворе почестливее службы в уделе.
– Первым боярином мне тамо не быть. Ни вторым, ни третьим... ни десятым даже! В Москве, братан, все места на сто лет вперёд разобраны. Не пробиться, хоть десять шкур иудиных смени! А что, говоришь, почестливее служба царская, так и там не сплошь конюшие да дворецкие, а всё больше приставы да стольники[52]52
...так и там не сплошь конюшие да дворецкие, а всё больше приставы да стольники. – Конюший – придворная должность в Русском государстве XV—XVII вв., высший думный чин. Дворецкий – глава дворцового управления, придворный титул. Пристав – в те годы должностное лицо, посылаемое для вызова кого-либо на великокняжеский или царский суд. Стольник – также придворная должность: прислуживать царям во время трапез, сопровождать в поездках.
[Закрыть]. По мне ж, братанич, паче быть копытом у мерина, нежели подковой у иноходца.
– Верю тебе, – сказал Владимир, сказал так, будто оказывал честь Андрею.
– Погоди верить. Паче спроси: а был бы прок?
Владимир вновь побледнел.
– Всё едино не выдал бы! – Андрею явно доставляло удовольствие этак-то поигрывать с Владимиром, поддавая ему то горячего, то холодного. – И знаешь почто? – Глаза Андрея наслаждались спанталыченностью Владимира. – Авось!! То же самое авось! Я тебе рек о попах, о княжатах... Но и мы, братанич, и мы, слуги твои, сродники, братья-перебратья, дядья, племянники, – мы також живём надеждой. Ты для нас – самый великий прок! Большего нам и во сне не приснится!
– И ты туда же?! – Владимир ненавистно, затравленно, беспомощно посмотрел в глаза Андрею. – Да ве́ди не будет сего, не будет! – мстительно, с жалобной натугой вышептал он. – Вы все... вы не знаете, что он за человек. А я знаю! Никоторой силе его не одолеть!
– Великой, дружной силе как не одолеть? Токмо где взять её, таковую силу? У матушки твоей её нету. У тебя також – одно токмо имя. А каков он есть – мы знаем. Силы и пыхи его ведомы. Здрав зол[53]53
Здрав зол – очень зол.
[Закрыть]! Да страшен и силён он не тем, что зол, а тем, что прав. Разумеешь ли ты сие?
– В чём же он прав? – с тоской спросил Владимир.
– То другой разговор, братанич. А я тебе про себя скажу... Молвишь; и я туда же. Туда же – верно. Токмо я не жду и не верю, что ты станешь царём через чьё-то хотение. Я безобиден в своих чаяньях и чист пред Богом. Я уповаю на авось! Вси есмя смертны, как речётся: упал с коня, приключилась болячка на стегне[54]54
Стегно – бедро.
[Закрыть]... Его отца от таковой самой болячки не стало.
– Ты меня спроси: хочу я быть царём?
– Неужто и правдой не хочешь?
– Та твоя правда – журавль в небе. А мне паче синица в руке. Об том я и речь хочу с тобой вести, а не перебирать перебирушки про царский престол да про иные несусветицы.
– Ан почто о том речь-то вести? Я тебе без луки скажу: пособлять в том деле твоём не стану.
– Не станешь?! Да пошто? – и удивился, и растерялся, и обозлился Владимир. – Матушке... Знаю... Пособляешь. И в худшем! Чист пред Богом! – язвительно и по-господски брезгливо кинул он, опять забыв, что перестал быть для Андрея господином.
– В чаяньях – чист, – невозмутимо ответил Андрей, и больше себе самому, нежели Владимиру. – В делах – преступен.
– Ежели страшишься расплаты, уйдёшь разом со мной. Я возьму тебя... Токмо пособи!
– А что?! – Андрей на мгновение как бы обернул взор в самого себя, прикидывая: приемлемо ли это для него или нет? – Бабы и вино есть и там!
Владимир согласно и обрадованно кивнул головой, и даже не кивнул, а угодливым выгибом шеи как бы протянул её Андрею – в заклад.
– Да кабы в них-то дело было – в бабах! Да в вине! Ты, братан, тут сирота, а я там буду сиротой. А я сиротою быти не хочу! Потому не побегу с тобой к ляхам и тебе убечь не дам.
– Вот ты как – на противную идёшь?! Да посмей токмо стать на моём пути! – попытался запугать его Владимир, но духу у него не хватило, и он тут же отступил: – Эх ты! Я тебе душу открыл... В самом сокровенном доверился, чая, что и ты не отвернёшь от меня души... Мы ве́ди не чужие! Кто, как не мы, должны пособлять один другому?!
– Я готов пособлять тебе в чём угодно. Станет надобность в преисподнюю спуститься – спущусь! В чём угодно пособлю, токмо не в таком. Ежели ты утечёшь за рубеж – конец всему! Разумей! А для меня и конец света. Лягу я на лавку под образа и помру. Тогда уж непременно помру! Во не для чего жить-то мне станет отныне. Ве́ди смысл жизни, он в чём? В том, чтобы скакнуть выше себя! Перевершить свершённое! Облукавить судьбу, вырвать у неё всё, что тебе уготовано. Да и поболее того! Ибо никто не ведает, сколько ему истинно определено судьбой.
– И како ж ты тщишься облукавить судьбу? – с неодолимым презрением спросил Владимир, начиная с этой минуты вновь ненавидеть Андрея – и ещё больше, чем прежде.
Андрей почуял это презрение, но оно ничуть не зацепило его, не обидело. Всё было естественно: не лобзаниями же, в самом деле, должен был отплатить ему Владимир. К тому же для него, видать, не имело никакого значения, как относится и будет относиться к нему Владимир, и шло это, конечно, от полной уверенности, что ни сейчас, ни в дальнейшем от Владимира ничего не будет зависеть – даже его собственная судьба.
– Ежели ты станешь царём, кому у тебя быти первыми боярами? Бельским? Мстиславским? Захарьиным? Хрен им в нюх! Мы у тебя будем первыми! Хованские! Уразумел?!
– Похотел властвовати сверчок, позабывший свой шесток.
– Наоборот, братанич! Не позабывший! Мы от корня Гедимина, и зело добре помним о том.
– Тридцать лет, как видел коровий след, а всё молоком отрыгается.
– Мы, Хованские, добре послужили вам, удельным, – пропустив мимо ушей насмешку Владимира, но стремясь пресечь такое в дальнейшем, сурово и строго, с прозвуками угрозы и властности, впервые появившимися в его голосе, сказал Андрей, глядя в упор на Владимира. – Мы породнились с вами! Твоя мать – Хованская!
Владимир тоже смотрел на него, и тоже – в упор, лишь чуть прищурившись от сильного внутреннего напряжения: не часто ему доставало духу так прямо смотреть в глаза, особенно тем, кого презирал и боялся.
– ...И ты не посмеешь не дать нам первых мест!
– Я, буде, и не посмел бы... – Владимир злорадно усмехнулся, и взгляд его, не дрогнувший под взглядом Андрея, стал ещё щурче. Он словно выискивал у Андрея самое уязвимое место, чтобы посильней поразить его. – Да всё едино не облукавить вам своей судьбы, не прыгнуть выше себя, сколико ни сильтесь. Кто ни пытался из ваших, из патрикеевских, сигать, все падали за испод земли – в тартарары! Рок над вами, злой, погибельный рок! Через вас и Старица обручилась с бедами. Все её злосчастья – от вас, от Хованских!
– Да ты ве́ди... – Андрей на мгновение опешил. Не ожидал он такого. Да и Владимир, видать, точно вцелил. – Ты ве́ди сам исполу Хованский! Вона в лице – материна кровь. Да и очами зекр [55]55
3екрый – голубоглазый.
[Закрыть] – в мать же!
– В том и беда моя. И она уж грядёт на меня. Чую. А ты жеребий свой на мне загадываешь... Первобоярства восчаял... Дурак! О спасении живота надобно печься, а ты... Одержим, что ль, как матушка?! Грянет беда... Нешто, мнишь, обойдёт она вас? Не мни... В первый черёд у меня переменят двор. Вот и будет тебе первобоярство – где-нибудь на берегу[56]56
Берег – окраина, южная граница Московского государства.
[Закрыть], воеводой на посылках... Ежели ещё уцелеешь. Подушка-то небось в головах вертится?!
– Подушка вертится, – спокойно подтвердил Андрей. – У кого она тут не вертится? Всё одной ниткой связаны.
– Вот и выкинь из головы все свои бредни, и, покуда ещё не поздно, – бежим. Там... ведают о моём намерении. Я сумел известить, что хочу приехати на королевское имя[57]57
Приехати на королевское имя – прийти под власть короля, переменить подданство.
[Закрыть].
Владимир сказал это и поморщился, как от боли. Чувствовалось, что ему до зарезу не хотелось сознаваться ещё и в этом, но он шёл уже на всё.
– Хлызнев?! – метнул в него руку Андрей, словно стремился сорвать с его тайны последний покров.
Владимир снова поморщился и обессиленно вздохнул.
– Я так и знал! – Андрей с превосходством посмотрел на Владимира, как бы говоря: видишь, даже тайны твои для меня не тайны. Но особого торжества в его голосе не ощущалось: должно быть, подтвердились не больно приятные для него предположения. Пособник у Владимира таки сыскался! Он же, видать, был уверен, что такое вряд ли случится.
– Ну, Богдану что? Холопом был, холопом и останется! – Андрей сказал это с досадой, но более с презрением – с презрением не к тому, о ком говорил, а к Владимиру – за то, что тот воспользовался услугой столь низкого человека. – Таковым, как Богдашка, не до жиру...
– Погляжу: будет ли тебе до жиру, коли грянет беда?!
– Беда может грянуть. А может и не грянуть. Беду можно отвести. Не первую зиму волку зимовать, как молвится. А вот ежели ты утечёшь за рубеж, царём тебе уж не быти николи же. А мне – первым боярином при тебе. Николи же! Разумеешь?!
– Бредни то всё, бредни! – Владимир, казалось, готов был заплакать или, наоборот, наброситься на Андрея. – Выкинь их из головы, выкинь – и, покуда не поздно, бежим!
– Я, буде, и выкинул бы, и отрёкся от мечты... – Андрей впервые спрятал глаза от Владимира. – Истинно, на что мне власть? Бухнуть спьяну в самый большой колокол?! Но иные... Братанич, иные! Им нужно совсем другое. Они жаждут воскресения! Жаждут восстать из могилы... Из незасыпанной ещё могилы! Разумеешь? И ты – единственная их надежда и заложник у той надежды. Разумеешь, заложник!


![Книга Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного] автора Елена Арсеньева](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zheny-groznogo-carya-garem-ivana-groznogo-213715.jpg)





