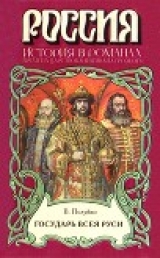
Текст книги "Государь всея Руси"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 35 страниц)
Иван вдруг захохотал так, словно разум на миг оставил его.
– ...Я такое учиню с вами!.. Васька, что я учиню с ними?
– Что повелишь, то и учиним, государь! Хошь – живьём обдерём, хошь – на огоньке поджарим.
– Добр ты, Василий. Они ведь любят помирать мучениками, а ты собираешься пособлять им. Нет, ни пытать, ни казнить и на цепь их сажать я не стану. И в ссылку не изгоню. Я учиню им иное... Я приставлю их... к твоему гузну, Василий. Подтирать его! Сними порты и покажи им свой зад! Пусть загодя уведают место грядущей службы своей, коль мне служить не похотят.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
В воскресный день, пробудившись с первым скрипоч половиц в подклетях, где обитала дворня, разрядный дьяк Разбойного приказа Василий Щелкалов принялся собираться в гости к своему старшему брату Андрею, который два дня назад воротился из Казани, куда ездил на досмотр таможен.
Братья не виделись долго, почти всю зиму, и новостей накопили много, особенно же сам Василий, остававшийся в Москве. Да и не только новостей. Завелось у Василия кое-что такое, о чём и на смертной исповеди не сознался бы, но от брата у него утаек не было, и он давно уже поджидал его, чтоб поговорить, посоветоваться...
Андрея он любил – не той обычной родственной любовью, что пробуждается лишь на свадьбах, на крестинах да на поминках, – любил по-особенному: тот был для него не только братом, не только родным, единокровным человеком, но гораздо-гораздо большим – частью его, дополнительной, незаменимой частью, которая прибавляла ему разума, воли, находчивости, стойкости, она делала его вдвое мудрей, вдвое сильней, вдвое хитрей, она добавляла ему рук, ног, глаз, ушей, она, эта часть, делала его чутче, осмотрительней, расчётливей, прозорливей, – вот почему он никогда и ни в чём не лукавил перед братом, не кривил душой, не скрытничал, никогда не возносился, не спесивился и никогда не обижался на его советы и поучения, если даже и не нуждался в них.
Василий собирался не спеша, без суеты, спокойно и с непременным тщанием – на люди он себя собирал, как на смотрины. Умылся с мылом, учесал, умастил бороду, перебрал полдюжины рубах, выбрал самую приглядную – лудановую, с шитым бисером воротом. Выбрал и душегрею. Долго раздумывал, что надеть поверх? Ехать в лёгкой ферязи было явно не ко времени: весна ещё не баловала теплом. Надеть зипун? Зипун у него был отменный – ипского дорогого сукна, вытканного в далёкой Фландрии. Но к зипуну по такой поре непременно нужно меховое ожерелье, и оно у него есть, да вот беда – не соболье оно, не бобровое – кунье всего лишь. А кунье ему уже как бы и не к лиду.
Ментеней, охобней, опашней Василий ещё не завёл – дорогая одёжка, боярская, – потому порешил ехать в шубном кафтане. Кафтан, правда, был не ахти, не по первому году ношенный, но ежели поверх накинуть епанчу – будет вполне сносно.
Отзавтракал Василий, выпил два добрых жбана пива да сверх корец сивухи, подождал, покуда чуток забунило в голове, и поехал.
Жил он в Зарядье, на Великой улице, а Зарядье пробуждалось раньше всей Москвы. Вот и сейчас Великая улица, несмотря на несносную рань, была уже полна разношёрстного люду.
Щелкалова узнавали, кланялись, с почтением уступали дорогу. Но таких было мало. Большинство не обращало на него никакого внимания, дорогу уступали с великой неохотой – хоть вали их конём, и Щелкалов с досадой думал, что нужно было всё-таки надеть зипун или уж, на худой конец, однорядку. Улица принимает и чтит по одежде, а он, смотри ж ты, сплоховал нынче! Казалось, всему Зарядью видно, что у него под дорогой епанчой ношеный-переношеный кафтан-мухояр[199]199
...кафтан-мухояр... – Мухояр – старинная азиатская ткань, бумажная, с шёлком или шерстью.
[Закрыть]. Совсем уже намерился поворотить назад да переодеть этот проклятый кафтан, начавший выворачивать ему душу, но тут откуда ни возьмись, как из-под земли, прямо под самые копыта – мужичина. Воздел руки и завопил:
– Василь Яклевич! Отец родной! Не изволь гневаться, дай слово молвить!
Щелкалов по бляхе на груди узнал – уличный староста.
– Какой я тебе отец? – осмиряя уздой коня, сказал он недовольно. – У тебя вона борода обсивелая, а ты мне в сыновья набиваешься. Поди прочь! Недосуг мне нынче!
– Да беда, беда сталась, Василь Яклевич! – ещё пуще возопил староста. – Тати-то!..[200]200
Тати – воры, разбойники.
[Закрыть] Нонешней ночью из тюрьмы выбились.
– Ах, мать вашу!.. – завернул Щелкалов трёхаршинный мат. – Сучьи потроха! Не усторожили!
Голова у него враз стала свежей, ясной, как спросонья, и он пожалел уже, что мало выпил: ему никак не хотелось сейчас распаляться, а на трезвую голову, знал, удержаться будет трудно. Позабыл он и про свой кафтан-мухояр. Всё враз отлетело прочь, только одна мысль осталась в нём – о брате. Откладывать встречу с ним не хотелось, заставлять ждать – тоже. «Известить бы... – думал он расстроенно, поискивая глазами какого-нибудь мальчишку или шлёнду, чтоб послать к брату. – Осердится братуха, ждамши-то впустую! Осердится!» – расстраивался он и чувствовал, как к горлу начинал подкатывать распирающий ком. А разозлиться ну никак не хотелось! Ежели он разозлится, то всё: уже не отступится и возьмётся за дело так, как умеет браться только он.
– В приказ ходил? – начал Щелкалов искать какой-нибудь выход, чтоб не влезать в это дело.
– Бе-егал, Василь Яклевич! Тама подьячий Невежа Лазарев со сторожем в кости грешат. Пьяные – черней грязи! Сказал я Невеже, так он мне в зубы, чтоб не являлся в воскресный день с таковыми делами. А я ить староста! Уважать меня должон! А он – в зубы!
Щелкалов тронул коня, пренебрежительно бросил через плечо:
– А он – царский слуга! Разумей разницу.
– Я ить також не от себя. Меня люд излюбил![201]201
Излюбил – выбрал на эту должность.
[Закрыть]
– Плевать на твой люд! С самой высокой колокольни! Уразумел? Какая на Москве самая высокая колокольня?
– Да ить какая? Иван святый.
– Вот с Ивана святого и плевать!
– Плевать так плевать, – покорно согласился староста, бежком поспевая за Щелкаловым, который нарочно попускал коня, чтоб вот так, вприбежку, по-холопьи, и следовал за ним этот мужик с бляхой, который – смотри ж ты! – вон уж о чём размечтался: чтоб уважали его!
Щелкалов правил к тюрьме. Она находилась тут же, в Зарядье. На одном конце – мужская, на другом – женская. Из женской бежали редко, поэтому Щелкалов знал, в какой конец править.
Тюрьмы в Зарядье – испокон, и испокон жители Зарядья повёрстаны обязанностью ставить эти тюрьмы, и следить за ними, чтоб не ветшали, и сторожей давать, и палача... Правда, никакого иного городового дела[202]202
Городовое дело – трудовая повинность по благоустройству города.
[Закрыть] они не делают, их забота – только тюрьмы и тати, но забота эта претяжкая: они и строители и надзиратели, они и ответчики. Что бы ни случилось, спросят за все опять же с них. Вот и сейчас: тати сбежали, а отвечать, конечно, им. И собственной шкурой, и собственной мошной. Кто не радел о тюремных делах, отнекивался, отвиливал, не пособлял, как должно пособлять, на тех, посмотря по провине, либо иски сыщут, которые не доправили на сбежавших, либо батожьём попотчуют, а самым злостным ослушникам хлебать по полной – на них и иски сыщут, и батогов не пожалеют.
– Вот он твой люд: нерадив, подл, скверен! – покрикивал Щелкалов на старосту. – Оттого и тати сбегли! Не устерегли!
– Да ить не устерегли, – виновато соглашался староста.
– Потому что не стерегли! Знаю я вас, анафемы! Вам закон исполнять, что лыко с себя драть! Так и норовите какую-нибуди лазейку сыскать!
Староста ничем не ответил ему на это, смолчал, и Щелкалов даже обрадовался его молчанию. Он уже начинал распаляться, и староста, даже не намеренно, мог ещё сильней зацепить его: злость, она ведь стохвостая, сам не знаешь, на какой ей вдруг наступят.
Некоторое время Щелкалов ехал молча, успокаивался, думал о брате. Влезать в это дело не хотелось смертно. Нет, не вообще... Сегодня, сейчас! Не соберись он к брату, так уж всем места мало было бы! Всему Зарядью стало бы тошно от его управы. Любил он и умел гнуть этот люд в бараний рог.
– А к начальному[203]203
Начальный – здесь: начальник, руководитель приказа.
[Закрыть] дьяку, к Григорью-то Фёдорову, к Шапкину-то, ходил? – спросил он с последней надеждой.
– Ещё как и ходил! – ответил с готовностью староста. – Из приказа да ить прямиком к нему. Бегма!
– Ишь какой ты прыткий! – опять всколыхнулся Щелкалов. – Кругом бегма! Как жареный петух клюнет, так все вы становитесь прыткие! – Но это была уже последняя и самая слабая вспышка, и он легко притушил её. Помолчал. Спокойно спросил: – И что он, Шапкин-то?
– Да ить что?.. К тебе направил, Василей, молвил, Яклевич всякой уряд по сему делу гораздо и исправно учинит.
Щелкалову это понравилось, хотя и понимал, что Шапкин слукавил, отбоярился, спихнул всё на него. Видать, ему тоже нынче не больно хотелось влезать в это дело.
«Уряд-то я учиню, – думал Щелкалов, но чувствовал, что даже мысленно не может превозмочь свою неохоту. – Братуха заждётся – вот худо!»
Мысль о том, чтобы совсем отложить встречу с братом, он упорно гнал от себя. Она вызывала в нём не только досаду, но и суеверный страх, как будто он загадал на этой встрече что-то очень важное для себя – свою судьбу, свою удачу...
«А Невежу я взгрею! Ох и взгрею! Небо с овчинку покажется подлому! Ещё и за бесчестье старосты сыщу!» – вдруг осенила его мстительная мысль, и он придержал коня.
– Хочешь сыскать на Невеже бесчестье?
– Господи! – изумился староста. – Куды нам! Высоки пороги на наши ноги.
– Приходи в приказ, – твёрдо сказал Щелкалов. – Завтра и приходи. Прямо ко мне. Ты – староста, на тебе пять рублёв бесчестья.
Показался тюремный тын. Приземистый сруб тюрьмы, не поставленный на подклеть, не был виден из-за высокой ограды, виднелась только покатая кровля из чёрных смолёных плах. На коньке – царский герб, намалёванный на покосившейся и треснутой натрое доске. Такие же гербы, уже почти стёршиеся, на створках ворот.
Щелкалов, наверное, тысячу раз видел эти гербы, но почему-то только сейчас заметил, в каком они неприглядном виде. Их, должно быть, не подновляли добрый десяток лет.
«Не гораздо, – думал он, подъезжая к воротам. – Царские орлы скоро напрочь облупятся! Како ж я ранее не примечал? Ах, анафемы! Царского дородства никак не чтут! Ну я вас ужо! Как скажу крамолу, так вы мне их из серебра поделаете!»
Возле ворот толпился люд. Дьяка встретили со снятыми шапками. Понял Щелкалов: тут все виноватые, иначе не дождаться бы ему такого почтения. Нынче простолюдин не больно торопок на такое. Дерзок стал, супротивен, перечлив. Ни страху в нём, ни почтения.
– Где сторожа? Где целовальник?[204]204
Целовальник – выборный, ведавший содержанием тюрем.
[Закрыть] – загорланил Щелкалов, но сам же и почувствовал, что получилось не шибко грозно, лишь громко.
– Тута все, – ответили ему заупокойно.
– Так! – Щелкалов избоченился, но вдруг вспомнил про свой кафтан и поспешно, неловко прикрылся епанчой. – Так, – повторил он ещё раз, не зная, с чего начать: кафтан проклятый спутал все мысли. – Стало быть, не устерегли?.. – Он хотел ещё выцедить сквозь зубы своё уничтожающе-презрительное «анафемы», но передумал: для этого нужно было вновь избочениться, иначе он не произвёл бы нужного впечатления, – Дрыхли аль бражничали? Молчите? Так оно и есть! Носили татям горькую и разом с ними пили... А после дрыхли без задних ног. Тати и утекли!
– Дык, которым носили, те и не утекли, – сознался кто-то простодушно. – Спят пьяные.
– А кто ж вас побудил?
– Да мы и не спали, – загалдели, оправдываясь, мужики. – И с татями не пивали, и им не на́шивали. У нас один Никишка, палач, на́шивает и пьёт с татями.
– А вы ж почто ему в зубы глядите, Никишке вашему подлому. Почто не пресечёте его своевольства?
– Дык, как пресечёшь?
– Пусть-ка испробуют! – растолкав мужиков, шатко вышел наперёд Никишка. – Они у меня – во иде! – показал он дьяку сжатый кулак. – Всё! – Он был пьянее вина, и сейчас не только грозный дьяк, но и весь белый свет был ему до одного грешного места. – Я кажинную ночь стерегу татей... Они все по домам, по лавкам... С бабами тешатся! Им рай! А я стерегу... А что горькую татям ношу да пью с ними, так я ж за упокой их душ пью! Я им головы секу, – прихныкнул Никишка. – Я уже три срока в палачах...
– Самохотно, за откуп, – не очень решительно напомнили ему.
– Верноть, за откуп, – согласился Никишка, истомно болтая расхристанной головой. Он, чувствовалось, немало гордился этим. Ещё бы! Все эти мужики и в самом деле были у него в руках. – Они все от меня откупаются! Я за них татей стерегу и много иных дел роблю, а они откупаются. Кто деньгами, кто горькой... А вот Прошка Васильев – б...! Я нынеча пошёл тот откуп получить, а тут бегут... Пихают, порты не давают надеть, кричат: тати убёгли. Кричат, что я-деи тюрьму не запер... А я знать не знавал отродясь, как её запирать.
Щелкалов слушал Никишку, смотрел презрительно на его испитую, пожмаканную рожу – в палачах и за один годовой срок спиваются, а этот уж целых три! – и мучительно соображал, что ему сейчас сделать – такое, чтоб и уряд какой-никакой учинить, и особенно не замешкаться? О том, чтобы не ехать к брату, он уже и думать не хотел. Поедет, непременно поедет! Вот только извернётся тут...
Стали собираться зеваки. Зевак Щелкалов не выносил. Нужно было поскорей кончать с этим делом. А как кончать? Ежели по закону всё делать, так тут на две недели хлопот и мороки, и влезать в эти хлопоты и мороку нужно уже сейчас.
– Заткнись! Хватит галаголить! – оборвал он Никишку. Тот с неожиданной покорностью умолк и тут же, не сходя с места, плюхнулся на землю, скрестив по-татарски ноги, – слюнявый, заедный рот его внемлюще раззявился на Щелкалова.
– Тяжкая вина на вас, мужики – спокойно заговорил Щелкалов, уже решивший, что сделать, и увидел, как враз напугал их своим спокойствием. К брани и лютости они давно попривыкли и загодя знали, чего ждать от них. Чего ждать от такого спокойствия – не знали, и страх пронизал их, видать, до пят. – За такое великое нестроение[205]205
Нестроение – беспорядок.
[Закрыть] быти вам от государя в великой опале... Буле, даже и в смертной. Понеже не токмо зло нерадивости исплодилось у вас, но и великая крамола. Кра-мо-ла! – повторил он с нажимом на каждый слог этого зловещего слова.
Мужики обречённо поникли.
– Не по первому уж году слежу я, – гнул далее Щелкалов, – как чтите вы царское государское дородство. Орлы царские – не иначе как в противу! – оставлены вами без догляду. Не поновляются сколько уж лет? А то ж честь царская и гроза!
Мужики, должно быть, тоже только сейчас узрели, что сталось с царскими гербами, узрели и вовсе пали духом. Знали: за такое и вправду снимут голову.
– За татями вам смотреть положено, а за царскими орлами – втройне! Бо не пригожести ради явлены они тута, а для знаменования царской власти, коя пребывает надо всеми – и над татями, и над вами, крамольниками!
– Да нешто мы по умыслу? – лепетнул кто-то в отчаянье. – По недосмотру. Истинный Бог, по недосмотру!
– Василий Яковлевич, смилуйся Христа ради! – запросились мужики. – Не изволь сказывать на нас крамолу! А мы ужо тебя не подведём – тое всё споро поправим!
– Не в моей власти миловать вас, – ответил непреклонно Щелкалов и самодовольно подумал: «Вы мне тех орлов из серебра поделаете, анафемы!» – В моей власти – всадить вас в тюрьму. И я изволю тое учинить. И ежели сами сядете, без приставов, тое вам зачтётся. Я и сам о вашей покорливости слово замолвлю. Буде, и выйдет вам какая послабка... Ежели ещё и орлов поновите не мешкая... До вельми чудного вида... Чтоб государю про то доложить по досугу[206]206
По досугу – здесь: при случае.
[Закрыть] и испросить на вас милости.
– Сядут, все как есть сядут, Василь Яклевич, – торопливо, с угодой заговорил староста. – Самохотно, без приставов... И с орлами не замешкаемся. Токмо ты уж помилосердствуй, замолви словцо. Пущай ить водвое сыщут за татей, а крамолу бы умалили... Невольная она, Василь Яклевич!
...Щелкалов, уезжая из тюрьмы, куда безо всякого труда, одной лишь хитростью и находчивостью, засадил всех тюремных сторожей вместе с палачом, ещё раз напомнил старосте, чтоб завтра непременно явился в приказ. Удастся ли принудить страхом мужиков раскошелиться на серебряных орлов, чтоб и вправду доложить об этом государю (с иной, разумеется, целью), – он не знал; не знал, сумеет ли, как задумал, проучить Невежу Лазарева, зато твёрдо знал, что если в ближайшие дни в тюрьму явится надзиратель пересчитывать сидельцев, как предписано ему законом, – счёт им будет полный.
2
К брату Василий приехал в духах. Редко бывало ему так покойно и мирно. В душе – ни горчинки, будто он только что на свет народился. Даже кафтан перестал донимать. Забыл и про него. Забыл и про мужиков, всаженных в тюрьму. Впрочем, не то чтобы забыл, но думал об этом деле так, будто оно совсем его не касалось. Будто всё произошло совсем не по его воле, и не он, а кто-то другой возвёл на мужиков крамолу и всадил их в тюрьму, а он лишь наблюдал за всем происходящим со стороны, вчуже дивясь, однако, что каким-то чудесным образом всё вершилось именно так, как хотелось ему.
Эта отстранённость и эта лёгкость, с которой душа приняла сегодня свершённое им зло, удивили его, но удивили приятно, и мысли, затронутые этим удивлением, тоже были приятны и покойны. Он думал – но опять же не как о себе самом, а как о каком-то ином, постороннем человеке, человеке вообще: «Чудно устроена душа человечья! Сколь ни хлопочешь о добре, сколь ни стараешься, ни печёшься о благом, о праведном, а она всё саднит, всё полнится угрызениями. Сотвори зло, неправду – и вот: будто и нет той души! С чего, однако, так? Вот бы знать!»
Но знать не хотелось. Удивление не жаждало смениться удручённостью либо унынием. Удивление хотело остаться в нём – во всяком случае, сегодня, сейчас! А завтра... Завтра, может, всё будет наоборот: где было лево, там станет право, чёрное превратится в белое, зло обернётся добром, а добро – злом, и люди станут не людьми, а оборотнями. Завтра было так далеко и так неопределённо, что в это далёкое-предалёкое завтра можно было даже согласиться и помереть. Быть может, оно и вовсе могло не настать.
Василий Щелкалов, въезжая к брату на подворье, ссаживаясь с коня у крыльца, поднимаясь по его крутым ступеням в горницу, наслаждался сегодняшним, наслаждался покоем и миром в своей душе, наслаждался так, как будто завтра и в самом деле не должно было наступить.
– А, Василей?! – радостно, но не без доли вальяжности вскричал Андрей, как только он переступил порог горницы. – Не позабыл, стало быть, брата?!
Василий перекрестился на божницу, поклонился Андрею, только после этого дозволил себе улыбнуться.
– Здравствуй-ста, братка!
Облобызались.
– А я уж, грешным делом, подумал: чупясится Василей, не хочет ехать к брату на поклон. Сам намерился...
– Ври, ври, братка, – улыбался Василий. – Ещё скажешь, и конь у крыльца копытит?
– Вру, вру, братец, – добродушно сознавался Андрей, – На радостях язык голомолзит. От заутрени я... Ох, обновился душой! Там, у татарови, сколь ни ходил в церковь, а истинную благостыню приял токмо дома. Своя сторонушка, тут пупок резан! И душа чует сие, чует!
Василий отстегнул епанчу, снял кафтан – кинул на лавку.
– Садись, братец, к столу, – широко пригласил Андрей. – Будем, знаешь, араки пить. Настоящее! Татарское! На кумысе заквашенное. Цельной бурдюк припёр из Казани.
Он вышел в сени, кликнул, чтоб принесли араки и доброй е́жи к ней, вернулся, сел напротив Василия.
– Гаведь, скажу я тебе, изрядная!
– Так на кой её пить?!
– Какой же ты русский, ежели самой что ни на есть дряннейшей дряни не испробуешь? Я её в Казани так напробовался, что чрево моё по-татарски вещать стало. Вот же смотри: почитай, триста лет угнетали Русь, сколько добра всякого выгребли, а самого наипервейшего – пития нашего русского – не переняли.
– Буле, потому так долго и угнетали, – сказал Василий. – У них, сказывают, и поныне хмельного не пьют.
– Теперь уж пьют! Успевай подносить! Нагляделся я... Всё у них там теперь пошло на разлад. Хозяйство, правда, по большей части покуда в их руках, понеже наши руки ещё до многого не доходят... А власти уж нет. Не господа более. Разве что над инородцами – по старому обычаю... А так всё – кончилось их время, навеки кончилось!
– Рассказал бы, – попросил Василий, – что там в Казани?
– Да что про Казань-то сказывать? Казань вся в государевой воле. Что в Москве? Вот о чём расскажи!
– Худо в Москве, – вздохнул Василий, и радостное сегодня кончилось для него. – Худо, – повторил он ещё раз – уже с надрывом и тоской, словно это худо касалось лично его.
– Всегда так! – сказал с сердцем Андрей. – Хуже, чем у нас, не бывает, должно быть, нигде... Даже у татар!
– То уж точно, – согласился Василий и принялся рассказывать.
Многого он, правда, не знал: с его-то колокольни сколько увидишь?! А и увидишь – много ли уяснишь?! Умные люди давно изрекли: всяк смотрит, да не всяк видит. Верно изрекли. Видит тот, кто смотрит мысленным взором. Ежели голова на плечах есть, тогда и малая колокольня не помеха. Головой Василия Бог не обидел. Душу дал мятущуюся, а голову подобрал крепкую, не только для шапки, как говорится. Работала, одним словом, у него голова, и очень неплохо. Ягод по цветочкам угадывать, правда, не силился, но к цветочкам пригляделся внимательно и кое-что уяснил. О том и повёл речь.
Царь вскоре после женитьбы на Марье Темрюковне учинил своей прежней духовной грамоте дерть – объявил её недействительной – и составил новую. Ничего необычного в этом не было: новый брак, вероятность рождения новых наследников требовали, естественно, и новых распоряжений. Обычное дело, и сама по себе грамота эта Василия не занимала. Помянул он про неё лишь для зачина. Его занимало другое – душеприказчики. Впрочем, занимало – не то слово. Беспокоило. Тревожило. Да ещё как!
Эта сторона завещания и вообще-то никогда никого не оставляла равнодушным, потому что душеприказчики, они же и опекуны наследников, и будущие регенты, в силу своего положения приобретали такое влияние и такой вес, поспорить с которыми могли немногие. Одних это притягивало к ним, других отталкивало, настраивало против; одни раздумывали и прикидывали, как бы половчей подмазаться, подъехать к ним, другие – как бы вырыть им яму, опорочить, навлечь на них царский гнев, опалу, убрать, уничтожить и самим занять их место. Словом, так или иначе, прямо или косвенно, но дело это затрагивало каждого, и каждый непременно что-нибудь да связывал с ним – какие-то замыслы, планы, надежды... Василий с Андреем, к примеру, узнав, что царь, избиравший душеприказчиков и из дьяков, избрал не Висковатого, как было прежде, а Васильева, не только с удовольствием потёрли руки – это означало, что царь поохладел к Висковатому, – но и с удвоенным усердием взялись подкапываться под дьяка: теперь его легче было свалить. Андрей тогда решительно заявил Василию: «Пришёл наш черёд садиться наперёд!»
Выбор душеприказчиков никогда не был случайным. Порой бывал неожиданным, но случайным – никогда. Царь избирал лишь тех, к кому питал особое расположение, приязнь, любовь, кому доверял, кого считал способным выполнить его волю. Для этого, если понадобится, нужно было не пощадить и собственного живота. Ни порода, ни знатность, ни чин не имели тут никакого значения. Ближайшие из ближних, вернейшие из верных, преданнейшие из преданных – вот кто были душеприказчики или, по крайней мере, должны были быть таковыми.
Первые из этих ближайших и преданнейших – Юрьевы-Захарьины, родня его первой жены Анастасии, и их единородцы Яковлевы. В этот раз вместе с Юрьевыми-Захарьиными руку к крестоцеловальной записи за всех Яковлевых приложил Иван Петрович.
Той мрачной ночью, в Черкизове, его родич Семён Васильевич Яковлев, сказавший ему, что он тянет весь род Яковлевых следом за Захарьиными, имел в виду и эту запись, хотя, спроси тот самого себя, как мог Иван Петрович (даже желай он этого!), не навлекая на себя и на весь свой род великую немилость царя, открутиться, отговориться от этого крестоцелования, – не ответил бы. Но он не спрашивал. Разумное и здравое молчало тогда в нём. Говорила злоба, ярость, и не злоба души, не ярость ненависти – злоба и ярость протеста, непримиримости... Иван давно уже стал причиной раздора и усобицы в их роду, и так же давно зародилась эта непримиримость, так же давно зрел этот протест. Он прорывался и раньше, прорывался неоднократно, но узы родства всякий раз оказывались сильней. Теперь разорваны и они. Та ночная размолвка окончательно размежевала их род. И если саму размолвку ночь скрыла, то последствия её скрыть не удалось, во всяком случае от таких, как Василий, и теперь он рассказывал Андрею про этих самых преданнейших и вернейших – какие они есть на самом деле! С Яковлевых переключился на Колычевых. Фёдор Умной-Колычев – в душеприказчиках (тоже вернейший и преданнейший!), а его внучатый племянник Богдан – бегун, изменник, удрал в Литву в Полоцком походе прямо с поля боя. И пусть бы это была случайность: в роду, как говорится, не без урода. Так нет же, нет! Пальцев не хватит, чтоб посчитать, сколько Колычевых (и сколько раз!) оказывалось в числе противников великокняжеских. Кому о том не ведомо?! Отец самого Фёдора Иван Колычев был бит батогами за участие в мятеже удельного князя Андрея Старицкого. Отец! А яблоко от яблони, как известно, недалеко падает.
Про Оболенских Василий уже не стал распространяться. С ними всё было ясней ясного – открыто поднялись. А ведь и среди них царь приглядел вернейшего и преданнейшего – князя Петра Горенского.
Только и сказал Василий про Оболенских, имея в виду и Горенского: «Одного поля ягодки». Подумав, сказал то же самое и про всех, лишь Юрьевых-Захарьиных отделил: на них, считал Василий, только и мог ещё положиться Иван. Все остальные – враги. Враги! Василий был убеждён в этом.
– Знаешь, братка, с той поры, как Оболенские воздвиглись на него, во мне такое чувство, будто к городу подступает вражья рать, а ворота не затворены. И никто не пытается их затворить! И вот я думаю: то ли сдаваться в полон, то ли взойти на стены? Но, сам разумеешь, какой прок всходить на стены, коли ворота настежь?
– Да полно, Василей! Так ли уж всё страшно? Любишь ты поддать лишку! Вспомни-ка, сколь уж раз воздвигались они на него? А и так уж сильны Оболенские, чтоб задирать перед ними руки? Пустит он им кровя, присмиреют, подожмут хвосты... Шуйских укротил, Ростовских! Воротынским обломал норов! Управится и с Оболенскими.
– Дело не в Оболенских... И не в Репнине, из-за которого они будто и поднялись. Допряма ин не ведомо, которым обычаем Репнина не стало. Буде, он сам свою смерть нашёл. Дело, братка, совсем-совсем в ином. То, что сейчас всчалось, – уже не сварка, не раздор, которые бывали раньше, коли они исподтишка противились ему и козновали. Тогда они восставали поодиночке, каждый за своё... Он и пускал им кровя, и норов ломал. А нынче у них у всех – одно! Запрет распоряжаться вотчинами связал их в единый узел и ещё пуще настроил супротив него. Как вышло то уложение, так и высёкся огонь смуты... Да, смуты, братка! Она уж грядёт на нас, великая сия смута. Попомнишь моё слово. Воротынские, Оболенские – токмо начало! Остальные тоже не станут сидеть сложа руки. Терять им больше нечего. Он замахнулся на последнее, и уж сие последнее они ему так просто не уступят. Тут либо петля надвое, либо шея с плеч.
Слуги принесли араки в серебряной подписной братинке, золочёные чарки. Стол накрыли камчатой скатертью. Снеди наставили – на семерых!
Став думным дьяком и сев в Казанском приказе, Андрей позабыл про бедность. Жил широко, изможно, стараясь во всём подражать боярскому быту. Особенно взялся усердствовать в этом подражании, когда ещё и женился на боярской дочке. Теперь у него весь столовый обиход из серебра, не говоря уж о том, что стоит в поставцах[207]207
Поставец – особый род судницы, шкаф, где выставлялась драгоценная посуда, и сам набор этой посуды.
[Закрыть] – напоказ. В огороде, в парниках, растут дыни, арбузы – как в лучших боярских усадьбах. Хлеб у него семидальн – из самой тонкой пшеничной муки, приправы из шафрана, из имбиря... Солёные сливы и вишня в патоке – не выводятся, а когда он устраивает своему тестю, боярину Сукину, тезвины – ответное застолье, тогда на столе и сахарные головы, и лимоны, и романея, и мушкатель, и францовское...
На торг, в Китай-город, теперь он ездит лишь в сурожский ряд, где торгуют заморским товаром, и даже в иконный и книжный перестал ездить: всё теперь у него на заказ, всё как у бояр. По обычаю бояр вот и гостей потчует в горнице, а не в трапезной.
Василию тянуться за ним не под силу. Да он и не усердствует. Куда ему за ним, ежели у того – вона! – столешники камчатые, а для Василия рубаха из камки – роскошь. Нет, он тоже не беден и тоже позабыл уже, когда хлебал тюрю и пил худую бражку, но столешники у него пестрядинные и столовая утварь от гончара и медника, хотя, втемяшься ему этакая блажь, завёл бы и он себе серебро. Нашёл бы, с чего завести, наскрёб бы – не последний, право же, хрен без соли доедает! Жалованье у него немалое. На том жалованье он и двор держит в исправе, и дворню, и в конюшне у него пяток лошадей. А угощать с серебра ему некого: знатные гости к нему не хаживают. Брат и тот не больно щедр на проведывания. Разве что на Пасху да на именины пожалует. Вот и не тянется Василий к излишней роскоши, не лезет из кожи вон, не мается этой умычливой страстью, которая так крепко захватила Андрея, а главное – вот те крест! – ничуть не завидует братнину богатству. Знает он, откуда берётся оно. Захоти он, заставь, переломи себя – тот последний хрупкий стебелёк добродетели в своей душе, и к нему точно так же повалило бы богатство, как валит оно к Андрею. И никто бы не презрел, не осудил, и небеса не содрогнулись бы от его притворно-покаянных молитв и ложного благочестия: когда, в какие времена стяжательство и мздоимство считалось на Руси грехом, пороком?! Когда, в какие времена оно порицалось больше, чем блуд, скоморошество, непокорность?! Он и сам не порицает этого и потому не только не презирает Андрея, но, наоборот, гордится им, гордится, что у него такой брат. И любит его, и чтит, и во всём старается брать с него пример, да вот только одного не может – переломить тот последний стебелёк. Не может! Это единственное его достоинство, единственное и последнее, в чём он ещё не уронил себя, чем не очернил, не опоганил своей души. Это единственное, и последнее, что ещё помогает ему справляться с самим собой, помогает утихомиривать свою совесть, унимать свою мятущуюся душу. Вот и бережёт он этот стебелёк. Он ему – как соломинка утопающему.
– А что, Василей, буде, ты и прав? – выпроводив слуг и наливая в чарки араки, раздумчиво сказал Андрей. – Полошишься ты явно чрез меру, но рассуждаешь умно. Прямо на зависть! Того и гляди, стану ездить к тебе за сонетами.


![Книга Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного] автора Елена Арсеньева](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zheny-groznogo-carya-garem-ivana-groznogo-213715.jpg)





