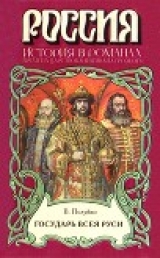
Текст книги "Государь всея Руси"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц)
Он понимал: если не начнёт действовать сейчас, без промедления, то уже не сделает этого никогда, и прощай его мечта о торжестве Гедиминовичей, – и это усиливало отчаянье, усугубляло ту болезненную слабость духа, которую он неожиданно обнаружил в самом себе и так же неожиданно осознал, что она была в нём всегда, эта предательская слабость, которую он всю жизнь скрывал под разными именами – то осторожности, то рассудочности, то хладнокровия, ни разу не решившись заглянуть в лицо правде. Теперь он это сделал, рассмотрел себя изнутри и назвал всё своими именами и ужаснулся – не столько оттого, что чуть было не ступил на путь, по которому не способен был идти, сколько оттого, что вся сознательная жизнь оказалась прожитой единственно для того, чтобы наконец осознать свою духовную слабость и неспособность к действию.
Жестокая эта правда о самом себе, казалось, сокрушила в нём всё, даже и то, не ложное, не мнимое, а действительно существовавшее в нём, что служило ему опорой повседневно – не в тайных и высоких целях его, а в обыденной, ни на мгновение не прекращающейся борьбе за существование, за то ничтожное и суетное, из которого и создаётся свой присный мирок каждого человека. Он начинал страшиться, что теперь даже в этой житейской толкотне ему может недостать сил сохранить хотя бы то, что уже было отвоёвано. А сохранить хотелось, и не потому только, что высокое и первостепенное, ради чего, как думалось всегда, он должен был жить и жил, отступало, разрушая всё то, что ставилось и ценилось им гораздо выше суетного и обыденного, добытого походя в сутолоке жизни, но и потому ещё, что он любил жизнь – не просто инстинктивно, с безумным упоением, а осмысленно, глубоко, ревниво, через любовь к самому себе, к этому своему заповедному «я», особенному и неповторимому, которое и было для него источником неиссякаемого разнообразия жизни.
Он любил жизнь, любил всё, чем дарила она его: славу, почести, роскошь – и хотел сохранить всё это. В его жизни сейчас рушилось только первостепенное, тот высший смысл, составлявший главную ценность его «я», который позволял ему считать себя выше всех прочих, кто так же, как и он, дрался за место под солнцем, за хлеб насущный, за славу, за почести... Но, присутствуя в его жизни незримо, это первостепенное так же незримо и рушилось, а жизнь оставалась. Оставалась её явственность, оставалась любовь к ней, любовь к своему «я», которое хоть и было сведено с прежней высоты, однако же не низвергнуто столь низко, чтоб не заявлять о себе. Правда, ничто уже не могло быть как прежде: слишком суров был приговор самому себе и слишком многое было разрушено в душе, и прежде всего та самовозрождающаяся сила, которая способна была в полной мере противостоять окружающему миру. Повергнутый в отчаянье от сознания своей слабости, он впервые с необычайной остротой ощутил ту первозданную пустоту, развёрнутую подо всем живым в этом мире, в которой каждый стремится найти для себя опору – найти, добыть, вырвать у других, завоевать, чтоб не погибнуть, чтоб выжить... ВЫЖИТЬ! И только сильные находят эту опору, только сильные выживают, а он был слаб, и понимал это, и боялся, что пустота поглотит его. Но это не был страх обречённого, скорей всего, это вообще был не страх. Это было смятение слабого человека, переоценившего свои силы, а может, и не слабого – просто переоценившего свои силы.
Да, в нём говорили растерянность и смятение, перешедшие в отчаянье, но не страх, потому что страх парализует не только волю, но и разум, он делает человека беспомощным, жалким, мечущимся, как затравленный зверь, а Мстиславский вовсе не был таким. Он оставался и теперь всё тем же Мстиславским, каким его всегда привыкли видеть, и разум его продолжал работать всё так же трезво, чётко, целеустремлённо. Он даже продолжал наблюдать за Иваном, как и прежде, пристально и ревниво, и улавливал в нём тоже какую-то странность, необычность, словно и в его душе совершалась какая-то мучительная борьба, лишавшая его уверенности, решительности... Вместо того чтобы действовать – решительно, твёрдо и открыто, не таясь, как таились вокруг него другие, как таился сам Мстиславский, – действовать с мечом в руках, как и подобало государю, считавшему себя правым в делах и задумах своих, он почему-то медлил, таился, выжидал. Мстиславский, обращая взор в собственную душу, понимал, что Иван тоже слаб и недостаточно смел. Его замыслы и намерения были куда смелей его личной смелости, и человеческое в нём было совсем не таким, каким было царское, но в нём была страсть, неведомая Мстиславскому, и эта страсть заменяла ему и духовную силу, и смелость, она была неукротима, яростна, неистова, но – странно! – не бездумна, не опрометчива. Какой-то тайной связью соединялась она с его разумом, и было жутко, когда они начинали действовать сообща.
Казалось, и теперь, в минуту надвигающейся опасности, из Ивана выметнется это всесокрушающее неистовство, возмездное и мстящее, жестокое и беспощадное, и только злой помин останется от всего, что сейчас обступило его. Но нет, не прорвало его душу это яростное неистовство. Удержал он его в себе. Усмирил. Может, удавил, сам страшась его опустошающей, мертвящей силы, а может, видел и знал, что теперь уже недостаточно одной только страсти, и не испугает, не сокрушит она его врагов, потому что уж слишком хорошо узнали они его и слишком много их было теперь... Слишком много! Нужна была надёжная и крепкая сила, чтоб одолеть их, а силы-то этой у него и не было. У него её не было и раньше, но тогда не он стоял в центре борьбы и не с ним дрались бояре за власть. Они дрались друг с другом, не обращая на него внимания, а он разумно и счастливо пользовался этим. Теперь в центре – он! Нет больше Оболенских, дерущихся за власть с Шуйскими, и Шуйских, вырывающих её у Бельских, теперь есть он – государь всея Руси, а вокруг, как войско при осаде, – они: Шуйские, Бельские, Ростовские, Оболенские и – всея Русь, потому что и она тоже не хотела поступаться своим вековечным, привычным, обжитым, и она не хотела идти за ним туда, куда он тащил её. Она ждала от него добродетели, благ, защиты, милости, а дождалась совсем иного... И если она въяве ещё молилась на него, то только оттого, что втайне уже начинала проклинать. И он, должно быть, чуял это, чуял своим неистовым сердцем, поднявшим его против всех и всего, и понимал, что дальше будет ещё трудней: ещё упорней будет сопротивление, ещё ожесточённей борьба – и кровь, кровь, кровь, от которой содрогнётся он и сам. И думал Мстиславский, наблюдая за Иваном, что он тоже отступится. Отступится, потому что одно дело – посадить в темницу своего первобоярина и вздёрнуть на виселицу какого-то дерзкого бунтовщика Ивашку Магренина, другое – схватиться со всем боярством, рубануть по суку, на котором держишься сам, а потом – встать лицом к лицу с сотней тысяч таких Ивашек, обездоленных, голодных, яростных, злобных, разуверившихся, и не накормить их, не облагодетельствовать, а таких же голодных и обездоленных повести за собой (не погнать – повести!) через новые беды и лишения к ещё большим бедам и лишениям.
Только безумец мог не отступиться перед таким! А Иван не был безумцем. Велика была сила его страсти, но разум был сильней. Он был самой большой его силой и самой большой слабостью, самым уязвимым его местом – и для других, и для него самого. И более всего – для него самого.
Разум, разум должен был остановить его. На это уповал Мстиславский. Ведь, не обдумав и не взвесив всё до ничтожнейших мелочей, он не решился бы на такой шаг, но тем более не мог он пойти на такое, когда б обдумал всё и увидел, на что идёт. Это был замкнутый круг, который не удалось разорвать Мстиславскому самому, и он думал, что бессилен будет сделать это и Иван. Он хотел этого, ждал, ждал с тем ублюдским чувством мстящего злорадства, за которое всегда презирал других и за что точно так же стал презирать себя, но победить, заглушить его в себе не мог – оно несло ему облегчение и – странно! – возрождало в нём угнетённый дух. Через презрение к самому себе, через ничтожнейшее чувство тайно ожидаемой радости – не за своё превосходство, а за чужое бессилие, – к нему возвращалось его прежнее, сокровенное, и он чувствовал, что ни от чего не отказался, ни от чего не отрёкся, не отступился, и всю жизнь, до самых последних своих дней, будет носить это в себе, и оно будет и его гордостью, и позором, и болью, и всю жизнь он будет врагом Ивана, бессильным, тайным, ничтожным, но – врагом, и всю жизнь, всегда будет ждать и тайно и зло радоваться всему, что низведёт того до него самого.
3
Когда Иван неожиданно для всех выпустил из темницы Бельского, Мстиславский, менее других удивившийся этому, но как нельзя лучше вдруг утвердившийся в своих мыслях, на следующий же день отправился к пожалованному опальнику, хотя совершенно не сознавал, зачем делал это. Что-то подталкивало его, какие-то чувства требовали выхода, и он впервые не стал сдерживать их. Когда он раздумывал над тем, каким будет первый шаг Иванового отступления, то всегда приходил к одному – к тому, что этим шагом будет освобождение Бельского. И вот это случилось, и он дал волю своим чувствам.
Правда, поначалу мелькнула было отрезвляющая мысль, что нет, не отступничество это и неспроста снял Иван цепи с первобоярина. Виделся тут и смысл и расчёт: первый боярин получал прощение и милость как раз тогда, когда все остальные – и вторые, и третьи, и пятые, и десятые – всё решительней и откровенней выказывали свою вражду. Но потом отступила и эта мысль – чувства окончательно возобладали в нём над разумом, и он отправился к Бельскому.
По дороге, едучи из Китай-города на Арбат, где находилось подворье Бельского, вспоминал он свои поездки к нему в тюрьму. Бельский сидел на берсеневском дворе, куда Иван по примеру своих родителей заточал самых знатных опальников. Сколько перебыло их здесь с тех пор, как великий князь Василий превратил в тюремный тын бывшее подворье казнённого им боярина Берсеня Беклемишева[89]89
...с тех пор, как великий князь Василий превратил в тюремный тын бывшее подворье казнённого им боярина Берсеня Беклемишева. — Берсень-Беклемишев Иван Никитич (?—1525), сын боярский, дипломат, член великокняжеской Думы при Иване III и Василии III. Был главой консервативной оппозиции при дворе, выступал против укрепления самодержавия. Казнён.
[Закрыть]! Сколько жизней было сгублено в этих мрачных застенках! Здесь нашли смерть два удельных князя, два родных брата Василия – Юрий Дмитровский и Андрей Старицкий. Здесь вдовствующая Елена, наущаемая своим фаворитом – князем Телепнёвым-Оболенским, уморила голодом родного дядюшку Михаила Глинского, здесь же, после её смерти, нашёл свой конец и сам Телепнёв. В малолетство Ивана бояре, дравшиеся между собой за власть, «вкидывали» сюда друг друга, и для многих из них мрак этого подземелья тоже сменился мраком могильным. Потом, повзрослев, эти застенки облюбовал и Иван...
Мстиславскому вспомнилось, как в свой первый приезд, спускаясь в тюремный подвал по замшелым, осклизлым ступеням, таким крутым, что, казалось, они сами затягивают идущего вниз, думал он, что, быть может, и его поджидает это страшное подземелье и что, может, некое предчувствие повлекло его сюда, чтобы мог он увидеть всё это воочию – и либо сознательно, загодя приготовиться к возможному испытанию, укрепив свою волю и дух, либо напрочь и навсегда отказаться от всего, что задумал.
Теперь, вспоминая об этом, он даже посмеялся в душе над собой, а тогда эта мысль крепко захватила его, и, должно быть, смятение и беспокойство так ясно отпечатались на его лице, что даже Бельскому бросилось в глаза. Мстиславский вспомнил, как тот, приглядевшись к нему в полумраке темницы, понимающе ухмыльнулся, потом нарочито позвякал сковывавшей его цепью и недвусмысленно спросил:
– Примериться пришёл?
В тот первый приезд они ни о чём особенном не говорили, и не то чтобы таились или выжидали, а так – не складывался разговор, не хватало ему чего-то... Какого-то толчка! Иван всё ещё был в походе, осаждал Полоцк, вести от него приходили скудные, да и не хотелось им говорить о нём. А другое – не шло. Поболтали о том о сём, как на скучных гостивствах, – и всё. Мстиславский так и уехал, почти убеждённый, что и вправду приезжал «примериться».
В другой раз он приехал, когда уже много чего совершилось: и Полоцк был взят, и царевич народился[90]90
...и Полоцк был взят, и царевич народился... — Полоцк был взят в феврале 1563 г., а 21 марта Иван Грозный узнал о рождении сына Василия, который прожил всего пять недель.
[Закрыть], голосили по этому случаю все московские звонницы, и чернь ликовала на улицах, а они, как и в прошлый раз, больше молчали. Но теперь уже потому, что каждый из них понимал, о чём будет разговор, и не решался или не хотел начинать его первым. И только когда Мстиславский, которому в конце концов надоело гнуться под низкими сводами темницы – сесть рядом с Бельским на грязную рогожу он так и не решился, хотя тот и приглашал его, признаваясь, что больше всего ему хочется здесь выпрямиться во весь рост, – только когда Мстиславский начал прощаться, досадуя в душе на себя за эти бессмысленные приезды сюда, Бельский сказал ему:
– Ты, княже, на мне крест не ставь.
Мстиславский помнил, как это было сказано: с укоризной, но больше с вызовом – горделивым, надменным, брошенным ему, Мстиславскому, его изрядству, благополучию, его осмотрительности, осторожности, благодаря которым он и сохранил это благополучие.
– ...Я знаю: он всё может. Но я не боюсь его! Он никогда не казнит меня! Тебя – також. Он пол-Москвы выказнит, а нас с тобой не тронет. Потому, княже, что злоба его николи же не осиливает в нём разума. Он лют, безжалостен, но более всего расчётлив. Вот что крепче всего будет беречь нас, княже, – расчётливость его. Сук, на котором держишься сам, не рубят! А мы с тобой, княже, и есть тот самый сук! Страсти, вожделения, цесарство, коим он надоумился ещё в наусие[91]91
Наусие – отрочество.
[Закрыть], захватили его так сильно, что ему недосуг стало управляться со своим государством, со своей всея Русью... Ему бы с самим собой управиться. Вон как треплют его страсти! На бел свет весь глаза распялил – повсюду волю и власть свою утвердить тщится! Казань, Асторохань... Теперь Ливония. До всея ли Руси ему?! Всея Русь ему в тягость. Однако разумеет, что без Руси ему ходу – на кутник лише... Мы, княже, тянем следом за ним сей богатый воз, из которого он берёт всё, что ему потребно. И он будет беречь нас! И иных не впряжёт, понеже иных он ненавидит пуще нас! Своим боярам, исконным, он люто не верит: больно уж выпутали они его во дни его хвори... Нас, княже, нас он будет держать впереди всех и никого выше нас не поднимет! И меня он выпустит, воротится – и выпустит! Узришь тогда! И у нас ещё будет возмога гораздо обо всём размыслить и всё гораздо обговорить.
Сейчас, подъезжая к подворью Бельского, Мстиславский думал о том, что, хотя во всех тех услышанных им рассуждениях Бельского и имеется некоторая доля правды, сам Бельский мало верит в это. И уж вовсе не верит в это он, Мстиславский, а если иногда и думает так же, то только оттого, что в своих расчётах должен всякое учитывать, дабы на чашу весов было положено всё без исключения. У Бельского же эти рассуждения – от страха перед Иваном. Он гонит тот страх от себя, потому и изобретает таковые мысли.
Осознание этого как-то сразу приблизило к нему Бельского, потому что и сам он боялся Ивана и никогда бы не принял, никогда не поставил бы рядом с собой человека, которому Иван не внушал бы страха. Такой человек был опасней труса.
4
Бельский встретил его поначалу радостно, даже слишком радостно. Мстиславскому показалось, что тот как будто ждал его. И действительно, ждал Бельский, ждал кого-нибудь – от царя. Не именно Мстиславского – кого-нибудь, но когда увидел Мстиславского, особенно обрадовался. Однако радость его была недолгой. Узнав, что Мстиславский приехал по своей воле, «на проведывание», он враз изменился, угрюмовато насупился, раздражённо сказал:
– Чаю, не на пир пришёл звать?
– Не на пир. Знаю: не до пиров тебе ныне.
– Знаешь?! А я вот не знаю. Ничего не знаю! – по-прежнему раздражённо, но теперь уже и с явственно проступившим отчаяньем сказал Бельский. – Покуда сидел на цепи, всё знал! А теперь – ничего! Не знаю даже, зачем он выпустил меня? Что он задумал?
– Что он может задумать? – Мстиславский и сам задумался, и вновь пришла к нему предостерегающая мысль, ещё более настойчивая, чем прежде, но рассудок не хотел принимать её, что-то в нём противилось ей – может быть, боязнь вот этого самого отчаянья, что рвалось из Бельского, и он опять отогнал её от себя. – Сдаётся мне, не задумал, а всё обдумал и отступился, – с лёгкостью заключил он, как будто поведение Ивана и вправду не стоило лишних раздумий. – Далее нету ему пути. Дошёл он до самого края, до последнего своего рубежа.
– Ну, князь Иван, не с твоим умом рассуждать так! Мы с тобой можем отступиться, но не он.
– И он також! – резко сказал Мстиславский. – Ибо все мы – люди. Ежели видишь и разумеешь, что стоишь на краю пропасти или что пред тобою стена, твердыня, кою не разрушить, не одолеть, – отступишься! Да и... сам же ты говорил, упомни, что он николи же не обрубит сук, на котором держится.
– Говорил, – раздосадованно согласился Бельский, недовольный тем, что и в самом деле говорил такое, а может, тем, что Мстиславский всё ещё помнил об этом. – Я говорил – не он. – Чувствовалось, что ему сейчас не хотелось ни вспоминать, ни говорить об этом. Но Мстиславский не отступался.
– Ты сам говорил и был уверен, что он выпустит тебя. Не зря же ты слова бросал, не суесловил? Ведь знал же, знал, что выпустит? И выпустил!
– Выпустил, да не так, како мнилось, – сказал угрюмо Бельский.
– А како ж тебе мнилось? Неужто ждал, что он поклонится тебе в ноги да испросит прощения?
– Ах, князь Иван, не узнаю я тебя! Будто подменили тебе голову. Раньше ты поперёд мысли шёл, а теперь вослед не поспеваешь. Не поклона я ждал... Схватки с ним. – Бельский на какое-то мгновение ободрился, голос его стал потвёрже. – Думал, станет он меня ломать – огнём, дыбой, изуверством... А я не сломаюсь, выстою, стерплю, не попрошу милости. Изготовился я к сей схватке. Думал, пусть узрит, каковы мы, пусть испробует нашу крепость и пусть ведает, на кого ополчился! Всё бы стерпел, на плаху пошёл, но не унизил бы перед ним души. И уж если б отсёк он мне голову, то так бы тому и быть. А не отсёк, то вышел бы я из темницы не помилованным опальником, как ныне, а победителем его!
Мстиславский пристально посмотрел на него, поверил: да, не унизил бы души и на плаху пошёл бы... Но, видел он, в Бельском всё ещё говорило прошлое: он так думал и так был настроен, сидя в темнице. Теперь он на свободе, а это не одно и то же!
– Нешто теперь ты унизишься перед ним? – спросил Мстиславский, хотя совершенно точно знал, что ответит Бельский.
– И теперь не унижусь! Токмо он-то об том ведать не будет. Выпустил он меня из темницы – и всё! Будто и не сидел я в ней вовсе. От него ни слова, ни полслова. Чаял, на очи позовёт иль пришлёт кого... – Голос, Бельского опять стал срывистым, неуверенным. – Уж другой день жду. – Он посмотрел на Мстиславского – беспомощно, с отчаяньем. – Что задумал он? И свобода ли мне? Буде, шутку какую дьявольскую намерился вышутить?
– Да свобода, свобода, князь. Не мечись! – сказал успокаивающе Мстиславский, а сам подумал: «Вон как тебя по свободе-то нудит. А туда же: не унижусь!» – И, поймав себя на этом ехидном намыслии, отчего на душе стало скверновато, потому что тем ехидством он зацепил и себя самого, серьёзно прибавил: – Не до шуток ему ныне. Вот оглядишься – поймёшь. Да и я скажу тебе: все супротив него, теперь уже всё! Чаша полна – по самый укром. Чуть колыхнёт – и всё! Что будет – не ведаю, но будет!
– Пошто же тогда меня выпустил?
– Не стало проку в твоём заключении.
– А какой прок в моём освобождении? Ещё одним супротивником у него стало больше.
– Ты и не был николи же его общником. В тюрьме иль на свободе – ты везде его супротивник. Так что счёт тебе он знает. И цену. Особенно цену! По сей цене он тебя и в темницу вкинул, по ней же нынче и освободил. Не разумеешь? А говоришь, мне голову подменили, – беззлобно выместился Мстиславский. – В темницу он тебя вкинул не столь по вине твоей, сколь по дородству. Сажая на цепь медведя, мнил, что и волки хвосты подожмут, – объяснил он. – Так точно и с князем Михайлой Воротынским. Какая у Воротынского такая уж вина перед ним?! Ну зубоскалили они с братцем своим над его басурманкой, ну кричали и негодовали на уложение... А кто не кричал, кто не негодовал? Все кричали, все негодовали, а в опале – Воротынский. Також медведь!
Мстиславский говорил убеждённо, напористо, даже с долей обычно не присущей ему самоуверенности. Увидев смятение Бельского, ещё недавно готового пойти на плаху, а теперь потерявшегося от неизвестности, в которой оставил его царь, выпустив на свободу, а может, и от самой свободы, в которую боялся поверить, Мстиславский теперь изо всех сил старался не выказать своей собственной смятенности, собственного разлада и надлома, совершившегося в его душе.
– К сему и Полоцк приложи, – продолжал он. – Размыслил, поди, он, что, добыв его, одним махом двух зайцев убьёт: на короля несказанного страху нагонит и к выгодному миру принудит, да и своим доскончально на хвост наступит. А ничего-то из его замыслов не вышло. Жигимонт хоть и напужался, а с миром, однако, не торопится, волочёт время, хана подымает... Со своих також оторопь сошла – в глаза противятся! А как ему теперь на своих-то ополчаться, коли ни с Жигимонтом, ни с Гиреем[92]92
Гирей – крымский хан Девлет-Гирей (с 1551 г.).
[Закрыть] не управился?! Им его распри на руку: прознают они об них, вовсе мириться не станут.
Долго ещё говорил Мстиславский, рассуждал, доказывал, убеждал и объяснял Бельскому, почему Иван выпустил его, и что он теперь будет делать, и как поведёт себя. Никогда ещё из него не изливалось такого обилия слов. Бельский особенно и не возражал ему, но Мстиславский всё равно говорил и говорил, доказывал, убеждал, поначалу не понимая, что убеждает не Бельского – себя, а когда понял, всё равно не мог остановиться, потому что во всём им сказанном не было ничего такого, что он принял бы сам, во что поверил бы – твёрдо, искренне, до конца, что стало бы его убеждением, а главное – вернуло бы ему прежнюю уверенность в самом себе и прежнее спокойствие, которого в нём теперь уже не было. И он говорил, говорил, говорил, боясь остановиться и оставить в себе всё так, как есть, не убедив себя, не успокоив, не возвратив в свою душу хотя бы долю прежней уверенности, без которой ему сейчас было особенно трудно.
Быть может, ему и удалось бы в чём-то убедить себя, сумей он убедить хотя бы Бельского – чужая вера заражает, – но Бельский не поддавался его доводам. Он слушал его, слушал терпеливо, а сам, видно было, думал о чём-то своём, должно быть, о том же, но по-своему, и когда в его мыслях что-то окончательно не сошлось, твёрдо заявил:
– Нет, князь Иван, не верю я в его отступничество, не верю! Не таков сей человек! Уйдёт он в монастырь, схиму примет – вот тогда поверю, да и то с опаской. А покуда он на престоле, покуда скипетр в его руках – не верю! Коварен он... В каждой своей мысли, в каждом поступке.
– Коварен, нешто я говорю нет? – согласился неохотно Мстиславский. Ему уже не хотелось больше ничего доказывать Бельскому, разговор начинал его тяготить, но окончательно согласиться с Бельским и поступиться перед ним своим мнением он не хотел, не мог – для него это было и зазорно и тягостно. Помолчав, он неуступчиво прибавил: – Да к коварству ещё и сила потребна. А где она у него, сила-то?
– А ты – разве не сила его? Или – я? Завтра призовёт он тебя иль меня да и повелит суд и расправу чинить над иными... Ты отречёшься, скажешь: суди паче меня?! Не скажешь, не отречёшься! И я не отрекусь! Буду судить супротивников его, я – супротивник его.
Бельский уныло вздохнул. Какая-то необычная, злая угнетённость и отчаянье, такое же злое, жестоко донимали его. Они истерзали его, исступили, надломили, но вместе с тем как-то вдруг, помимо его воли, освободили, очистили от той вживавшейся в него нарочитости, лжи и притворства, что были не только завесой, личиной, за которой он скрывал своё истинное лицо, свою сущность, но и чем-то большим – частью, самостоятельной и властной частью самой его сущности. И связь, соединявшая в нём истинное и ложное, была так прочна, а само это ложное, притворное было так властно и сильно, что он, пожалуй, и на плаху пошёл бы с ним, и умер, не отторгнув его от себя и не обнажив своей сути. Теперь же вдруг легко и свободно, совсем без усилия воли всё его притворство и нарочитость сошли с него, и он даже не заметил этого, не почувствовал, а всё потому, что, должно быть, впервые в жизни ему не нужна была ложь для самого себя. Он машинально отстранился от неё как от чего-то ещё более угнетающего и мучительного.
– ...И они також будут судить нас, ежели он им повелит. Будут, княже! И не потому вовсе, что мы иль они так уж духом слабы. Не потому вовсе, – уныло протянул Бельский и замолчал, словно был уверен, что Мстиславский знает, что он имеет в виду и ему нет нужды продолжать. Но когда Мстиславский отмолчался и не спросил его, будто и вправду знал, что он имел в виду, или, быть может, наоборот, – не хотел знать, Бельский после недолгого молчания, по-прежнему уныло и равнодушно, лишь, может, чуть с большей долей рассудочности высказался: – Мы все супротивники его, но все на свой лад, со своими особыми чаяниями, задумами... Как речётся: у всякого Моисея своя затея. Оттого-то и будет, как я реку: мы будем судить их – ради наших замыслов, а они нас – ради своих.
Он опять замолчал, ожидая, должно быть, что Мстиславский всё-таки что-нибудь скажет ему, но тот не отвечал, и Бельский с неожиданной резкостью, в которой, впрочем, было опять же одно отчаянье, продолжил:
– А он един в своей супротиве и потому сильней нас всех!
– Сидя в темнице, ты думал иначе, – неохотно сказал Мстиславский, сказал без укора, но то ли с сожалением, то ли с удивлением.
– Нет, не иначе, – резко возразил Бельский. – Тако ж думал! Токмо, сидя в темнице, да и того прежде, себя самого мнил сильней. А нынче раздумался, вижу: нету во мне той мнившейся силы, нету! Что я могу? Стерпеть муки, пойти на плаху? Могу! Да ве́ди не в мучениках его стремлюсь я быти – в победителях!
– А в победу над ним не веришь?!
– Не верю. Разуверился... За сии вот два дня, что сижу тут у себя в горнице.
– Ужли свобода тебя обольщает, князь? – осторожно предположил Мстиславский.
– Тебя же она не обольщает, – просто, без язвительности ответил Бельский. – Ты же веришь!
– Тебя послушать – никакой веры не хватит.
– А ты не слушай... Не слушай, князь Иван! – с неожиданной просящей горечью воскликнул Бельский. – Во мне нынче мысли дурные, калеченые, и сам я, видишь, також какой-то дурной, как заповетренный[93]93
Заповетренный – зачумлённый, заразный.
[Закрыть]. Заразишься от меня! А тебе нельзя заразиться, нельзя разувериться! Токмо ты, князь Иван, ты, с твоим умом, с твоим терпением, с твоей трезвостью и можешь одолеть его. А мы – нет! Мы не сможем! За сии два дня, сидя тут в горнице, уразумел я: мы не одолеем его – ума не хватит! Силы ещё, буде, и хватило бы, собрались бы с силами, а ума не хватит!
– Порешил отступиться? – спокойно спросил Мстиславский.
– Не пытай меня про сие, князь Иван, – с надрывом выговорил Бельский. – Не пытай! Я скажу тебе нет, а после отступлюсь, и ты станешь ненавидеть меня, как ненавидел тебя я... Сознаюсь, ненавидел! Ох, как люто ненавидел за твою осторожность, за выжидание... Я знал, что ты не с ним, знал, что в твоей душе великая протива на него, но осторожность твоя бесила меня. Не разумел я её, не принимал! А теперь вижу, разумею: прав ты! Так с ним надобно, токмо так! В открытом бою его не одолеть, его надобно бить в спину. И никто лучше тебя сего сделать не сможет, да и кроме тебя. Был ещё Курбский, но, сам ведаешь, он теперь у него под великим подозрением. Сидя в Дерпте, Курбский ничего не сможет сделать, разве что сбежать в Литву. Ты же – вне всяких подозрений. За всё время своей службы ты не дал ему ни единого повода... Правда, навещал меня в темнице, да вот нынешний приезд... Хотя, мню, не так уж сие и худо! Сие в твою пользу, в твоё оправдание. Ве́ди ясно: будь ты моим общником, не посмел бы ты так открыто встречаться со мной.
– Я и вправду не твой общник, – усмехнулся Мстиславский.
– Да уж вправду, вправду, – огорчённо покачал головой Бельский, соглашаясь не столько с Мстиславским, сколько с самим собой. – Ему на пользу, нам во вред. Хотя кому-кому, а нам, Гедиминовичам, никак не пристало быть порознь. Раз уж не похотели мы быть под пятой у Елениного выблядка, надобно было нам совокупляться в крепкую дружбу. А так что?.. Нося в душе единое, мы были порознь, как враги. Да мы и были чуть ли не враги. Я лез на рожон, а ты таился, не открывал себя, держался подле него... Я был в опале, а ты в почестях! Ты теперь и вовсе можешь отступиться, не роняя своей чести, понеже никто не ведает тайн твоей души, а я и отступиться не могу. Мне отступаться токмо через унижение, через гоньбу. Но я не стану лобызать его сапог! Я – Гедиминович и им останусь! Однако, что он учинит со мной – не вем. Посему... хочу я поведать тебе, князь Иван... Ты должен сие знать... Ненависть к нему велит мне открыться тебе.
Бельский пристально посмотрел на Мстиславского и вдруг побледнел: должно быть, увидел в его глазах что-то такое, что именно сейчас не ожидал увидеть. У него даже дыхание перехватило – как от боли или страха, и стало видно, как велико его недоверие к Мстиславскому. Но он превозмог себя и решился.
– Ты должен знать сие, – повторил он ещё раз, уже совсем твёрдо, но так, как будто оправдывался перед Мстиславским. – Схватишься ты с ним иль не схватишься – то уж как Бог и душа твоя тебя подвигнут... Токмо знай, чтоб не обольщался впредь его простотой и неведеньем... Знай, что и князь Михайло Воротынский со мной в сговоре был. А ещё ранее и князь Курлятев. А всех нас сговорил князь Дмитрий... Вишневецкий.
– Вишневецкий?! – ещё не совсем веря в это, поражение переспросил Мстиславский. – Что же ему-то восставать? Ужли не сам он притёк к нему службы и чести искать?
– Лукав казак! – кривовато усмехнулся Бельский. – Коли ему тут вольготья не стало, отписал он королю тайно, что отъехал на Русь не изменным обычаем, а умыслом, чтоб-деи выведать справы московские и тем «годне» послужить Речи Посполитой[94]94
Речь Посполитая – официальное название объединённого польско-литовского государства со времени Люблинской унии 1569 г. до 1795 г.
[Закрыть]. Тогда ж тайно и получил он от короля опасную грамоту[95]95
Опасная грамота – гарантирующая безопасность.
[Закрыть]. Прощал его король и призывал назад. Два года уж тому, как всё сие сотворилось. В те поры и сговорился князь Димитрий со мной, с Курлятевым да с Воротынским. Тщился он не словом, а делом послужить Речи Посполитой, посему намерился и нас узвать к королю. Воротынский поначалу воспротивился, даже пригрозился царю донести. Горяч воевода! Мы с князем Курлятевым от той его горячности совсем уж намерились бежать, да впопыхах и попались. Тут воевода и притих. Должно быть, думал, что мы, себя спасая, его оговорим. Но мы с Курлятевым во всех винах себя выставляли. Он и уверился в нас. А коли уложение о вотчинах вышло, по которому князь Михайло с братцем своим Олександром вконец лишились выморочного жеребья[96]96
Выморочный жеребий – доля, принадлежавшая совладетелю удела, умершему без прямых наследников.
[Закрыть] в уделе своём родовом, он сам, по своей воле, пришёл к нам. Вреда никакого чинить не хотел, но отъехать в Литву был готов. Вишневецкий испросил у короля опасную грамоту и для него, да не успел воевода её дождаться – нашла на него опала. Заподозрил что-то наш благоверный... Чутьё у него волчье – вынюхал! А ты говоришь – зубоскалил над басурманкой. Покуда токмо зубоскалил да негодовал на уложение, он не трогал его, а как потянуло от князя истинной зрадой, так сразу и учуял он её.


![Книга Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного] автора Елена Арсеньева](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zheny-groznogo-carya-garem-ivana-groznogo-213715.jpg)





