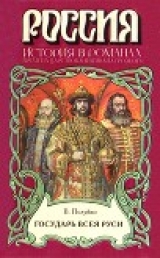
Текст книги "Государь всея Руси"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 35 страниц)
2
В Посольском приказе составляли грамоту к шведскому королю. Дело это было не столь уж хлопотным, но тонким и ответственным, требовавшим и особых навыков, и большого усердия, внимания, ведь какая-нибудь случайная, незамеченная описка могла привести к самым неожиданным и неприятным последствиям. Не допускались никакие помарки – ни исправления, ни зачёркивания, ни добавления, поэтому тщательно выписывалась каждая буква, каждое слово, особенно – царский титул, который обводили золотыми обкружьями, наподобие нимбов, знаменуя божественную природу носителя титула. Писали сперва на русском, потом на латинском, сперва начерно, а потом уж набело – творёным золотом, ибо простые чернила из сажи, размешанной на вине или – ещё проще – на слюне, с прибавкой камеди, квасного сусла и дубовых чернильных орешков, которыми писались грамоты во всё Российское царство, здесь не годились.
Три дня кряду корпели над грамотой писцы, толмачи, знамёнщики...[157]157
Знаменшики – специальные художники, изукрашивавшие, оформлявшие грамоты.
[Закрыть]
Дьяк Висковатый, руководивший и наблюдавший за работой, был сумрачен, задумчив. Грамота каждым своим словом вновь и вновь возвращала его к мысли о царе, о размолвке с ним, и от этих мыслей на душе у него было недобро, смутно, тягостно. Не шли из головы слова Ивана: «Ты возомнил своей низкой душой, что тебе уже всё дозволено!» Мрачные, грозные слова. Они сразу, лишь произнёс их Иван, вонзились ему в мозг, подобно остроге, и сейчас все его мысли, как в каком-то изнурительном водовороте, беспрестанно вращались и вращались вокруг них. Вчитывался ли он в текст грамоты, выправляя черновики, или думал о том, как поискусней выведать у шведских посланников нужные сведения, а в голове исступляюще билось: «Ты возомнил!.. Возомнил своей низкой душой!.. Возомнил! Возомнил!»
У них и раньше случались стычки. Схватывались они с ним, когда он выступал против его ласкателей и шептунов, источавших свою злую наветь, схватывались, когда заступался за опальных, стараясь умерить его гнев, схватывались, когда отстаивал перед ним своё мнение или когда отваживался, как сейчас, давать советы, каких никто не отваживался давать, но никогда, в какую бы ярость ни приходил из-за этого Иван и какой бы жестокой карой ни грозился, – никогда ещё он не говорил ему ничего подобного. И тот гнев, что он обрушивал на него, всегда был только гневом души, – теперь же в царских словах устрашающе прозвучал и гнев его разума. Теперь он думал так, был убеждён, уверен в своём мнении, и эта уверенность, убеждённость приобретала силу закона – одного из тех непреложных, сугубых законов его души и разума, по которым он судил всех и вся.
Но не это было самым страшным. Висковатый понимал, что отныне любое его прекословие, любая попытка что-то защитить или отстоять будет расцениваться Иваном предвзято, и его уничтожающие слова: «Ты возомнил своей низкой душой!..» – будут отныне приговором любой его самостоятельности, приговором неотменимым, окончательным, который в любое время может быть приведён в исполнение.
И думал Висковатый: неужто теперь остаётся лишь одно – раболепствовать, пресмыкаться? Неужто разум, достоинство, совесть, добро, благочестие теперь опасны для него? Неужто для того, чтобы выжить, уцелеть, сохранить своё благополучие, нужно затворить душу, разум, закрыть глаза, заткнуть уши и затаиться в этой своей глухомани, боясь даже самого себя, своих мыслей, своих чувств? И допрашивал себя, как на пытке: сможет ли он так жить? Сможет ли? Сможет ли? Но скорый ответ не шёл к нему, а мысли уводили всё дальше и дальше. И думал он, что, должно быть, уж и так зря прожил свою жизнь, всецело отдав её этому человеку, и зря боготворил его, и зря верил в его высокий ум. Не было в нём высоты. Истинно высокий ум не жаждет раболепия, оно чуждо ему, ибо истинный ум знает свою силу и свою слабость, знает и свои пределы. Царь Иван не знал ни своей силы, ни слабости, ни пределов, казалось, он не знал и самого главного – того, что раболепие, угодничество, насаждаемые им, растлят и его.
Думал, думал Висковатый, и огорчался своим мыслям, и отвергал их, усомняясь в том, к чему они его приводили, и только одно было совершенно ясно для него – больше в их отношениях с царём не будет мира.
Настроение Висковатого передалось и приказным: все работали как-то уж на редкость сосредоточенно, молчаливо, и даже в редкие перерывы, дозволяемые Висковатым, старались не распускать языки, и уж тем более не лезли ни с какими разговорами к самому дьяку: знали, откуда он принёс свою сумрачность, и потому старались не беспокоить его. Лишь однажды один из подьячих, ездивший с Висковатым в составе посольства в Данию, не выдержал и, желая хоть ненадолго отвлечь его от тяжких дум, заговорил с ним:
– А я, батюшка, Иван Михалыч, всё Дацкую землю-то вспоминаю... Како ездили мы в неё посольство-то править. Что за земля?! Причудливая!
Висковатый не ответил, а подьячий с привздохом продолжал:
– А городы какие там! Особливо же стольный град, иде король их дацкой дворует.
– Да нешто Москвы нашей лучше? – спросил кто-то из писцов.
– Скажешь ещё, лучше! До нас им далече! У них и король плюгав!
– Да будет! Видал ты нешто того короля?!
– Не видал... Да каковому-то ещё ему быть?! Лютеранин же он! Вон и Иван Михалыч посвидетельствует... Он-то уж видал.
Висковатый опять отмолчался, а подьячий, приняв его молчание за поддержку, и вовсе пустился во вся тяжкая:
– И люди там – мелкота! Сухопары, не тельны – кряду одна мелузга. И всё больше пеши ходят. А в стольном граде в самом, подле двора королевского, – лес листвяной. А в лесе том – просеки прорубаны, и по тех просеках бабы нагие на подставах стоят... Для утехи глаз.
– Да ну? – изумился всё тот же писец. – И не зябнут?!
– А чего им зябнуть? Вот дурень! Каменные они.
...Третьего дня, к полудню, когда грамоту уже дописывали набело, явился в приказ дворцовый стряпчий и объявил Висковатому:
– Воутри, чем свет, поедет государь на прохладу свою на царскую, в село своё в Черкизово. Велел государь там осеки сечь и медведей пущать для своей прохлады. А поедут с ним царевичи, и вся челядь царская, и бояре его ближние, и окольничие, и иной чин, которому ехать достойно, и тебе, дьяк Иван Михайлов, ехать велено. А что грамоту к свейскому доглядеть, так велел государь сказать, чтоб дьяк Андрей Васильев доглядел вместо тебя.
– Грамота уж к концу дописывается. Нынче и печати привесим, – отозвался Андрей Васильев, второй посольский дьяк, напарник Висковатого.
– Знатно, запамятовал государь, что, опричь грамоты, есть у меня ещё вельми важное дело, им самим мне порученное, – сказал удручённо Висковатый. – Исполнить его надобно не мешкая, а как исполнишь, по прохладам-то ездючи? – Он помолчал, поразмыслил. – Тако и скажи государю: дьяк-деи Иван Михайлов ответствовал, что дела важного ради, ему, государю, ведомого, не может он ехать на прохладу и челом бьёт смиловаться, не гневаться на него.
– Повсегда ты, Иван Михайлов, чупясишься! – не утаил неприязни посыльный. – Да всё тебе сходит, однако, с рук. Должно быть, и вправду ты счаровал царя.
– Ступай, братец, – невозмутимо, с высоким достоинством пресёк его Висковатый. – Ты мешаешь нашему делу. А сию безлепицу тут никто от тебя не слышал.
Когда посыльный ушёл, Андрей Васильев дружески полуобнял Висковатого и, уведя его подальше от чутких ушей приказных, тихо заговорил:
– Пошто ты так, Иван Михалыч? Ве́ди и вправду разгневается государь. Худо будет!
– Нешто я впервой отказываюсь от прохлад и пиров? – резковато сказал Висковатый.[158]158
Прохлада – забава, развлечение.
[Закрыть]
– Не впервой – верно. Токмо нынче-то... Третий день приглядываюсь к тебе – николи же ты ещё таким не был. Чую, опять вы с ним схватились и, чую, теперь уж до края дошли. Не оттого ли и отказ твой? Дело, разумеется, у тебя есть, но в нём ли едином причина?
– Не уразумею – не то допытываешь ты меня, не то изобличаешь?
– Тщусь понять, Иван Михалыч...
– Да нешто ещё не понял? Не первый год мы с тобой в товарищах, не один пуд соли, как молвится, съели.
– То верно... Вот и скажи мне, как товарищу скажи, от самого сердца: что нам-то делить с государем? Нам-то, Иван Михалыч... Задумайся: нам! Эвон какая гроза заходит! Гляди, что вельможные зачинают! И мы туда же... И нам дай свой норов показать, дай в свой колокол звякнуть! Он нас подымал, чтоб мы делу его служили – прямо и доброхотно, и чаял иметь нас во всём опорой... А мы? Не успели шубу тафтяную справить, а уж туда же, следком за вельможными, – в противу. А ну одолеют они его, что с нами-то станется? Какой ветр разметёт наш прах?
– Какой ветр разметёт наш прах? – Висковатый тягостно вздохнул. – Сего я не знаю и не думаю про сие... Я не страшусь обратиться в прах. Я страшусь жить, как не подобает человеку.
– Наша протива ему – нешто подоба?
– Да говори уж – моя... Пошто щадишь меня?!
– Нет, Иван Михалыч... Я своей души от тебя не отвратил и товарищества с тобой не отрёкся. Даст Бог, и не отрекусь! Так что наша, наша протива, Иван Михалыч. Да и не токмо наша – наша с тобой сугубая... Я и про иных говорю. Казначей Никита Фуников – також носом крутит.
– Не протива сие... – Висковатый помедлил, собираясь с мыслями, и совсем уже твёрдо прибавил: – Не протива. Ты вот говоришь: он нас подымал, чтоб мы делу его служили. А нешто кто-то из нас – я, ты, Фуников – не радеть стал в делах? Нешто мы приустали в рвении? Нет, не приустали, и хочется служить ещё ревностней. Но – служить, а не прислуживать, дело делать, а не поклоны бить. Разумеешь, делать то, к чему он нас призвал, ради чего и поднял. Нынче же всё клонится к тому, что нам вскорости останется лише одно, как и было извечно, – бить поклоны и раболепствовать, понеже... призвать-то он нас призвал, поднять поднял, а принять нас такими, какими сам же хотел, чтоб мы были и какие мы есть, – не может! Вот тебе и сказ мой, – заключил он тяжело. – Делить нам с ним, истинно, нечего, а за что стоять – есть!
Висковатый смолк, но по его неспокойному дыханию чувствовалось, что он не выговорился, и, подождав немного, не скажет ли что-нибудь Васильев, и даже как будто обрадовавшись, что тот не сказал ничего, снова заговорил:
– Мы не должны допустить, чтоб он снова обратил нас в безликих рабов, и сами, добровольно – из-за страха ли, из корысти – не должны становиться ими. Ради него же самого, ради дела, которое он почал и к которому мы своим разумом и своей совестью причастны. А також ещё и потому, что в нашем лице впервые дозволено думать рабам, думать наравне с вельможными, а то и мимо них. И мы должны доказать, что можем служить отечеству не токмо горбом, но и разумом. Допрежь всего себе доказать! Ежели ж мы станем ему рабами, ежели затворим свои души, свой разум, ежели удавим свою совесть – мы будем хуже изменников, ибо такие мы не потребны ему и вредны отечеству.
– А сам-то он неужто не разумеет сего? – сказал Васильев не столько с удивлением, сколько с горечью и, подумав, убеждённо прибавил: – Не может не разуметь. Не подымал бы он нас, а так уж и оставил бы рабами, коль ему рабы-то потребны.
– Разумеет и он, – уныло вздохнул Висковатый. – Всё он разумеет. Токмо разум его... Он будто по малой части от многих и разных людей собран и совокуплён в нём, и как многие разные люди николи же не бывают в едином согласии, так и разум его... Всё в нём разлад, противуречия, мятеж. За что нынче воздаёт, за то завтра опалы жди, что нынче прославляет, то завтра хулит, и наоборот. И как супротив сего стоять – не ведаю, а стоять надобно.
– А и устоим ли? Многие ли устоят? Сам-то ты устоишь? – прямо, но мягко спросил Васильев.
– Не знаю.
– Вот! Коли ты уж не знаешь, что же про меня говорить?! Я и в добрые-то времена ему слова поперёк сказать не смел, а нынче так и подавно. Суди меня, Иван Михалыч, презирай, а я сразу сознаюсь тебе: не гожусь я для такового... Не гожусь, Иван Михалыч! Не та во мне душа.
– Никто из нас не может быть другому судьёй. Судьёй нам будет Всевышний да совесть наша.
3
Глубокой ранью, задолго до рассвета, тяжёлый, настойчивый стук в ворота побудил на подворье у Висковатого всю челядь. Всполошился дворовый люд, да и как не всполошиться: хозяин их был слишком высок, чтоб его почём зря тревожили среди ночи. Стало быть, нужда в нём великая, раз тревожат, – не иначе! Стряслось что-то! А может, беда пришла? Она чаще всего и является в такую пору. Хозяин их высок, а гроза-то, известно, и бьёт по высокому дереву. Сколько уже таких гроз пронеслось – кто на Москве не знает об этом?! И кто не знает, что эта гроза, ударив в дерево, часто губит с ним вместе и то, что окружает его. Разразись над дьяком гроза, и челядных его ждала бы такая же участь, – вот и всполошились они, охватила их тревога.
К воротам вышел дьяческий сенной. Воротился почти бегом, торопливо вынул из светца лучину, пошёл наверх – в горницу. На пороге столкнулся с самим дьяком.
– Батюшка, Иван Михалыч, пробудился и ты?! – сказал он с тревожной задышкой. – Царский посланец у ворот, батюшка... Ох, свирепое грохотание учинил! Велит впустить на подворье.
– Впусти. Скажи, сейчас выйду.
– Гораздо, батюшка... Как велишь! – Сенной чуть помедлил, скорбно заглянул Висковатому в глаза, тихо спросил: – Беда, батюшка?
– Не тревожься. И иных уйми. Сию беду мы дальше крыльца не пустим.
Висковатый оделся, вышел на крыльцо. Сенной светил ему фонарём. У крыльца Висковатого ждал всё тот же дворцовый стряпчий, который намедни приезжал к нему в приказ.
– Ну, Иван Михайлов, любит же тебя государь! – воскликнул он с нарочитой простоватостью. – Нe хочет ехать без тебя на прохладу. Велит быть непременно к рассвету в Кремле, во всём пригодном убранстве, да велит никоторыми делами не отговариваться и хворым не сказываться – и быть непременно.
Нечего делать, собрался Висковатый, поехал. Ослушаться царя теперь, после второй присылки, – значило бросить ему явный вызов, выказать не что иное, как враждебность, которой, конечно, в Висковатом не было и быть не могло, но подумалось ему, что, быть может, Иван как раз и ждал его отказа и, чтоб проверить свои подозрения, нарочно выдумал всю эту затею. Что Иван был способен на такое – Висковатый знал. Царь был изрядный лицедей. Правда, слишком уж просто действовал он, если на самом деле всё было так, как думалось Висковатому, и это-то больше всего и смущало дьяка. Иван был изощрённо лукав – это тоже знал Висковатый, – и уж если бы действительно задался целью выявить в нём враждебность, то избрал бы для этого иные пути и иные способы – более потаённые и более надёжные. Сейчас же всё скорее напоминало бросание жребия: выпадет загаданное – враг, выпадет противоположное – не враг. Нет, Иван так действовать не мог! Но окончательно от этой мысли Висковатый всё-таки не отказался; вопреки всему она могла оказаться верной.
...По дороге в Кремль Висковатый заехал ещё к Васильеву – предупредить, чтобы не призывали нынче шведских посланников для вручения им ответной грамоты, как о том было объявлено накануне.
Висковатый хотел непременно сам вручить грамоту, рассчитывая при этом поговорить напоследок со шведами. Правда, это было не в обычае – говорить с послами о деле при вручении грамоты, но при великом желании и умении всегда можно было придумать, как вызвать послов на разговор, не нарушая прямо заведённого правила. Висковатому этого умения было не занимать.
– Ворочусь – я ещё разговорю их, – сказал он Васильеву. – Проведу по лукавой тропке. Авось оступятся! Да и ты своё дело сверши. Поезжай нынче к ним, благо повод есть... С гостинцами поезжай! Угощай щедро, да и сам угощайся, чтоб с виду изрядно хмелен был. Панибратствуй! И в том хмельном панибратстве проговорись, что-деи прозябло слово, дошли-деи слухи до государя нашего, будто дацкой завраждовал вельми с государем их и войну на него собирает, да и скажи, будто думает государь наш, как пособить брату своему королю Ирику. Не скажи, упаси Боже, пособить на дацкого! – особенно остерёг Висковатый Васильева. – На дацкого – никак не скажи! Пособить – и всё! И когда скажешь так, то добре бди и добре слушай, сквозь любой хмель слушай, что они тебе на то говорить учнут. Буде скажут, что слух пустой, и с упрёком скажут, – одно рассуждение имей... Скажут небрежно – иначе рассуждай и, теми рассуждениями надоумясь, посмотри, како тебе далее с ними говорю править. Да гляди в оба, где истинное небрежение будет, а где нарочитое. А буде скажут, которая государю нашему кручина, скажи, кручины никоторой, а государь наш, ведая молодость государя их и помня свою молодость, хочет ему на его молодости добра. Ну да во всём я тебя не наставлю, – заключил Висковатый. – Сам голову на плечах имеешь. Вызнать надобно поверней, к чему у них с дацким клонится. Ежели клонится к войне, в чём я почти уверен, то послы близко к сердцу примут твои слова. Гляди, заговорят даже о том, чтоб передать их королю. На такое ответствуй, что меж государей всякое дело ведётся не по словам дьяков или вельмож, а по их собственным, государевым, грамотам, а сверх грамоты что говорить?
– Сумею я всё, Иван Михалыч, будь покоен. Да токмо ли в моём умении всё дело?! Они ве́ди також в темя не колочены. А ну как ничего не выйдет из нашей затеи?
– Не выйдет, тогда и горевать будем, – ободрил Висковатый Васильева. – Авось и выйдет! Ты их задери, а уж ретиться[159]159
Ретиться – соревноваться.
[Закрыть] с ними в лукавстве буду я.
Провожая Висковатого с подворья, Васильев с тревожной участливостью спросил:
– Что душа-то хоть чует, Иван Михалыч? Неспроста ве́ди он так с тобой!
– Душа уж ничего не чует, – невесело пошутил Висковатый.
– Разумею, – сочувственно привздохнул Васильев. – Я нынче, поди, полночи не спал, всё об нашей с тобой гово́ре думал... А и тоже душа будто льдом взялась, как представил мысленным взором, куда нас судьба-то затиснула, меж каких жерновов! С одного боку – вельможные, с другого – он! И ну как завертятся они на полную силу, что-то будет?!
– Мука будет, – холодно обронил Висковатый и, перекинув поводья, сел в седло. – Знаю, что дальше ты скажешь, Андрей Васильевич. Скажешь, что мы – зернинка и паче не лезть нам меж те жернова.
– Да, Иван Михалыч. Перемелют они нас, перетрут... Без жали, без пощады. Бо мы, истинно, – зернинка! – Васильев сказал это так, как будто оправдывался перед Висковатым или винился. Глаза его, встретившись с глазами Висковатого, не дрогнули, не ускользнули в сторону – он выдержал прямой, жёсткий взгляд Висковатого, но чувствовалось, что далось ему это нелегко. Висковатый заметил это и, должно быть, понял состояние его души, потому что неожиданно сказал резко, с сердцем, но так, как можно сказать только человеку близкому:
– Мнишь, я не разумею сего и мысли таковые неведомы мне? Мнишь, мне не жаль своей головы? Да, я сказал тебе, что не боюсь обратиться в прах. Однако и на костёр не жажду взойти в безрассудном, пусть и высоком, порыве. Тако идут на костёр лише блаженные. Им мнится, блаженным, что мученичество – сё самая великая добродетель и самый великий подвиг, и они так уж и ищут свой костёр, не помышляя более ни о чём. Но прах, даже святой, – сё токмо прах! Я же жажду иного... И подвигнусь к тому всею силой своей. А буде отступлюсь и погублю душу тела ради, то не прежде, чем палач подымет надо мной топор. Ежели я отступлюсь, то токмо перед неизбежным, а не перед мыслью о нём. Ты же отступаешь перед одной лише мыслью. Но я тебе не судья, Андрей Васильевич...
– Поезжай, Иван Михалыч... Поезжай! – потупляясь, сказал Васильев. – Не растравляй мне души. И дай Бог тебе выстоять! Глядишь, и мы за твоей спиной постойче будем.
4
К Кремлю Висковатый подъехал, когда уже почти совсем рассвело. Высокое небо словно прикрыло нависавшую над землёй темень, и лёгкая, ещё до конца не отстоявшаяся прозрачность уже начала плавно, как потревоженная гладь воды, расходиться во все стороны широкими, сливающимися друг с другом кругами и заполнять всё окрест. Только как тонкая, еле видимая пыль или изморось, ещё продолжали сеяться сквозь эту прозрачность последние частички недавней темени, просочившиеся через рыхлую толщу неба. Но вот вдали за Соколиными борами вдруг полыхнуло – буйно, взвихристо, – и тотчас взметнулись вверх по гладкой крутизне небосвода стремительные потоки огня и света. Они мгновенно заполнили до краёв глубокую изложницу неба и застыли в ней радужно-ярким сплавом. Разлившаяся над землёй прозрачность стала блестяще-чистой, как стекло. Всходило солнце.
Висковатый, направившийся к Фроловским воротам, вдруг совсем бессознательно приостановил коня на горбине моста, перекинутого через ров, и засмотрелся на поднимающееся солнце. Редко ему доводилось встречать восход, так редко, что он, пожалуй, и вспомнить сейчас не смог бы, когда это было в последний раз – два, три года назад или все пять? Только он и не пытался вспоминать, и вообще не думал сейчас ни о чём. На какое-то мгновение из него исчезли не только мысли, но как будто и сама жизнь. Он утратил ощущение самого себя, словно и небо, и солнце, и эта сверкающая радужными переливами прозрачность на мгновение вобрали его в себя, слили с собой, лишив плоти, чувств, мыслей... Это не было освобождением или очищением, – этот ничтожнейший миг отчаянного, слепого порыва его естества на какой-то могучий, таинственный зов, не ведомый уже ни его разуму, ни чувствам, но почему-то ещё властвующий над ним, был лишь спасительной передышкой. И когда этот миг прошёл, когда к нему вновь вернулась способность чувствовать и мыслить, он ощущал не возрождённость, не облегчение, а что-то подобное беспричинному восторгу, которому в любое другое время устыдился бы в себе, а теперь даже и не почувствовал стыда.
Спустившись с моста, уже перед самыми воротами стрельницы Висковатый вновь оглянулся на солнце, теперь уже тревожно и суеверно, чувствуя на себе какую-то волнующую, притягивающую силу его, которая и страшила, и в то же время как бы звала, суля защиту и поддержку. Оглянулся – и успокоился, будто и вправду заручился поддержкой этой волшебной силы.
Нищие, никогда не переводившиеся у кремлёвских ворот, низко поклонились ему, но приставать не посмели. Один из них, узнав Висковатого, подобострастно сказал:
– На солностав любуешься, батюшка Иван Михайлович?! Яро, яро нынче Божье светило! На таковую ярость да с серебра умыться – враз молодцом обернёшься! – И потише, с горечью прибавил – для себя самого, ибо Висковатый уже проехал мимо: – Да иде того серебра взяти?!
Проехав стрельницу, Висковатый направил коня к Дворцовой площади и почти тут же увидел едущих навстречу царских рынд[160]160
...увидел едущих навстречу царских рынд... – Рында – здесь: телохранитель, оруженосец.
[Закрыть], а за ними – самого царя, сопровождаемого многочисленной свитой.
Ехать навстречу царю Висковатый не посмел, остановился и, спешившись, стал ждать с почтительным полупоклоном.
Иван, заметив дьяка, резко направил к нему коня и ещё издали, предупреждая непременный поклон его, громко заговорил:
– Погоди, дьяк, кланяться, погоди! Дозволь нам, недостойным, поклониться тебе да поблагодарствовать, что облагодетельствовал нас, явился!
Иван и вправду соскочил на землю, подошёл к Висковатому и земно поклонился.
– Спаси Бог тебя, Иван Михайлов, за милость твою неизречённую, за почтение к нам! Не чаяли уж узреть тебя. Мнилось нам, недостойным, что Господь Бог, по грехам нашим, отвратил от нас любовь твою. Ан нет! Смиловался ты, пожаловал нас! Спаси Бог тебя, Иван Михайлов, спаси Бог! – Иван, приложив руку к груди, снова поклонился.
Висковатый смутился, но не потерялся, не ужаснулся. Выходка Ивана хоть и была неожиданной, однако не удивила его – видывал он и не такое и хорошо уже знал дурную Иванову страсть к лицедейству. Тот мог вынуть у нищего из сумы кусок хлеба и преломить его с ним или босым, в убогом рубище отправиться за шестьдесят вёрст пешком в Троицкий монастырь на моление; мог при случае и слезу пустить, и поскоморошить на пиру, но более всего любил он вот такие представления.
– Прости, государь! – Висковатый всё же поклонился. – Прости мою дерзость невольную! Не чаял я, что нужда во мне станет такая... Мнил, лучше мне делу предаться.
– Нужда?! – Иван надменно хмыкнул. – Уж не мнишь ли, что без тебя нам кручина случилась... как иные в злобесье своём возомнили? – Надменный взгляд Ивана стал уже и презрительным, но извесела-презрительным – он до конца вошёл в роль. – Нету в тебе никоторой нужды! Токмо дивно нам стало, что ужли и дьяки наши, из гноища нами поднятые, вельможной спеси на себя напустили? Вот и послали мы за тобой дважды, как и за князьями не посылываем.
– Да отчего же спеси, государь? Ве́ди и прежде, делами обременный, нередко уклонялся я от пиров и потех.
– А я счёт не веду, сколь и в чём вы дуруете! Летописец мне на вас, что ли, стать заводить да писать в нём: нынче, в четверток, дьяк Ивашка Михайлов государю сгрубил, и государь был вельми кручиноват и просил Ивашку оттоль не грубить ему.
В глазах Ивана вдруг взметнулись острые искорки. Игра заходила слишком далеко: он начинал уже не на шутку растравлять себя и, словно поняв это, переменил тон:
– Я добрые ваши дела кладу себе в память, а худые вам и самим не пристало бы помнить да отговариваться ими. Не тако ли?
– Так, государь.
– И не прощаю тебе... Не прощаю! – сорвался-таки Иван. – Не дерзость твою не прощаю, а неразумие твоё. Неразумие! – ткнул он пальцем чуть ли не в самые глаза Висковатого. – Уж тебе-то с твоим умом самому уразуметь нужно было: должен ты быть иль нет! – зашипел он, сходя на свирепый шёпот. – Ежели сам не желал вложить во языцы злорадную притчу, должен был уразуметь!
Висковатый невольно вскинул на него глаза: он вмиг понял всё, но глаза его, устремлённые на Ивана, были полны удивления: как, в самом деле, он сразу не догадался, что Иван потому и был так настойчив, что боялся, как бы кто-то, «в злобесье», не подумал, будто он разошёлся уже и с дьяками.
Иван тоже впился в него взглядом, но, несмотря на всю суровость, было в его глазах что-то заговорщицкое, какая-то еле уловимая доверительность, основанная на их тайной общности. 0н как бы открывал себя этим взглядом и удостоверял эту общность.
Висковатый не нашёлся, что ответить. Искреннее удивление сменилось в нём столь же искренней удручённостью и явным чувством вины и даже стыда: сам себе он и вовсе не мог простить того, что не прощал ему Иван.
– Ладно, чего ни к пути, ни к делу речи плодить. Садись, дьяк, в седло, едем! неожиданно и сразу отступился Иван, видя, что добился своего, хотя, конечно, понимал и, быть может, в глубине души был даже уязвлён, что добился этого совсем не тем, чем рассчитывал добиться. Эта уязвлённость, которую он, несомненно, не хотел выдать, могла и принудить его отказать себе в удовольствии подольше потерзать дьяка.
Сели на коней. Увидев рядом с Иваном вместе с Мстиславским и Челядниным и старого Басманова, Висковатый понял, что на нынешний выезд разряд не писан и указано «быти без мест». Иван и сам не замедлил сказать ему об этом, повелев быть «близко». Когда Иван указывает «быти без мест», тогда он сам, смотря какая в ком станет нужда, распределяет, кому быть «ошую» или «одесную», кому «близко», а кому «дальше», и в этом случае «близко» или «дальше» чести нисколько не возвышает и не ущемляет и в местнических счетах не учитывается. Но быть «близко» всё же почётней, ибо это означает быть от царя на таком расстоянии, когда можешь слушать его беседу и даже принимать в ней участие, если тот изволит к тебе обратиться. Однако в любом случае боярин никогда не бывает дальше окольничего, а окольничий дальше дьяка.
Бояре, ехавшие позади царя, неохотно потеснились, уступая место Висковатому. Тут же, рядом с боярами, уже были и Вяземский, и окольничий Зайцев, и Михайло Темрюк, и Федька Басманов, и Васька Грязной, был тут и новый царский любимец и особин, привезённый им из полоцкого похода, – Малюта Скуратов. Держался он, не в пример всем остальным – тому же Федьке Басманову или Грязному, – совсем скромно, незаметно. Висковатому показалось, что он как будто даже стыдится быть на виду у всех. Малюта и в самом деле редко появлялся на людях: не видели его ни на пирах, ни в церкви на литургиях, да и во дворце, где в обычай толклись все царские любимцы и приспешники, его тоже не часто можно было встретить. Висковатый и сам видел его мельком раза два, не больше. Чувствовалось, что этот человек почему-то стремится остаться в тени, не напоминать о себе, но, несмотря на это и вопреки этому, молва о нём распространилась уже по всей Москве и проникла во все слои её населения – от вельможных до самого худого простонародья. Имя его поминали в думе, в приказах, в кабаках, на торгу, и поэтому казалось, что он незримо присутствует всюду.
Пристроившись к боярам и чуть оглядевшись, Висковатый тотчас же обнаружил, что среди них не было ни Кашина, ни Шевырева, ни Куракина, ни Немого... Их отсутствие и в добрые времена не могло бы остаться незамеченным, но теперь особенно бросалось в глаза, и конечно же не было случайным. Это Висковатый прекрасно понимал. После того что произошло в Столовой палате, где именно эти бояре открыто выразили царю свой протест, всё, связанное с ними, да и не только с ними, уже не могло быть случайным, и не нужно было большого ума, чтоб разобраться в этом.
Похоже было, что Иван стремился дать понять всем – и тем, кто ещё с ним, и кто уже не с ним (особенно этим, поднявшимся против него и «в злобесье» могущим думать, будто ему от того «кручина случилась»), что происшедшее в Столовой палате нисколько не удручило его, не напугало, ни от чего не заставило отступиться. Он хотел показать, что ему наплевать на всю ту злобу и ненависть, что накопили на него враги, и в качестве доказательства избрал, в частности, нынешний выезд, сплошь нарочитый и явно показной. Никогда он ещё не выезжал на потеху так рано и никогда не тащил за собой такую свиту. Случалось, и вовсе без свиты езживал, а теперь – прямо-таки целая рать! И ведь действительно: рать, а не свита! Как тут станешь думать, что царь одинок, беззащитен, что все против него?! И пусть нарочитость и показность его затеи открыто бросалась в глаза, пусть доля истинного и мнимого была неустановима – пусть! Однако всё, что он хотел доказать, он доказывал зримо: вот, смотрите и делайте выводы! И выводы, несомненно, делались, даже теми, кто знал истину. Да он и сам знал её, знал, что тайных врагов у него больше, нежели явных, и они гораздо опасней, ибо будут стремиться ударить в спину, из-за угла, будут плести свои тенёта, незримые, коварные, в надежде поймать его в них, запутать, удушить... Знал он и другое – то, что истинному свойственно порождать гораздо большие сомнения, чем мнимому и ложному, и пользовался этим. С явными врагами он боролся открыто, с тайными – тайно, и получалось, что будто бы и не было их вовсе, этих тайных врагов. Он охранял их тайну ещё ревностней, чем они сами, и этим нередко обезоруживал их. Он нигде, никогда и ни в чём не препятствовал им исполнять их роль и умел пользоваться их двуликостью, легко обращая её против них же самих. Вот и сейчас он тоже использовал их двуликость и умело сыграл на ней.


![Книга Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного] автора Елена Арсеньева](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zheny-groznogo-carya-garem-ivana-groznogo-213715.jpg)





