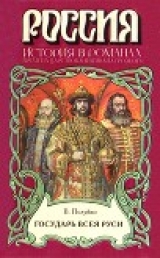
Текст книги "Государь всея Руси"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 35 страниц)
Мысль эта не ужаснула его, не поразила, даже не смутила, только появилось ощущение, словно внутри у него, в самой душе или, быть может, где-то ещё глубже, что-то как бы разъединилось, разломилось надвое, и каждая из разъединившихся частей стала ощущаться как нечто совершенно самостоятельное, отдельное, не только не связанное ничем с другой половиной, с которой до сих пор составляло единое целое, но уже просто чуждое, противное одно другому. И он вдруг понял, что произошло. Дело не в том, что он оказался по-человечески слаб и нестоек, а в том, что внешние силы, которые действовали на разрыв и которые таки сломали в нём духовный стержень, оказались во много раз сильней тех его внутренних сил, которые даны были ему природой именно для поддержания духовной цельности, без чего человек – не человек, и пути его – не пути, а путы, и разум его – не разум, а средоточие, вместилище тоски, терзаний, суетных тревог и заблуждений.
Он понял с пронзительной ясностью и то, что силы эти способны сломать, раздавить, разъять на ничтожные, утлые части душу любого из смертных, и что рано или поздно с ними сталкиваются все, все без исключения, и что одни – покоряются этим силам, смиряются, обездушивают, другие – бунтуют, восстают, борются и гибнут в неравной борьбе, а третьи... Он внутренне сжался, когда мысль его подошла к этой точке, – сжался, как от страха или отвращения, и, понимая, что сознание привело его к такому рубежу, от которого, пожалуй, уже не повернуть вспять, подавленно, с душевной надломленностью подумал: «Так вот как рождаются изменники?! Вот что рождает измену?!» А когда Юрий, выговорившись, замолчал, он вслух сказал:
– Я повсегда мнил, что изменниками становятся токмо худшие, те, что даже в тяжкую годину для отечества хоронятся за чужими спинами. Но те, которые первыми кидаются в сечу... Которые не щадят живота своего... Ве́ди мы с тобой как раз из тех... Неужто же мы... – Он произнёс это «мы» и опять внутренне сжался, с ужасом сознавая, что уже не отделяет себя от Юрия.
– Неужто же мы, лучшие, способны стать изменниками?
– Не знаю, лучшие мы или нет, но что лучшие и первыми подымались на защиту отечества, и первыми оставляли его, коли оно становилось горше чужбины, – сие я знаю. Все прошедшие времена свидетельствуют о том.
Пётр внутренне опять не согласился с Юрием. Он хотел возразить – страстно, решительно, но впервые не знал, как и что сказать, не мог найти ни единого веского довода: мысли его будто судорогой свело. К тому же он ясно уже понимал, что теперь за его доводами – пустота, и значит, он просто хватается за соломинку.
Эта мысль остановила его, желание возражать пропало, и не только возражать – вообще говорить. Он понурил голову, рассеянно, отрешённо стал смотреть в лежащую перед ним книгу и вдруг, на мгновение заострив взгляд на одной из строк, прочитал: «...И, собрав их, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обетования отча».
Он вздрогнул: было такое чувство, будто это не прочитано им, а произнесено кем-то вслух. Хотелось даже оглянуться, удостовериться – так явственно услышал он звучание этих слов, и, наверное, оглянулся бы в суеверном порыве – чувства, как правило, изощрённей и причудливей разума, – но его остановил голос Юрия. Стоя у него за спиной, тот снова что-то стал говорить ему, но что – Пётр не улавливал: в ушах у него всё ещё продолжало звучать, отдаляясь и затухая, как эхо: «Не отлучайтесь из Иерусалима! Не отлучайтесь!..»
Слова эти он читал и ранее, и не единожды, но вот только сейчас, в минуту какого-то острого, внезапного просветления сознания, ему открылся их подлинный, сокровенный смысл.
– Ты меня не слушаешь? – тряхнул его за плечо Юрий, поняв, что говорит в пустоту.
– Уходи, Юрий, уходи, – не оборачиваясь, тихим, надломленным голосом отозвался Пётр.
– Хорошо, я уйду, – поняв, что упорствовать бессмысленно, обречённо покорился Юрий. – Уйду. Токмо, братка... – голос Юрия вдруг дрогнул, – коли ты поймёшь, что я прав, – будет поздно. Но так тому и быть: я пойду за тобой и на плаху.
7
Пётр остался один. Свечи, стоявшие перед ним на столе, почти догорели, оплыв на поддонца подсвечника причудливыми натёками. Свет их, слабый, как мерцание лампадки, едва достигал края столешницы, но ему почему-то казалось, что горница, как и прежде, полна света, а свет теперь стал невыносим и для него.
Он порывисто задул эти слабенькие огоньки и с силой зажмурился. Ему хотелось не просто темноты, ему хотелось вобрать её в себя всем существом, каждой клеткой, обволочь ею душу, разум – и так, как в спасительном коконе, переждать этот мучительный миг... Ему казалось, только миг. Но шли минуты, а облегчения не наступало. Темнота не принесла его, наоборот, она словно бы сжала воедино всё то, что копилось и зрело в нём раньше, и то, что подступило сейчас, и стало так тяжко, так тяжко, что казалось, душа, превратившись в кровавый комок, выдавится наружу.
В такие минуты разум нередко предательски отступает в сторону и крайнее отчаянье может легко толкнуть в бездну. Но его разум не отступил, не предал его, и если он всё же стал думать сейчас о смерти, то не отчаянье было тому причиной. Это была трезвая, ясная мысль, возникшая из самых потаённых глубин его сознания не как предостережение, но как обвинение, как приговор. Он понял, что давно уже отлучился из Иерусалима, из своего Иерусалима (он есть у каждого, и у каждого он – свой!), и не только отлучился – разрушил его, попрал, осквернил. Он отрёкся от себя! Он пошёл в добровольное рабство! Он стал пособником зла! Пусть даже невольно, неосознанно, но всё это он совершил, содеял, он нашёл этому оправдание, примирил с этим свою совесть и жил в этом порочном круге, став для самого себя как бы сообщником – тайным, неотступным, от которого невозможно было ни скрыться, ни отречься.
Теперь ему уже не разобраться, как всё это произошло, как он оказался в этом порочном круге: у подсознания нет памяти, нет вех. Да и поздно теперь разбираться, поздно и незачем: сделанного не переделаешь и вспять не повернёшь – земного пути назад уже нет. Вернуться к своим истокам могут только его душа, его дух, путями, которые неподвластны ему, но для этого их нужно освободить от бренной оболочки. И пусть сие – грех, но сейчас, в эти неистовые минуты, ему казалось, что жить с нынешним осознанием происходящего, – ещё больший грех.
Он знал, как всё будет; имелось у него одно средство в сундуке, на самом дне, в крабице сердоликовой...
Крабицу эту он тайно купил у купца-сурожанина за большие деньги... Жило в нём предчувствие, что когда-нибудь станет она ему в надобность, потому и купил. Что ж, предчувствие не обмануло его, и хорошо, что не пожалел он денег: теперь всё свершится легко и просто. Темнота – не помеха. Напротив, в темноте даже легче всё сделать: не будет видеть ни рук своих, ни крабипы с зельем... Темнота – это как бы покров или тень самой смерти... Он подумал об этом и не ощутил ни малейшего страха: какая-то сила внутри его, должно быть, уже разорвала все нити, связывавшие его с жизнью, и потому отступил даже страх, отступил сам собой, без малейшего усилия его воли, словно природа сама помогала ему, убирая свои обереги.
Стоя у самого края бездны, он знал теперь, что ступить за него вовсе не так страшно и трудно, как это извечно казалось и кажется людям; он знал теперь также и то, что сила жизни не полновластна в человеке и либо ей противостоит другая – прямо противоположная, либо она одна в двух ипостасях: если в ней радость и свет – она сила жизни, если скорбота, отчаянье, мрак – она сила смерти. Это знание, принёсшее ещё большую трезвость, освобождало его от последнего счета к себе самому, ибо само существование силы смерти умаляло греховность его поступка и оправдывало перед тем высшим законом, преступить который он решился. К тому же он осознавал, что делает наконец и свой выбор, самый верный и честный выбор, который сквитывал его со своею совестью и позволял сейчас, в эти последние минуты жизни, быть самому себе ещё и исповедником. И эта осознанность, освобождённая от всего земного, мелкого, суетного, трезвая, ясная и просветляющая, как откровение, осознанность уже не просто гасила в нём волю к жизни – она отторгала его от жизни.
Смерть! Вечная тьма! Небытие! Он думал об этом, зажав в руке вынутую из сундука крабицу, представлял, как всё будет, и чувствовал, что и мысли, и представления эти не только не подавляют его, но, наоборот, даже как бы подстёгивают, возбуждают, словно ему предстояло свершить не то, к чему он уже приготовился, а проникнуть в какую-то тайну, и эта тайна притягивает его, манит...
И действительно, он не испытывал ни страха, ни подавленности, ни злобы, ни ожесточения, не было даже тоски или сожаления, была лишь возбуждённость и совершенно ясное, острое ощущение того, что уже не сам он, своей волей, своим сознанием устремляется к тому незримому рубежу, за которым таилась вечная тьма небытия, а его как бы и вправду что-то притягивает, влечёт...
Таинство, прикровенное таинство смерти! Недоступное, непостижимое! Оно извечно влекло и будет влечь, ибо в нём, быть может, сокрыта та заключающая в себе смысл всего сущего надмирная истина, которую людям не может открыть жизнь. И если человеку дано прикоснуться к этой истине (не постичь – прикоснуться!) то в такие лишь вот мгновения, когда жизнь и смерть, дотоле разделённые стеной времени, сходятся по его воле лицом к лицу, как кулачные бойцы, чтобы завершить им самим предрешённый спор.
В эти минуты, когда жизнь его, дух его как бы замерли у порога небытия, даже боль, что убила в нём волю к жизни, и та перестала быть только болью. Силы, которые отторгали его от жизни, изменили её, переродили, и она стала ощущаться уже как очищение, как освобождение не только от всего суетного, накопленного им в сутолоке жизни, но и оттого, что вызвало в нём эту боль, поэтому и тяжесть её была благотворной, ибо очистить его душу, вытеснить из неё всё мучительно ненужное могла только такая тяжесть. Подобного чувства очищения и освобождения он ещё никогда не испытывал с такой полнотой, оно иногда возникало в нём в минуты духовной исповеди, но как ничтожны, как мимолётны были прежние ощущения в сравнении с тем, что он испытывал сейчас. Это чувство живительной силой своей, как вода в иссушающий зной, вдруг пробудило в нём такое, чего он уже не мог убить в себе. В нём пробудилась и бурно, как хмель, влилась ему в кровь дотоль неизведанная радость гордого, праведного бесстрашия, которое только и делает человека по-настоящему свободным, – и это бесстрашие возродило его.
Охваченный новыми переживаниями, переполненный ими и оттого совсем обессиленный, он будто пристыл к месту и так, в благостном изнеможении и отрешённости, просидел всю ночь.
О чём он думал всё это время и думал ли вообще – он не знал. Но конечно же думал, только владевшие им чувства дробили, разбрасывали возникающие в нём мысли, а собрать их, сосредоточить он был бессилен, и потому казалось, что их как будто и не было вовсе. Должно быть, и мысли эти были мимолётны, обрывочны и, конечно, совсем не о том, что переполняло его душу. Об этом ему не нужно было думать: оно прошло сквозь него ошеломляющим всплеском радости, вдохновения, и он понял, осознал всё и проникся этим в одно мгновение. И если что и продлило это мгновение, то лишь единственное: удивление, даже потрясение – от того, что всё это было в нём, было всегда, а он об этом не знал, не догадывался, и если бы не пришло к нему это жестокое прозрение, если бы не пережил он, не перечувствовал всего того, что пережил и перечувствовал, стоя у самого края бездны, и не обрёл полной власти над самим собой, осилив страх перед этой бездной, то, должно быть, никогда и не узнал бы, не открыл этого в себе.
Ночь прошла как одно мгновение, и когда в слюдяных оконницах забрезжил рассвет, это было для него так неожиданно, что он поначалу принял его за отблеск пожара и, встревоженный, поспешил на крыльцо. Но не пожар занимался над Москвой – занималась заря.
За Яузой, за Соколиными борами, сквозь стеклянистую марь окоёма уже пробивалось рудо-жёлтое пламя, окрашивая небо в цвета побежалости. Лёгкое, невесомое, насыщенное невидимым жаром, таившимся где-то под спудом земли, оно плавно растекалось по тёмным закраинам неба и осветляло их, заполняя своей пронзительной желтизной. Обращались в невидимый прах последние крупинки тьмы, съёживались, бледнели тени, уползая в свои дневные ухоронки, приникала к земле отяжелевшая за ночь прохлада, и неслышно, украдкой, уже потревоженная первыми звуками утра, уходила куда-то тишина, в этот час до того ощутимая, что казалась одушевлённой. И сколько бы раз ни приходилось видеть рассветы – сотню, тысячу, ежедень, – привыкнуть к ним, чтоб уже и не замечать, – невозможно! Глаз всё равно, пускай ненадолго, но задержится, всмотрится, полюбуется – и на это могучее огнище, раскаляющее под неба подобно куску железа, брошенного в горн, и на сам небосвод, на его прихотливый окрас, где смешались багрец и лазурь, обежит он и зыбкую грань окоёма, и дымчатую даль за пределом земли, где вот-вот, словно чёлн, закачается солнце, а слух – в свой черёд! – обнаружит, уловит все тона иссякающей тишины, как бы слабы и неотчётливы они ни были, и невольно вберёт их в себя и будто одарится ими; и плоть каждой клеткой своей отзовётся на росную свежесть погожего утра и тоже вберёт её жадно в себя, напитается ею, как чем-то целебным, а потом уж душа – не сознанье! – душа примет всё это в себя и замрёт от восторга.
Так и душа князя Петра, – она тоже замерла от восторга, когда он вышел на крыльцо и невольно обежал взором сияющий небосвод. Только восторг этот длился недолго: мысль о пожаре, которая заставила его выйти на крыльцо, мысль одинаково страшная для любого московита, будь то князь или простолюдин, быстро погасила его своей тревожной, медленно ослабевающей силой; и так же быстро, в одно мгновение, как будто была выброшена из него каким-то мощным внутренним всплеском, исчезла в нём та благостная отрешённость, в которой он пребывал всю ночь. Сознание вновь вернуло ею к насущным проблемам, мысли стали чёткими, ясными, словно прошли через какое-то чистилище, и среди них, как стрежень на реке, первая, и главная, – о царе. И он не только не ощутил ни малейшей тягости или уныния, не только не огорчился ей, но, наоборот, – обрадовался, почуяв в себе нетерпеливую, волнующую готовность претерпеть и исполнить всё то, что заключала в себе эта мысль. Минувшей ночью он осознал мучительный рубеж между собственным добром и злом, между честью и бесчестьем, между правдой и бесправедьем. И теперь боялся единственного: отступить туда, где остались его зло, бесчестье, ложь, страх, готовые в любой миг, как хищники из засады, вновь наброситься на его душу и завладеть ею, если то, новое, что родилось в ней, не встанет перед ними непреодолимой преградой и не воспрепятствует им. А стать такой пре: радой оно может только тогда, когда прямо и твёрдо проявит себя, когда станет действием, поступком, а не только чувством и мыслью, как сейчас, и не оставит ему никакого иного пути, кроме одного-единственного, прямого и жертвенного, – пути к самому себе, в свой Иерусалим.
Теперь только путь до Кремля, до царского дворца отделял его от той самой главной, самой вдохновенной минуты в его жизни, когда его возрождённый дух, обретший свободу и гордую силу, заявит о себе с радостным бесстрашием, которое станет отныне его путеводной нитью, уводящей от лжи, от бесчестья, от зла, но которое, он знал, ни в коей мере не поколеблет того, кому будет явлено, и ничего не изменит в нём, не сделает его лучше, добрей, милосердней, не повернёт его душу к свету, а волю и разум – к правде и справедливости. Но он ехал бросить вызов не ему лично – царю и человеку, исподволь разрушавшему и разрушившему в нём веру в него, – он ехал бросить вызов тем вековечным силам, безжалостно растлевающим и губящим души людей, олицетворением которых он был – сам, возможно, того не сознавая, более того – сам будучи жертвой этих тлетворных сил.
Только путь до Кремля, до дворца отделял его от всего этого, и был он, этот короткий путь, началом единственного, прямого и жертвенного пути, который он выбрал для себя как судьбу.
Переезжая у Фроловской стрельницы по мосту через ров, он выбросил в него свою сердоликовую крабицу. Отныне в ней не было надобности, и что бы его ни ждало, какие бы беды и лиха ему ни сулились, он уже не воспользовался бы ею. В борьбе с самим собой, в той тяжёлой внутренней очистительной борьбе, которая началась и будет продолжаться в нём, у него не должно быть никакого спасительного убежища – ни монастыря, ни схимы и никакой посторонней помощи – ни утешения, ни печалования, и никакой иной силы, кроме силы своего духа и святого Господнего слова.
Дворец встретил его обычной своей суетой. Несмотря на столь ранний час, в нём уже вовсю кипела жизнь: стольники, дворцовые жильцы, дьяки, стряпчие, дворцовая челядь – ключники, сытники, сенные с бесчисленным сонмом прислужников и подручных, занятых во дворце самым тяжёлым трудом, уже принялись за свою бесконечную повседневную дворцовую работу, длившуюся от рассвета до заката, с недолгим перерывом на обед и молитву, без праздников и недельных дней.
На Красном крыльце и в Золотых сенях сменялась стража, и ему пришлось ждать, покуда пристав, расставляющий по местам стражников, не закончил этого дела и не проводил его в Крестовую палату.
Он был царедворец, окольничий, нередко и сам вместе с другими думными чинами нёс во дворце службу, которую они исполняли поочерёдно, сменяясь через неделю, и во дворце его хорошо знали, как, впрочем, и всех остальных думцев. Однако, по давнишнему и строго соблюдаемому правилу, никакому чину – ни дьяку, ни окольничему, ни боярину, как бы родовит и знатен он ни был, – без особого именного разрешения, исходящего лично от царя, дальше Крестовой палаты ходу не было. Всяк, кому после доклада о нём царю дозволялось видеть его, царёвы, очи, дожидался встречи с ним здесь, в Крестовой палате, и только самым близким, любимцам его, особинам было разрешено входить к нему наверх.
Он тоже принадлежал к любимцам, однако наверх вхож не был – пожалуй, единственный из всех прошлых и нынешних царёвых любимцев, – и никогда не стремился к этому, хотя и не мог объяснить себе почему; Иван, должно быть, угадывал в нём его чувства и тоже не приглашал его, даже попыток не делал, оставляя всё как есть. Но честь воздавал! И неизменно выделял среди прочих. Однако если бы настроения и желания его переменились и Иван почувствовал бы эту перемену, то, как знать, не переменился бы и он в своём отношении к нему? Быть может, потому он так и относился к нему – и честь воздавал, и выделял среди прочих, – что не обнаруживал в нём этой перемены?
Сейчас князь Пётр наверняка знал, что будет позван наверх, но теперь для него это не имело уже никакого значения.
Дворцовый дьяк, которому предстояло идти к царю с докладом, тревожно сказал ему:
– Уж больно рано изволил пожаловать, князь Пётр... Уж больно рано!
– Ступай, братец, не робей, Бог поможет нам, – ободрил его Горенский и, когда дьяк ушёл, вдруг ощутил, что и ему самому сдавила грудь холодная судорога, но не от страха перед возможным гневом Ивана, которого дерзнул потревожить в неурочный час, а от мысли, что тот может отказать ему во встрече и оставить один на один со всем тем, чего он не хотел и не мог уже хранить в себе.
Мысль эта застала его врасплох: к тому, что заключала она в себе, он не был готов и с отчаяньем почувствовал, что если это противостояние окажется продолжительным, то он может не выдержать, сломаться, отступить... У него вряд ли хватит сил вновь проделать этот путь!
С тягостным отчаяньем он стал ждать дьяка, который почему-то долго не возвращался, и чем дольше длилось это мучительное ожидание, тем всё беспомощней и ничтожней чувствовал он себя перед той могущественной силой, которой решился бросить вызов. Куда делись и его решительность, и та вдохновенная радость бесстрашия, которыми он был переполнен, когда ехал сюда. Казалось, всё, что его вдохновило и подвигло на борьбу – не только с этой могущественной силой, но прежде всего с самим собой, – существовало лишь в его воображении как отпечатлевшийся сон, приснившийся ему нынешней ночью и слившийся с явью, – вот е этой несуразной, слабо воспринимаемой им явью, где он есть и в то же время его как бы и нет, потому что если всё то, что он передумал, пережил за прошедшую ночь, всё, что открыл в себе, утвердил, всё, чем вооружился для этой борьбы, – если всё это только сон, то и явь эта не явь, а также сон, страшный сон наяву, где он не властен в самом себе и, стало быть, не властен, не способен ни прервать его, ни досмотреть до конца. Не властен, – и, стало быть, его нет здесь, а есть только его жалкая, ничтожная тень. Тень! И таким вот он должен предстать перед Иваном?!
Ох, как же люто он ненавидел себя в эту минуту, ненавидел и презирал, но даже ненависть и презрение к самому себе не могли подавить в нём этого ужасного чувства своей ничтожности и бессилия.
Должно быть, всё это явственно отпечаталось на его лице, потому что вернувшийся наконец-то дьяк недоумённо и в первое мгновение даже встревоженно воззрился на него.
– Что с тобой, князь Пётр? На тебе лица нет.
Помолчав и что-то решив себе в уме вместо неполученного ответа, дьяк сочувственно, с почтением сказал:
– Не тужи, князь Пётр, помиришься ты со своими... А тебя государь любит. Честь тебе великая от него – велит он взойти тебе в палаты его царёвы, в верхние. Пожалуй, князь Пётр!
Наверху уже не дьяк, а Федька Басманов и Васька Грязной, пристально обметнув глазами незваного гостя, проводили его к царю. По их решительным лицам было видно, что они готовы были и обыскать князя, да, видать, не получили на то дозволения.
Иван стоял у налоя, читал лежащие на нём какие-то бумаги. Свет от окна чётко высвечивал его лицо, и было видно, что читает он с интересом, сосредоточенно, а вовсе не делает вид, дабы намеренно потомить застывшего у двери Горенского.
Читал он долго, или это Горенскому только показалось, потому что время для него сейчас стало мукой, и ощущал он его так, будто оно истекало из него самого. Наконец Иван оторвался от бумаг, коротким, благожелательным взглядом окинул Горенского, приветливо сказал:
– Садись, князь Пётр. Садись, садись! – заметив колебания Горенского, настойчиво повторил он, – Тем меня не унизишь.
Горенский молча, покорно сел на скамью, медля или ещё не имея сил поднять на Ивана глаза. Неестественно выпрямленная, как бы зажатая болью, спина выдавала всю силу его волнения, и Иван, конечно, сразу заметил это. Помолчав, поворошив на налое бумаги, он заговорил – о своём, явно для того, чтобы дать ему время успокоиться, собраться с мыслями:
– Третьего дня сидел у меня, вот тут, где ты сидишь, полоняник наш вельможный – Довойна-пан... И расспрашивал я его про Семёновы, про князь ростовского изменные дела. Помнишь, поди? Когда был у нас Довойна в послах от литовской Пановой рады и Семён, сговорившись с ним изменным обычаем, носил ему речи наши тайные, что мы в думе про мир говорили с Литвою... И как после в Литву изнамерился, с родичами своими, с Приимковыми да Лобановыми... Помнишь?
– Помню, государь, – тихо, отрешённо ответил Горенский.
– И расспросил я Довонну, как то дело допрямо было, и Довойна о многом поведал мне... О таковом, чего на сыске и на суде Семён не сказал. Взял я к себе судный список Семёнов... Вот! – указал он рукой на бумаги. – Уж второй день чту. Многое утаил и изолгал, подлый. Да и те, что допытывали его и судили, Мстиславый, Адашев и оные, також не больно старались изобличить его... Пособляли ему заминать истину, хотя отвести от него гнев наш. Но теперь Довойна в моих руках, и я выведаю у него всё про тот их собацкий изменный сговор.
Взгляд Ивана, обращённый на Горенского, был по-прежнему полон благожелательности, доверчивости, теплоты, это был взгляд не повелителя – друга, и чувствовалось по этому взгляду и по восторженности, звучавшей в его голосе, что рассказывал он об этом Горенскому не только для того, чтобы дать ему возможность собраться с духом, но ещё и потому, что видел в нём единомышленника, готового вместе с ним порадоваться его успеху.
Но Горенский ничем не проявил своего отношения к услышанному. Уже немного овладевший собой, он поднялся со скамьи, прямо, хоть ещё и не очень решительно, взглянул Ивану в глаза.
– Государь, я пришёл к тебе... Я пришёл сказать тебе, государь... – Он запнулся: сразу, на едином духу высказать ему всё не хватило сил.
– Сиди, князь Пётр, сиди! – ещё с большей теплотой и благожелательностью сказал ему Иван. – Я знаю, зачем ты пришёл... Знаю, – с лёгким нажимом повторил он и ободряюще улыбнулся. – На то я и поставлен Богом над всеми вами, дабы ведать и радости ваши, и скорби ваши. Как сказано у пророка о Господе нашем: он взял на себя наши немощи и понёс болезни. Тако и я...
Горенский хотел возразить ему, сказать, что на этот раз царь никак не может знать, зачем он пришёл к нему, но Иван упредил его:
– Знаю я и твою скорботу, князь Пётр. Тяжкая она, что и говорить... Ведомо мне учинилось, что рассёкся ты с единородцами своими... Из-за меня рассёкся. Что ж, князь Пётр, преданность твоя мне в радость!
– Я с самим собой рассёкся, государь. Так рассёкся, что... сознаюсь тебе, нынешней ночью хотел убить себя.
Неожиданное признание Горенского явно поразило Ивана и насторожило. Благодушие его, приветливость мигом улетучились, взгляд стал жёстким, властным. Он тяжело сплёл руки на груди, глухо, с плохо утаённой неприязнью, даже брезгливостью, спросил:
– Почто же не убил?
– Я успел кое-что понять, государь... Смерть должна быть не избавлением, но обретением. Смерть також надобно заслужить. Она бывает воздаянием – за зло и наградой – за добро.
Решительность, выдержка, гордость, дрогнувшие было в нём и уступившие место отчаянью, начали постепенно возвращаться в него; чувство бессилия, безысходности отступило, и голос его стал твёрже, уверенней, речь спокойней, связней.
– ...И разбойника и праведника вознесли на крест... Каждый из них заслужил свою смерть, но за разные деяния. Вот и открылось мне, государь, что высшее и истинное добро есть то, за которое зло предаст его смерти. Буде, и мне, государь, доведётся удостоиться таковой смерти. Я буду о том всячески стараться.
– Ты затем и пришёл, чтоб сказать мне сие?
– Нет, государь... Я пришёл сказать, что одним бездумно преданным тебе человеком у тебя стало меньше.
– Бездумно, говоришь? – мрачно усмехнулся Иван. – А ум – разбойник, на кого хочешь нож наточит! Ведомо тебе сие? Ступай прочь, князь Пётр! Сказано Господом нашим праведным: кто не со мной, тот супротив меня. Тако и я тебе говорю.
Но в самых дверях он остановил его:
– Погоди, князь Пётр! Я ещё не всё иссказал тебе!
Он стремительно пересёк горницу, сел на скамью – на ту, где только что сидел Горенский.
– Подступи! Подступи, говорю! – взбешённо крикнул он, видя, что Горенский не сдвинулся с места.
Горенский покорился, подошёл.
– Сядь!
– Государь, дозволь мне уйти.
– Сядь, – с неожиданной скорбью, просяще прошептал Иван и горестно закрыл ладонями лицо.
Горенский осторожно, словно боясь потревожить Иванову скорбь, опустился на скамью и впять почувствовал, что не может поднять на него глаза – теперь уже от жалости к нему.
Они долго сидели так – в скорбном, отрешённом молчании, и молчание это было последней, ничтожной ниточкой, которая ещё связывала их. Наконец Иван открыл лицо и, повернувшись к Горенскому, резко, но без злобы, а с болью, с надрывом заговорил:
– Почто, почто и ты отрекаешься от меня? Пусть Горбатый, Курбский... С ними ясно. Но почто – ты?
Горенский молчал.
– Неужто обида вызрела и в тебе? Не улащивал я тебя, не ухлёбливал, как иных, да! Порой и в слове грозен был... Так потому, потому ве́ди, – яростно заколотил Иван кулаками по коленям, – что не хотел хоть у тебя, у единственного, покупать преданность милостями своими, шубами да кубками потешельными... И отступничеством от души своей. Видел, что ты не из их стаи... Их сколико ни ублажай, сколико ни корми, они, что волки, всё одно в лес смотрят. А кормлю, ублажаю, понеже иных не имею. Вот тебя присмотрел да ещё кой-кого... Видел, вы иной стати. Испортить, исхабить сию стать вашу боялся, чтоб не нашло и на вас злобесье – от жиру и надмения. Разумеешь ты сие?
Горенский молчал.
– Прочитал я в одной мудрой книге, – продолжал Иван, – что правитель приближает к себе не лучших, но тех, кто ближе к нему, подобно виноградной лозе, которая обвивается не вокруг самых крепких деревьев, но вокруг ближних к ней Истинно сие. Так было и со мной. А я хочу приближать лучших! Я не хочу уподобляться виноградной лозе! Разумеешь ты сие? Отвечай, не молчи! – и гневно и просяще вскрикнул Иван.
– Разумею, государь.
– Почто же отрекаешься? Почто не хочешь быть со мною заедино?
– Я был с тобою заедино... Коли ты звал всех нас на татар, я шёл за тобой, как и все, шёл без колебаний, со спокойной совестью. Ты позвал нас на немцев... Я пошёл за тобой и на них. Я разумел: нам надобно добыть море, и все мои помыслы были с тобой. Но вот татары покорены, Ливония також не сегодня, так завтра преклонится под твою руку... И теперь тех, кто шёл за тобой, кто пролил кровь за тебя, ты объявляешь своими врагами, вздымаешь на них вражду... Како ж мне быть заедино с тобой в таковой вражде? Ополчаться супротив товарищей своих ратных, супротив рода своего? Но я не хочу воевать супротив единокровных своих, не хочу быть палачом отцу и матери, братьям своим и сёстрам. Но ты скоро потребуешь и сего. К тому всё идёт.
– Но ежели они – враги? – жестоко, мрачно произнёс Иван. – Такие же, как и татары? Либо ещё страшней? Что делать мне? Мне что делать, скажи? Что будет с Русью, ежели я поддамся им? Ты о своей душе печёшься, а я пекусь о Руси, о нашем с тобой отечестве, твоём и моём! Как душу спасти – я знаю... В скит, на хлеб и воду. А как спасти Русь – от них, кого ты не хочешь признать врагами? О чём их помыслы? Каковы их чаянья? Их помыслы о мошне, о родовой чести... Она им дороже всего, их затхлая честь! Вспомни, что говорил Семён Ростовский, коли я женился, взял Анастасию, которая не была княжеского рода? По его гордостной окаянствующей мысли я истеснил их... Тем истеснил, что у боярина своего дочерь взял, поял рабу свою. Так говорил зловредный язык Семёнов. А какой заговор они, ростовские, разом с Евфросинией, тёткой нашей злобесной, составили, коли я в конце живота лежал? Как супротив Димитрия, наследника моего, Володимера выставляли? Забыл ты нешто? Но я злом за зло никому из них не воздал и никоими смертьми не расторг. А что был мой некой гнев на них, так изменников нигде не милуют.


![Книга Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного] автора Елена Арсеньева](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zheny-groznogo-carya-garem-ivana-groznogo-213715.jpg)





