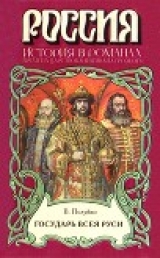
Текст книги "Государь всея Руси"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 35 страниц)
Государь всея Руси

ГЛАВА ПЕРВАЯ
1

Весна. Над пробудившейся землёй – огромное, величественное солнце, как какое-то могучее божество, явившееся из иных, вневселенских, пределов, чтоб освятить великое таинство зарождения жизни.
Весна. В степях за Ряжском, Курском, Рыльском, за Путивлем утаяли снега, осели, посерели, как небелёные холсты лежат, напитывая влагой землю. А земля уже на сносях. Вспухшая, раздобревшая, отягощённая бременем жизни, ждёт она своего часа. Вот-вот выпрыснут из-под рыхлой вощины дотаивающего снега первые ростки, а сойдёт снег – и оживёт степь, зазеленеет, вспушится, как горлатная смушка. Чуть погодя подойдёт и пора первоцветья: зажелтеет мать-и-мачеха, густой россыпью лягут на свежую зелень сиреневые хохлатки, ярко вспыхнет чистяк, раскроется сон-трава, медуница... С первоцветьем явятся в степь и перволётные птахи, но всё это будет позже, когда весна наберёт силу, а сейчас степь ещё мертва, пустынна, уныла. Широким, сходящимся к Азовскому морю клином лежит она на громадном пространстве от Волги и Дона до Десны и Днепра – привольная, величавая, девственная. Диким полем зовут эту степь на Руси. А ещё зовут проклятым, потому что отсюда, из этой степи, приходит страшный, жестокий враг – крымские татары. Когда они придут, в какую пору, откуда, с какой стороны – никто этого не знает. Они могут прокрасться к верховьям Дона по Кальмиусской дороге или по Изюмской и вдруг обрушиться на рязанские земли, как уже случалось не раз. Могут двинуться по Бакаеву шляху, что лежит между Пслом и Сеймом, и дальше, за Сейм, по Свиной дороге – к Волхову, Мценску... Но чаще всего они ходят прямиком – по Муравскому шляху, между Ворсклой и Донцом, мимо Курска, Новосиля к Туле, Калуге и другим заокским и украинским городам, а если не усторожат их в степи на дальних подступах и не успеют выставить на бродах через Оку крепкие заслоны, тогда жди их и за Окой – у Серпухова, у Коломны, у Москвы, Потому-то с наступлением весны, сразу после Благовещения[1]1
...с наступлением весны, сразу после Благовещения... – Благовещение – один из великих богородичных праздников Христианской церкви, приходится на 25 марта (7 апреля) и посвящён воспоминанию возвещения архангелом Гавриилом деве Марии тайны воплощения от неё Сына Божия – Иисуса Христа.
[Закрыть], собираются в Путивле, в Мценске, в Туле, в Рязани, в далёком Темникове на Мокше-реке и в ещё более дальнем Алатыре разъезжие станицы сторожей, чтобы в первый день апреля выехать на свои сторожи и урочища – стеречь в Диком поле крымчака.
Зовётся в народе этот первый день апреля «Марья зажги снега»[2]2
Зовётся в народе этот первый день апреля «Марья зажги снега» – в честь святой Марии Египетской. – Преподобная Мария Египетская жила в VI в. По преданию, в молодости была блудницей. Посетила с паломниками Иерусалим. Там ей было явление Богоматери, которая внесла в её душу стыд и раскаяние. Мария по заступничеству Пречистой была допущена к Кресту Господню; в дальнейшем она сделалась ревностной христианкой; 47 лет провела в покаянии в заиорданской пустыне. Память – 1 апреля.
[Закрыть] – в честь святой Марии Египетской. Да не всегда, однако, загораются они от апрельского солнца, от первых его воспламеняющих лучей. Бывает, лежат размякшим студнем до самого мая. Но если уж загораются, то бурно и яро, переплавляясь в могучие половодья, а после медленно, незримо дотлевают изнуряющей тяжестью распутиц.
Однако какой бы ни была апрельская степь – заснеженной и холодной или половодной и слякотной, станичник садится в седло, берёт с собой немудрёный запас пищи и едет в объезд – на свои сторожи и урочища, куда ему расписано ехать. Путивльские и рыльские станицы едут к верховьям Тора, по Миусу, Самаре, Орели – к Днепру, до Пёсьих Костей; тульские, дедиловские, мценские – ко Мжу и Коломаку на Муравский шлях; мещёрские – вниз по Дону, до самой Волжской переволоки, а рязанские, которые стерегли в обычай Ногайскую Орду[3]3
Ногайская Орда – государство кочевников-ногаев (позже – ногайцев) к северу от Каспийского моря, от Волги до Иртыша. Выделилось из Золотой Орды в конце XIV – начале XV в.
[Закрыть], – на ногайские сакмы – тайные тропы и дороги, протянувшиеся с юга к верховьям Битюка и Цны, – или к верховьям Воронежа, на Торбеев брод, откуда открывался прямой путь на Ряжск, на Пронск, на Венёв, на Переяславль...
Однако со времени завоевания Астрахани ногаи не отваживались нападать на русские земли. Боялись они Москвы, боялись «белого даря», забравшего всю Волгу до самого моря, да и их внутренние распри и усобицы, лютая борьба князьков за власть, обнищание и голод тоже делали своё дело. Посланники, отправляемые время от времени к ногаям из Москвы, доносили царю: «Ногаи изводятся, людей у них мало добрых, и те голодны необычно и пеши... Не верят друг другу и родные братья. Земля их пропала». Потому с недавних пор на ногайские сакмы стали ездить станицы из одного лишь Ряжска да изредка из Шацка или Сапожка, а из остальных рязанских городов – из Зарайска, Михайлова, Пронска, из Данкова и Епифани и из самой Рязани – разъезжие станицы по росписи стоялых голов, осуществлявших надзор за украинной сторожевой службой, ездили к Северскому Донцу и к Святым горам, стерегли броды на Быстрой Сосне, стояли сторожами на Красивой Мече и на Вязовне.
...Тяжела и сурова украинная сторожевая служба. С ранней весны и до глубокой осени – до конца ноября – станичник в поле, в разъездах, а не лягут после ноября в степи снега, он и зимой не оставляет своих урочищ, не съезжает со своих сторо́ж.
Станицы, что ездят по урочищам, и сторожа, что стоят на сторожах, меняются каждые две недели, но на все эти две недели станичник должен забыть о себе, забыть о хорошей пище, об отдыхе, о сне. Ему не велено делать станов, раскладывать надолго огонь, когда нужно сварить пищу, «и того огня в одном месте не раскладывать дважды; в котором месте кто полдневал, там не ночевать». Устав сторожевой службы указывает станичникам стоять на сторо́жах, с коней не ссаживаясь, и стоять в тех местах, которые были бы «усторо́жливы», потому не велено останавливаться ни в лесах, ни в балках, ни в распадках, а только там, «где б воинских людей можно было усмотреть». А усмотрев, усторожив подкрадывающегося врага – этих самых воинских людей – и послав весть о них в ближайшие украинные города, станичники не имеют права бездействовать, затаившись где-нибудь в глухих и безопасных местах, или прятаться в тех же самых городах. Станичники не только вестники опасности, не только глаза и уши Руси, вечно ждущей татарского нападения, они ещё и помощники в борьбе с подступившим врагом, особенные помощники, без которых трудно обойтись. «Ехать им за неприятелем сакмою, – написано в росписи сторожевой службы, – а где и не сакмою, как пригоже, покинув сакму направо или налево, ездить бережно и усторожливо, по сакмам и по станам людей смечать, и того беречи накрепко: на которые украйны воинские люди пойдут и им, про то разведавши верно, с вестями подлинными спешить к тем городам, на которые неприятель пойдёт, чтоб в города те вести были раньше, не перед самым приходом неприятеля».
Кратко и просто написано, но сколько хитрости и находчивости, сколько отваги, мужества и самоотверженности нужно проявить станичникам, чтоб исполнить это короткое предписание. И от того, насколько удачно справят они своё дело, нередко зависит успех или неуспех в отражении татарского нападения.
Понимают это и татары, у которых есть только одно оружие против русских пушек и крепких городских стен – неожиданность, внезапность. Если им не удастся прокрасться незамеченными мимо русских застав и сторо́ж, не удастся отсечь станичников от кратчайших дорог к городам, куда они понесут свои вести, не удастся перехитрить или заманить их в какую-нибудь ловушку, то не знать им удачи на русской земле, не добыть ни полону, ни скарбу, быть им битыми и прогнанными вон в Дикое поле. Потому-то и боятся крымчаки станичника и ненавидят его самой лютой ненавистью, и, если уж станичник попадается им в руки, месть их страшна. Они выжгут ему глаза, отрежут язык, зальют кипящей смолой уши – и отпустят. Никакого выкупа не возьмут они за станичника, сколько б им ни посулили, хотя жадны безмерно и по большей части лишь тем и живут и кормятся, что выручают от продажи пленных. Но станичник для них – не пленный. Он – враг, и даже больше чем враг. Врага они тоже продадут на невольничьем рынке в Кафе или отправят к туркам на галеры, а со станичником поступят только так: изуродуют и отпустят, намеренно отпустят, чтоб он своим уродством служил теперь уж и им, татарам, пусть и невольно, но служил, внушая страх другим.
Немало этих несчастных по украинным городкам, часто скитающихся в нищете, и угрюмится станичник, когда видит их, и подспудный голос нередко нашёптывает ему как раз то самое, что и стремятся заронить в него татары, воочию показывая, что ждёт любого из них в том страшном, проклятом поле, куда они направляют своих коней. Паскудное это чувство, бывает, заползёт в душу, вкрапится в неё, как червоточина, и донимает, гнетёт... Слабого, глядишь, и сгложет, сломает. Захряснет в таком страх, как струп на ране, – и не притронься, не зацепи! Такой уже не станичник, не глаза и уши Руси, – такому в поле и самому худо, и другим от него беда, и делу урон. Но слабый тут редок. Слабый не часто пускается на поиски лучшей доли, он так уж и вековует или погибает там, где застало его невзгодье. С отчаянья разве что бросится он в такие края, но раз у него не хватает силы прижиться на лучших местах, здесь ему не прижиться и подавно. Здесь народец особый: здесь те, кто всегда верил и до самого гроба будет верить в свою судьбу, в свою удачу, и искать её, и стремиться к ней наперекор любым опасностям и лишениям. Такого если и тронет тревожная мысль, то только тронет, а в душу его ей не проникнуть, не вгрызться в неё, не влезть, потому что в нём как бы и нет той самой души, что водится в человеке помимо тела и разума. Он суцел, един, он, как камень, одинаков и изнутри и снаружи. Если татарская стрела или сабля вонзается в его тело, она вонзается и в его душу, и в сознании его тоже остаётся отметина – не как память о боли, а как память о неудаче, о торжестве врага над ним, пусть и временном, но всё же торжестве, и эта память непреходяща, неистребима, она сильней страха, сильней той извечной самосохраняющей силы, что заложена во всём живом, эта память жестока, беспощадна, но и в то же время полна гордости, мужества, самоотверженности.
Но есть ещё и другая память. Она всегда живёт в каждом русском. Да и не память это даже, а что-то совсем-совсем особое, слившееся с ним, сросшееся, ставшее его частью – сгусток боли и ненависти, жажда возмездия и презрение, яростное, вековечное презрение к врагу, попирающему его землю, его веру, его святыни... Особенно остры эта боль и ненависть, эта жажда возмездия и презрение в тех, кто хоть однажды пережил татарский набег, видел разорённые деревни, церкви, монастыри, с отчаяньем провожал глазами угоняемых в плен братьев, сестёр, отцов, матерей. И вот эта ненависть, эта жажда отмщения, это презрение к врагу сильней страха перед ним, сильней всего того, что изуверством и беспощадностью он стремится вселить в каждую русскую душу. И когда станичник остаётся в Диком поле один на один с этим жестоким врагом, он уже не служилый, исполняющий службу за жалованье, он – русский, просто русский, защищающий отчий край, родину, ради которой он и рискует головой.
И ничем не воздадут ему за этот риск – ни земли лишнюю десятину не прирежут, ни жалованья не прибавят, разве что панихиду отслужат по полному чину, если сыщут в степи его тело, а не сыщут, то скромно помянут в день общей памяти, утверждённый царём по благословению митрополита для поминовения «благоверных князей, бояр, христолюбивого воинства, священнического и иноческого чина и всех православных христиан, от иноплеменных в бранях и на всех побоищах избиенных и в плен сведённых, голодом, жаждою, морозом и всякими нуждами измёрших, в пожарах убитых и огнём скончавшихся, и в водах истопших»[4]4
День этот отмечался 25 октября по старому стилю, накануне праздника святого Дмитрия, посвящённого великомученику Дмитрию Солунскому и причисленному Православной Церковью к лику святых московскому князю Дмитрию Донскому, который и являлся инициатором установления этого дня. После победной Куликовской битвы, в которой полегли многие тысячи русских воинов, Дмитрий Донской прибыл в Троице-Сергиеву лавру, где была отслужена специальная панихида «по убиенным воинам». Было решено служить такую панихиду ежегодно. Иван Грозный 21 июня 1548 года подтвердил это решение царским указом. (Здесь и далее примечания автора).
[Закрыть].
Общая память или в лучшем случае панихида и крест над могильным холмиком да ещё не очень щедрое жалованье – вот и всё воздаяние станичнику за его службу, за его риск, за самоотверженность, и, казалось бы, быть ему нерадивым, осторожным, нерешительным, пекущимся больше о себе самом, о своём благополучии, о своей безопасности, как иные на иных службах, даже и не столь трудных и опасных. Ан нет, не таков станичник! И не потому вовсе, что он уж такой особенный, а потому, что служба у. него такая – совсем-совсем особенная. На любой другой службе нерадивость – это только нерадивость, осторожность – только осторожность, забота о собственной безопасности – всего лишь трусость, а для станичника нерадивость – это пособничество врагу, нерешительность и осторожность – почти измена, а забота о собственной безопасности – полное предательство.
Суров писаный закон к станичнику: «А которые сторожа с сторожи сойдут, и в то время государевым украйнам от воинских людей учинится война, тем сторожам от государя быти казнённым смертью». Но ещё суровей закон неписаный, который не прощает и того, что может простить государь, и потому станичник, блюдя этот закон, всегда отдаст лучшего коня тому, кому скакать с вестями в город, и последнюю стрелу отдаст ему, и последний заряд для пищали, и даже саму пищаль, оставаясь перед врагом безоружным. Если ранен станичник, но может держаться в седле, он держится до последнего, а не может – остаётся в поле, чтобы не стать помехой и обузой товарищам, остаётся один ждать смерти или какого-нибудь чудесного спасения. Таков неписаный закон. Когда сложится так, что пятерым нужно погибнуть, чтобы одному спастись и принести в город весть, – пятеро и погибнут. Таков неписаный закон.
Когда один ценою собственной жизни может спасти пятерых, он их спасёт. Таков неписаный закон, такова станичная служба, таков станичник. И кем бы он ни был – из детей ли боярских или из обезземелившихся, разорившихся крестьян, которых зовут бобылями, или из тех дерзких, лихих людишек, что бегут на украинные земли от тюрьмы или плахи, он не откажется от этого закона и не преступит его, даже если раньше преступал всё подряд, потому что этот закон возвышает его, потому что в нём он обретает ту высшую человеческую гордость, которая поднимает его над самим собой, над своими слабостями и пороками и которая, раз войдя в человеческую душу, уже никогда не покидает её. Он горд, станичник, потому он таков и есть! Приходит весна, он седлает коня и едет в Дикое поле беречь от врагов Русь. Изгой, отщепенец, лихой человек, вышвырнутый Русью на её окраины, он едет беречь эту Русь, готовый сложить за неё голову, он едет беречь свою Русь, свою Родину – и бережёт её!
2
Весна. В Москве на торгу теперь снова стали ночевать со своими возами купцы, не становясь уже на гостиных дворах, чтоб не платить дворовую пошлину. На Вшивой площади, что за Покровским собором[5]5
Покровский собор – он же храм Василия Блаженного. Построен царём Иваном Грозным в 1552—1560 годах в память покорения Казани у Спасских ворот Московского Кремля.
[Закрыть], у самого начала Варварки, начали свою работу цирюльники. На Москве их зовут то вшивятниками, то стригалями, но они мастера на все руки: не только стригут, но могут и бородавку прижечь, и из чирья гной выпустить, и зуб выдернуть; девицам, особенно из простонародья, они прокалывают мочки под серьги, а щёголям, тем, кому плевать на церковные запреты, волосы со щёк щиплют, да, кроме того, и притираниями могут навести румянец или белизну, и благовониями окурят. Говорят, что попы, те, у кого и в Великий пост рожа не отходит от сытой багровости, тоже пользуются их услугами, потому что умеют они придавать лицу схимническую бледность, окуривая его серой или другими одним им ведомыми зельями.
В послеобеденный час – час неизменного опочива, когда на торгу запираются все лавки, у цирюльников вовсю разгорается работа. Желающих стричься так много, что, сколько бы ни работало разом на площади этих завзятых, сноровистых умельцев, ловко и без устали орудующих ножницами, всё равно возле каждого собирается очередь. Впрочем, тут всегда толкотня, всегда полно разношёрстного люда, приходящего сюда повыведать свежие новости, намотать на ус какую-нибудь досужесть, посмаковать сплетни, послушать хитроумные небылицы да и самим при случае приврать.
Вот топчется около одного из стригалей высокий, спинастый мужичина в барашковом нагольном кожухе, заросший так, что у него уж и лица почти не видно за волосами. Стригаль неустанно работает и так же неустанно плетёт свои бесконечные россказни, искусно перескакивая с одного на другое, на третье... Мужик слушает с любопытством и от удовольствия пошморгивает носом. Дождавшись, когда стригаль закончит свою очередную побаску, крякнет, качнёт кудлатой головой, повернётся, намереваясь пойти прочь, да тут же и передумает, степенно подступится с другого боку, опять начнёт пошморгивать носом.
– Ты уж мне в глазах настрял во как! – не выдерживает стригаль, когда мужик, поди, в десятый раз подступает к нему. – Сопишь, шваешь туды-сюды, а стричься небось не станешь?
– Стричься погожу, – спокойно отговаривает мужик. – Не поры ишшо...
– Не поры?! – прекратив работу, упирает в него глумливый взгляд стригаль. – Поглядел бы на себя! Что та борзая оброс шерстью. Один нюх торчит!
– Нюх у мене не торчит, – по-прежнему спокойно, без малейшей доли обиды, отговаривает мужик. – Я заворносый. А вот у тебе истинно нос как у борзой – продолговен и ноздряст.
– Ишь ты! – удивляется стригаль, не ожидавший такого и, должно быть, от этого удивления и неожиданности не рассердившийся на мужика. – А ещё чего скажешь?
– А боль ничаво... Тебе послушаю. Дюжа хитро сказываешь.
– Горазд на даровщину слушать, – уже с обидой говорит стригаль. – Ступай себе!
– Нешто и за сказы плату берёшь?
– За сказы не беру... А сказываю для тех, кто легчится, дабы им нудоты не было.
– Коль так, тады и я олегчусь. Токмо сказывай дале...
– А легчиться истинно будешь, не обманешь? – недоверчиво спрашивает стригаль.
– Плату которую возьмёшь?
– По твоим волосищам – деньга.
– Новгородка аль московка?
– Московка...
– Всё едино много. Мене за деньгу день-деньской потеть надобно. Разумей разницу.
– То ты разумей разницу. Работа работе рознь! Вестимо, лапти плести – однова в день есть. А в нашем деле иная мера, понеже не столь руки работают, сколь голова. Я иной раз и пальцем не двину, а заработаю рубль.
– Не всё ври в один раз, покидай и на завтра в запас.
– Не веришь? – загорается стригаль.
– Про рубль – нипочём не верю, – спокойно и твёрдо отвечает мужик.
– А вот слушай! – Стригаль самодовольно избоченивается. – Кличут меня третьего дня на боярское подворье. Ведут в палаты, и выходит ко мне из терема боярыня... Ах и боярыня! Бровми союзна, телом изобильна, млечною белостию облиянна! И речёт она мне скорбным голосом, что-де и напасть на неё не бабья нашла, усыдеи, как у мужика, растут. Поглядел я на неё – и вправду вижу: прозябло роство над губой у боярыни, как у недоросля. И, чую, горе ей от того несказанное, и хочет она от той напасти избавиться, потому и покликала меня. И говорю я ей, глядя в её исскорбевшие очи, вопрошая: уж не спутала ли боярыня-сударыня с супругом со своим, с боярином, небо с землёю? А она не разумеет, про что я спрашиваю, и говорю я ей тогда, что небо – то супруг её, боярин, а земля – то она сама, боярыня, и что извечно так установлено, что небо повсегда горе, а земля повсегда долу, а кто в сладострастии переставляется местами, тот и естество своё переставляет. И зарделась боярыня, как маков цвет, и дала мне сто копейных да велела до самых ворот провожать!
– Вона?! – поражённо отвешивает губу мужик и вдруг брякает в простодушии: – Стал быть, ежли с бабой окарач, так у ей и хвост вырастет?
– А у тебя рога! – отпускает глумливо стригаль, и по Вшивой площади расхлёстывается весёлый шум.
...Есть на торгу ещё одно затейное место, знаменитое место, которое с наступлением тепла становится не менее бойким, чем Вшивая площадь. Место это – Ильинский крестец[6]6
Ильинский крестец – место на пересечении с Ильинской улицей, одной из ближайших к Московскому Кремлю.
[Закрыть], где с незапамятных времён собираются безместные московские попы, дьяконы и прочий церковный чин, вплоть до звонарей и клирошан. Потеряв место в приходе, весь этот безработный церковный люд идёт на крестец в надежде наняться хоть на временную работу: отслужить где-то службу или панихиду вместо захворавшего приходского священника, окрестить младенца, обвенчать молодых, освятить строение... Работа находится, по большей части, правда, грошовая, а на митрополичьем дворе в Кремле к тому же ещё тиунская[7]7
Тиун – судья низшей степени; приказчик, управитель.
[Закрыть] пошлина заведена, которая так и зовётся «крестец». Нанялся на работу – являйся к митрополичьему тиуну и плати пошлину, а не явишься, не заплатишь – возьмут промыты[8]8
Промыта – штраф.
[Закрыть] рубля два или в тюрьму вкинут, если не с чего взять. Так что и забот и тревог у завсегдатаев крестца хватает. А страсти, бывает, кипят такие, что нередко доходит и до потасовок. Особенного накала страсти достигают как раз в пору весны и летом, когда на крестец начинают сходиться попы из окрестностей или вовсе чужие – из других городов, приезжающие в Москву по каким-либо своим делам и стремящиеся заодно подзаработать в стольном граде лишнюю деньгу.
Когда работы хватает на всех, местные попы ещё кое-как мирятся с чужаками, терпят их, но как только наем уменьшается, московские тотчас восстают на приезжих, гонят их прочь с крестца, чтоб те не отбивали у них заработка. Вот тут-то и выплёскивается из благочестивых поповских душ самая обыкновенная злоба и ярость и бросаются они один на одного с кулаками. Тогда полторга сбегается на крестец глазеть, как попы волтузят друг дружку. Но и без того идут сюда люди, особенно те, кто любит помудрствовать, порассуждать о религиозных тонкостях, потешить, попользовать душу благочестивой беседой, поизощряться в заумной гово́ре; идут и такие, что жаждут поспорить с попами, потягаться с ними в знании книг и законов. Это в обычай грамотеи, книжники – дотошные, хитроумные, лукавые... Другие, менее искушённые в грамоте и святых законах, идут послушать, что-то перенять, поискуситься и опять же – отвести душу. Тут и купцы, и гости всех статей, и разный служилый люд, полно тут и простонародья – разбитных, лукавомудрых мужичков, многие из которых и книжки-то в руках во всю жизнь не держали, но так же дотошны и любознательны, как и грамотеи, и находчивы, я смекалисты, а уж каверзны – сверх всякой меры. Иной такой мужичина, бывает, такое вывернет, такую каверзу измыслит, что попы на крестце всем скопом отговорки ему не сыщут. Однако не всё тут любомудрствие, и не единственно споры, и изощрённая говоря, и рассуждения о горнем, о святом, о праведном, – люди ведь, и больше о людском, о бренном, о греховном идут тут разговоры, о земном, суетном, житейском, о самом главном и извечном – о хлебе насущном. Послушать только: вот убогонький попик с безжизненным, как будто пририсованным, личиком тоненьким, заискивающим голоском рассказывает двум другим попам – явно московским, потому что уж больно недружелюбно слушают они его, – что он не безместный, что есть у него в подмосковном селе приход, но прихожане его почти все подались на весну в Москву да в слободы на заработки, чтоб не помереть с голоду, ну и он вслед за ними тоже, чтоб не помереть с голоду. Одежонка на нём ветха, истасканна, и сам он будто из-под святых встал.
– Не гораздо тебе, святой отец, нарекатися[9]9
Нарекатися – сетовать, горевать.
[Закрыть], приход-то имеючи, – отговаривает ему один из попов – холодно и неприязненно. – Како бы не сталося у тя тамо, всё едино тяготы твои к нашим неприложимы.
– Истинно, – качнул головой и другой его слушатель и с недоброй наставительностью прибавил: – Не то беда, что во ржи лебеда, а то беды, что ни ржи, ни лебеды, яко же ныне нам, безместным, живот во скуде влачащим. А из приходу, кое бы лиховство ни всчалося, прокормитися повсегда достанет.
– Помилуй Бог, святые отцы, – робко запротестовал попик. – Како ж прокормишься, ежели к церкви уж и нищие не идут?!
– Землицею ты наделён, да и руга[10]10
Руга – вид жалованья приходского священника.
[Закрыть] тебе идёт.
– Господи, землицы-то – пяток десятин! А руги – рубль да осьм алтын с деньгой. Ризу новую не на что купити. В старой, поплаченной, кои уж лета служу. По миру хожу с крестом и святой водой, по три, по четыре раза на году хожу... Да в миру ведомо како: кто побогаче, тот в монастырь даёт, чернцам, а в приход от мирян – лише скудейшая милостыня, из коей опять же десятая часть архиепископу.
– А пошто бы вам, святые отцы, – вдруг встрял в разговор стоявший обок мужик, – не стать хлеб пахать?! Чем так-то бедовать да случайной работой пробавляться, паче уж соху наставить[11]11
Соху наставить – устроить хозяйство на новом или эапустелом месте.
[Закрыть] да и рожь сеять. Кликали третьего дня на торгу: которые люди кабальные, монастырские и всякие, чей кто ни буди, чтоб шли в государеву слободу, в Олександрову. Государь даёт по пяти Рублёв, по человеку посмотря, а льготы на пять лет.
– Слыхивали мы то кликанье, да не про нас оно, – буркнул досадливо один из попов.
– Да пошто не про вас? – удивился наивно тот. – Аль Господь вам рук не дал для трудов праведных? Аль хребта не утвердил для земной ноши?
– А пото! – почуяв не наивную заумность в вопросах мужика, грубо ответили ему. – Всякой избе своя кровля. Ишь, взбрело тебе – попу хлеб пахать! А мужику, стало быть, священнодействовать?
– Мужику також хлеб пахать, – лукаво клонил куда-то мужик.
– А кому же священнодействовать? – изумился убогий попик.
– А пошто священнодействовать? – изумился вместе с ним и мужик и вдруг оставил лукавство: – У пророка Исайи написано: «Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для меня... – говорит Господь. – Новомесячия ваши и праздники ненавидит душа моя: они бремя для меня».
– Написано, да не в твоё измышление, – резко, с надменностью и превосходством сказал другой поп. Он был явно воинственней своего приятеля. – И ничтоже в том написанном ты не выразумел, бо, очи в книгу погружая, разум свой во хлеву оставил.
– Там и разуметь-то нечего, – сказал спокойно мужик. – Господь сам всё изъяснил. «Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей моих, – говорит Он. – Перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетённого, защищайте сироту...» Вот что надобно делать, – усмехнулся кривовато мужик. – А всё прочее – то от лукавого, святые отцы.
– Наумие твоё – сё истинно от лукавого, – восстали на мужика теперь уже оба попа, а третий, убогонький, счёл за лучшее не вмешиваться в этот окаянный спор и потихоньку отошёл в сторону.
Мужик был доволен, что задел попов за живое. Глядя, как они ерепенятся перед ним, снисходительно посмеивался, молчал, слушал, видно было, выжидал, выискивая в поповских словах что-нибудь такое, что можно было бы обратить против них же самих. Но попы оказались тоже дошлыми и не без царя в голове. Особенно второй, который поначалу молчал. Теперь он яро выговаривал мужику:
– Не мни, бедник, что истину носишь в себе и пречистый свет откровения, сошедший на тя от Превышнего! Не истина то и не свет, а ересь, и пагуба, и тлен душевный. Были уж, ведаем их, что метили книги святые, яко костари[12]12
Костари – игроки в кости.
[Закрыть] метят кости, дабы вынуть обманом счастливый жеребий. Так костари обманывают иных, те же обманывали самих себя, ибо мнили, презренные, что, предоставив дождю омывать своё тело, повсегда будут чистыми и без мыльни. И тако убо вознеслись, тако убо возгордились в прокажённом своём наумии, что учали отвергати не токмо Святую соборную и апостольскую Церковь, святые книги и образа, но и на самого Христа, Спасителя нашего, воздвиглись в своём развратном поползновении! Не признавали Его равным Богу Отцу, тело и кровь Его нарекали простым хлебом и вином.
Мужик – по лицу было видно, по его ушедшей глубоко в глаза смешливости – держался своего, но помалкивал: попы попались уж больно зубастые, убеждённые и спор повели так коварно, что ухо нужно было держать остро, тем более что к ним уже начали прислушиваться и другие, стали обступать их, а среди этих других могли оказаться не только праздные слушатели.
– Вот и ты, от ветра главы своей, поползнулся в тот разврат и слагаешь словесы неприязненны... Ишь, рожу свою охмыляешь! Священнодействовать тебе почто?! И причащение Святых Таин – почто?! И покаяние?!
– Покаяние – по грехам, – спокойно, с давнишней продуманностью сказал мужик. – А на безгрешье пошто покаяние? Нешто Господу любезней зло с покаянием, неже добро без покаяния? Перестаньте творить зло, везде говорит Господь, омойтесь, очиститесь, но нигде: творите, но кайтесь! Написано: «И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а творившие зло – в воскресение осуждения!»
– Написано: «И како человеку быти правым пред Богом, и како быти чистым рождённому женщиной?» – ни на пядь не отступали попы.
– Добро и есть очищение, – стоял на своём мужик, – и спасение, и покаяние.
– Мняшеся творящим добро, како убо можешь веровати, что истинно творишь добро, не ведая, что есть истинное добро и каково его существо и каково происхожденье? Написано: «Всякое деяние доброе, и всякий дар совершенный нисходит свыше!»
Мужик не отвечал, молчал с тем особым достоинством, в котором угадывалось твёрдое сознание своей правоты, которую он не осмеливался или ещё не умел доказывать. А попы не унимались, чуя, что одолевают его:
– Если же чаешь дерзновенно утвердити себя мудростию и посягаешь постичи непостижимое, то убо и тем творишь грех, занеже писано: мудрость мира сего есть безумие пред Богом и Он уловляет мудрых в лукавстве их.
– Отверзи ся от греховного своего наумия и не преставай помнити, что Церковь Святая и ея служители пекутся о душе твоей и своя души полагают за тя, а в Судный день, более чем ты сам, должны держати ответ за тя.
...Поодаль от этих спорщиков, шагах в пяти-шести, – другая кучка людей. Тут разговор мирный, спокойный. Старый монах, похожий на ветхозаветного иерусалимского жреца, длиннобородый, сивый, с мудрым, суровопроницательным взглядом, терпеливо, просто, доходчиво и в то же время очень искусно приводит окружившим его мужикам доказательство таинству Святой Троицы:
– Когда восхоте Бог сотворити Адама, рече: сотворим человека по образу нашему и подобию. Почто рече: сотворим, но не сотворю? – Взгляд его выбирает одного из мужиков, терпеливо, благожелательно замирает на нём. Мужик долго и добросовестно думает, корча лицо от мучительной тягости мыслей, наконец сдаётся, рот его начинает расплываться в виноватой, беспомощной улыбке. – Того ради рече, – продолжает монах, как бы приходя мужику на помощь, – что не едино лицо божества есть, но трисоставно. А что по образу, а не по образам, – значит, едино существо являет Святая Троица.
Неклепистый мужик, да и все остальные, окружившие монаха, лишь поражённо плямкнули губами.
– Сотворим, рече, человека... Кому глаголет? – Монах на мгновение задумался, словно и сам не знал ответа. – Не явственно ли есть, что ко единородному сыну и слову своему рече, и Святому Духу. Еретицы же отвещают: несть, сам собе Бог рек, бо никого же иного тогда не было. Но разве не глупы их словеса? Кый убо зодчий, или древодел, или усмарь[13]13
Усмарь – кожевник.
[Закрыть] над сосудом или над коим зданием, седя един, без помощников, глаголет сам к себе: сотворим сосуд, или сотворим орало, или утвердим усмы, а не молча ли своё дело соделает? И паки бесстыдствует еретик и рече, что ко ангелам глаголет Бог.
Монах спокойно оглядел своих слушателей, спокойно, совсем без назидательности сказал:








