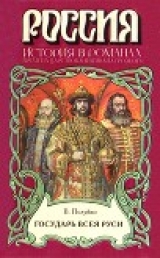
Текст книги "Государь всея Руси"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 35 страниц)
2
Отворив дверь в царскую опочивальню и откинув парчовый полог, Епифаний чуть было не отпрянул назад – прямо перед ним, в каком-нибудь шаге, стоял Иван, отрешённо-насупленный, стромкий, со скрещёнными на груди руками. Он был неодет – в одной лишь ночной рубахе, босой, нечёсаный... Казалось, только-только подхватился с постели. Увидев Епифания, насупился ещё пуще и долго смотрел на него невидящим взглядом; наконец, буркнув угрюмо-досадливое: «Явился», – медленно, как бы через силу, повернулся и пошёл к скамье, стоявшей у ближней стены. Сел, наклонил голову к груди и, казалось, тут же забыл про Епифания.
Епифаний погасил свою свечу, поставил её на залавок.
– Никак, сон дурной приснился? – спросил он участливо, проходя к середине опочивальни.
– Мне всегда снятся дурные сны.
В опочивальне было довольно светло: в высоком напольном шандале из чёрного дерева горела толстая, в руку, свеча. По запаху расплавленного воска, наполнявшему всё помещение, Епифаний определил, что свеча горит давно. Он внимательно посмотрел на Ивана – спал ли тот нынешней ночью?
Иван почувствовал и перехватил этот взгляд, но понял его по-своему.
– Не молился я нынче, – сказал он виновато и раздражённо.
– Что ж так? Молитвы позабыл?
– Мыслей много... Греховных и злых. Я на колени, молиться, а они сквозь молитвы лезут...
– Что ж, молитва не есть обязанность, – задумчиво произнёс Епифаний как бы в оправдание Ивана, но по тому, как это было произнесено, чувствовалось, что в нём говорит не лицеприятная снисходительность, не угодничество или лицемерие, а его личная твёрдая убеждённость. – Молитва – то просьба о Господнем призрении, просьба о помощи, о защите... Молитва – також и покаяние, но не сама вера.
– Что? Что ты сказал? – будто не расслышав или не поверив своим ушам, переспросил Иван.
– Реку аз, что молитва не есть обязанность, – спокойно повторил Епифаний. – Человек волен просити Господнего поспешен ия, волен и не просити, ежели в нём достатне собственных сил, чтоб нести свою ношу земную И Господь не пресекает человеческой воли, не возбраняет ему полагатися на собственные силы. Написано: он от начала сотворил человека и оставил его в руце произволения его.
Иван смерил святого отца взглядом, медленно, с головы до ног, но взгляд этот не был ни злым, ни презрительным – он был удивлённым и вместе с тем несколько растерянным, даже смущённым, словно царь почувствовал свою вину в том, что Епифаний осмелился говорить ему такое, а может, в глубине души невольно и согласился с ним.
– Беда мне с вами, попами, – вздохнул он досадливо и намерился было встать, но потаённые беспокойные мысли остановили его. – Силивестр был... Властию мирского прельстился, поправ свои священные обеты и право предстоять со ангелами у престола Господня. Андрей... теперь уж Афанасий, – тот себе на уме. И честолюбив зело. Предложил я ему постриг принять, думая поручить после Макария Церковь Святую нашу... дабы не подпала она под власть людей зловредных и супротивных мне. И что же? Колебался преподобный? Раздумывал с тягостью неосильной? Ничуть! Враз согласился! Зато теперь я всколебался и раззадумался: а моего ли хотения ради так прытко навлачил он на себя чёрные ризы? Иль, буде, токмо единого ради хотения стать митрополитом? Ты како мнишь? – спросил он, совсем уже отклоняясь от первоначальной мысли.
– Аз никако не мню. То не мои заботы. Мои заботы – твоя душа.
– Вот, вот! От тебя мне беда ещё пущая... Бо ты – еретик! – закончил Иван свою мысль, к которой вернул его своим ответом Епифаний. – Поди-ка скажи такое митрополиту! Он тебя враз извергнет из иереев.
– Почто мне речи сие митрополиту? Аз реку тебе. А ты уразумевай. Имеющий уши слышать, да слышит.
Иван снова смерил его взглядом – теперь уже жёстким, немирным.
– Неужто мне стать спорить с тобой о догматах? Враждовать ещё и с тобой? Мало мне вражды от бояр? – Он помолчал, хмуря чело и как будто пересиливая в себе какие-то иные мысли, которые мешали ему сосредоточиться на этом разговоре. – Я тебя избрал, видя твоё благочестие, для духовной пользы, – вновь заговорил он уже с открытым упрёком, – чтоб душу мою призрел, грехами обременённую... И чтоб убавил, чтоб расторг скверну грехов моих, а ты новый грех прилагаешь к моим грехам, вводя меня во искушение своим лукавомудрием. Не уразумеваю я твоих мудрований и уразумевать не хочу. Они обременительны для меня и тлетворны! Ты приходишь и учишь меня тому, чему никто не учил!
– Тебя учили книжники и фарисеи, – невозмутимо изрёк Епифаний.
У Ивана только хлипнуло в горле – и ни звука больше. Он, должно быть, впервые утратил дар речи.
– Они требовали от тебя бездумного исполнения законов, так, яко ясти тебе и пити и нужности естествотребные отправляти. И воззывали не к разуму твоему, но к тому тёмному, что лежит в тебе под спудом, где ты и зверь, и раб, и слепец.
Иван молчал, только чело его вновь потемнело и в глазах появилась хищная настороженность.
– Аз буду учити тебя не страху Господнему, но Господней премудрости, и обращатися к разуму твоему – по глаголу Иоанна Златоустого: «Не послушники будем, но творцы закону». Завет Господа нашего надобе разумети, занеже составлен он мудростию Христовой, и составлен он для избранных, для тех убо, в ком пребывает дух истины, ведущей в царствие Отца светов. И составлен он Властелином, ибо написано: он учил как власть имущий, а не как книжники и фарисеи.
– Будешь учить... Господней премудрости? – глухо, как сквозь стиснутые зубы, проговорил Иван, глядя из-подо лба на Епифания. – Той, что сокрыта ото всех?.. Опричь избранных? Стало быть, ты и сам избранный, коль тебе доступна сия премудрость?
Вопрос Ивана, коварный, подколодный вопрос, не смутил, однако, Епифания. Напротив, как будто даже обрадовал, словно он ждал его – как вызова на открытый бой.
– Человек – создание двух сил. Плоть его и душа суть творения сил преисподних. От горних, божественных, сил в человеке – дух. И тые убо, что открывают в себе дух сей, становятся избранными, не подвластными низшим силам, управляющим телом и душой. Им, и токмо им, Христос заповедал своё учение. «Аз знаю моих, и мои знают меня», – речено им. Они сыновья света и могут быти повсюду – ив гное, и среди тех, кто восседает на престолах.
– Подступи же поближе, – повёл Иван рукой – как подманивал, – дабы мог я как следует разглядеть избранника Божия. Да скажи, каковую лампаду жечи над красотою лика твоего?
– Дух незрим. Что будешь впусто глядети? – спокойно ответил Епифаний, словно не почуял грозного Иванова ехидства.
– Незрим дух истины, праведности… Но дух лжи и ереси виден воочию!
– Еретицы не тые, что имеют рассуждение о законах Божиих... Христос сам указал, что наибольшая заповедь в законе – возлюби Господа сердцем и разумом. Разумом! Еретицы суть тые, что предназначенное немногим, избранным, тщатся ложным внушением распространит» на всех. Они внушают послушающимся им, что всяк убо достоин царствия Божия и всякому убо отверсты туда врата, токмо блюди закон: молись, постись, не греши... Но Христос заповедал свою заповедь: «Не всякий, глаголющий мне: «Господи, Господи», войдёт в царствие небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного!» А что есть воля Отца Небесного?
– Всё, что написано в Святом Писании, и есть воля Отца Небесного. А что сверх сего – то от лукавого! – с гневным вызовом ответил Иван и вновь намерился встать, но недосказанное опять удержало его. – Мы научены Святым Писанием не давать себе воли представлять умом что-нибуди, опричь дозволенного!
– Не Писанием ты научен, а книжниками и фарисеями. Но да услышь слово Христа: «Ежели праведность ваша не превзойдёт праведности книжников и фарисеев, вы не войдёте в царствие небесное!»
Рука Епифания вознеслась в какой-то нечеловеческой угрозе, и Иван, кажется, впервые дрогнул перед ней. В его глазах, устремившихся за этой угрозливой дланью, промелькнул страх, но вряд ли то был страх, который мог помочь Епифанию одолеть его, убедить, смирить; да и не смиренности, не кротости хотел от него Епифаний, и даже не согласия и единодушия, – он хотел от него понимания, осознанности того, что называл избранностью, ибо без этого всё остальное было бессмысленно.
– ...Внимающего словам о царствии небесном, но не разумеющего их, Христос уподобил посеянному у дороги. Упомни, како растолковал он сию притчу: к таковому приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его.
– Буде, ты и есть тот самый лукавый, что тщится похитить посеянное в сердце моём? – сказал Иван с тягостным вздохом, и это «буде», лишившее его слова́ твёрдости, тоже было победой Епифания, маленькой, но победой. – Худо мне с тобою, ох как худо! – Иван откинулся к стене, мучительно застонал, скривился. – Жалею уже, что избрал тебя в духовные отцы. Ну что тебе надобно от меня? Пошто ты приходишь и мучишь, мучишь меня? Неужто мне мало мук? Поглянь, сколико врагов изощрили на меня зубы свои!
– Да, тебе худо со мною. А паче скажи: неизворотно.
Сказано это было безжалостно, непреклонно, но не дерзко, не вызывающе: неожиданная жалобность Ивана не тронула Епифания, но и не обольстила, не лишила трезвости. Он понимал её природу, зная, как любит Иван выставлять напоказ свои муки и горести и как нравится ему, когда его жалеют, когда скорбят вместе с ним о его нелёгкой доле. Нелёгкой, верно. Даже то, каким застал он его сегодня, подтверждало это. Доля его и вправду была трудна, жестока, но, к чести своей, он стойко сносил её (это тоже знал Епифаний), и не только сносил – дерзко противоборствовал ей, а вот удержаться, не выпятить этого, не приподнять повыше, на обозрение всем, – не мог. Вероятно, страсть к лицедейству проявляла себя и тут, но было и другое – глубинное, сокровенное, может быть, не совсем и осознанное, а потому и не лишённое искренности, не превратившееся в заведомое притворство и игру в мученичество. Это и в самом деле не было игрой в мученичество – это было возвеличение мученичества и себя в нём.
Ипостась мученика, страдальца не могла не привлекать его: от мученика до святого всего один шаг, а святость – величайшее обретение. Его прямые предки Александр Невский и Дмитрий Донской – святые! Их имена навечно вписаны в святцы! В их честь возводят храмы! Им поклоняются! Неужто же он не достоин такого?! Неужто же его деяния и подвиги не равны их деяниям и подвигам?! Им воздано также и за страдания, за великие муки, которые вытерпели они, неся свой крест. Но и он пьёт из той же чаши! Она тоже не минула его! Он тоже мученик, тоже страдалец, и крест его так же тяжек!
Но святость, даже если он заслужит её, – и утеха, и вечное успокоение, и вечное блаженство – это там, за гробом. А здесь, в жестокой земной жизни, всё его человеческое остаётся с ним, и его не заслонишь царским, не обольстишь, не подкупишь венцами и скипетрами, не подавишь никаким усилием воли; больное, горькое, нескорбевшееся, оно рвётся наружу – за состраданием, за сочувствием, и тянется к ним, ищет их, пускаясь на всякие уловки и ухищрения, или просто, вот так, как сейчас, взывает, просит...
Относиться к этому можно было по-разному: верить – не верить, откликаться на него – не откликаться, жалеть его – не жалеть, быть искренним или притворяться, насколько позволяла его проницательность; нельзя было делать лишь одного – принимать всё это за слабость, беспомощность, беззащитность и пытаться воспользоваться этим.
– Ты извык всё делати так, яко было тебе удобно, – продолжал Епифаний прежним тоном – строго, твёрдо, но не резко, не гневно, умело удерживаясь на той последней грани, которая отделяет упрёк от обличения. Слово трогает разум, тон – душу. Противостоять такому союзу ему было не под силу, и он не трогал души. – Ты и жил тако, и верил. А научители твои, в уподобаиии рьянясь[213]213
В уподобании рьянясь – желая быть приятным, желая нравиться.
[Закрыть], потакали тебе. Ты погрязал в грехе, в стыдодеяниях, в страстях долевлекущих, а они твердили тебе: молись – и всё простится.
Прорвись в голосе Епифания хоть один-единственный резкий звук, хоть одно-единственное обличительное восклицание – и Иван вряд ли бы дал ему договорить, ведь Епифаний преступал уже все пределы дозволенного. Такое Иван позволял лишь себе самому – в порывах самобичевания. Но Епифаний не забывался ни на мгновение, зная, что он сейчас – как перед остриём меча, приставленного к его груди.
– ...Аз же реку: несть! Не молитвы спасут, но дух предвечный и свет, которые от божества. Открыти в себе их и познати – сие убо и есть воля Отца Небесного и единый путь ко спасению. Написано: кто не родится от воды и духа, не может внити в царствие Божие. Ещё написано: рождённое от плоти есть плоть, а рождённое от духа есть дух. Задумайся, о чём сии слова? На что указуют они?
Иван, до сих пор почти не сводивший глаз с Епифания, потупился. Должно быть, и вправду задумался. И хотел задуматься. Не могло ведь такого быть, чтоб услышанное не вызвало в нём, помимо протеста и страха, ещё и желания вникнуть, разобраться в этом своим умом, хотя ему сейчас явно было не до того. Не о церковном предпочёл бы он сейчас говорить, а о мирском. Оно, мирское, не дало ему нынче сомкнуть глаз.
Задумался Иван. Но Епифаний тут же прервал его раздумья: у него давно был готов ответ.
– На то указуют сии слова, что все люди разделены изначально. В одних пребывает частица Божественного духа – и сии суть избранные. Остальные закоснены во плоти. Они – животные в образе человеков. Адам съел плод древа, которое порождает животных.
Иван побледнел, слушая это, и как-то весь сжался, напрягся, словно силился защититься от слов Епифания, не дать им проникнуть в свою душу ещё глубже, за тот рубеж, где кончалась его власть над собой. Он смотрел на него как на заклятого врага, но страх перед тем, в чём Епифаний мог оказаться правым, был сильней злобы, подавлял её, лишая его даже этого привычного оружия, которое выручало его во всех случаях жизни.
– ...Таковые не могут спастися вовсе, и пред ними незачем проповедовати Христово учение. «Не давайте святыни псам и не мечите жемчуга вашего перед свиньями!» – речено им самим. О том же говорит и Павел в Послании к Коринфянам: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными».
– Нет! – с дрожью выдохнул Иван. – Не верю тебе! Не верю! – Он задрожал ещё сильней, теряя остатки самообладания, и вдруг, пронзённый новым – суеверным – страхом, вскрикнул, заслоняясь от Епифания, как щитом, согнутой в локте рукой: – Ты бес! Бес! – Он лихорадочно сотворил защитительный крест. – Сгинь! Сгинь, окаянный!
Епифаний невозмутимо, сурово смотрел на него. Только сейчас сквозь эту невозмутимость и суровость тончайшим, еле уловимым и конечно же невольным проблеском прорывалось презрение – то самое презрение, которое он питал ко всему роду человеческому: «Ах, худые, мерзкие! Дьявола – страшитесь, а Бога, всемогущего и всевидящего, пред которым вам ответствовати в судный час, – не страшитесь!»
И Иван, даже сквозь дикий страх, почти затмивший ему сознание, уловил это презрение, и оно немного отрезвило его.
– Не верю тебе, не верю! Нет разделения! Все могут спастись, все! – прокричал он грубо, с вызовом и угрозой, словно отплачивал Епифанию за свой страх и за то презрение, которое всё ещё чуял в остриях его зениц. – Написано: так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего единородного, дабы всякий – слышишь, всякий! – верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Он Сына своего, чтоб судить мир, но чтобы мир спасён был чрез Него! И Павел, которого ты приводишь, говорит в послании к тем же коринфянам: не знавшего греха он соделал жертвою за грех, дабы мы в нём соделались праведными пред Богом.
– Разумею, чего ты испужался, – усмехнулся Епифаний, и эта усмешка погасила в его глазах остатки невольно прорвавшегося презрения, но она была и последним уколом этого презрения. – Не бойся, ты – не плотский. Посему убо и приял на себя заботы о твоей душе, посему и «мучу» тебя... Другие – ласкали, и ты возлюбил ласку и ласкателей вяще, нежели Бога и святую истину Его. Посему свет, который ты мнишь в себе, давно стал тьмою, и там, где ты чаешь обрести спасение, обрящешь лише плач и скрежет зубовный. Об искупительной жертве Христа ты говоришь правильно, но... Христос приходил выкупити лише некоторых... Своих...
– Нет! – саданул Иван кулак об кулак, в готовности броситься на него.
– Да, – спокойно остановил его Епифаний. – Написано: кого Бог предузнал, тем и предопределил быти подобными образу Сына Своего, а кого предопределил, тех и призвал...
Ивана словно ожгло: эти апостольские слова он сам недавно приводил кому-то для доказательства того же самого, что доказывал ему сейчас Епифаний, – Божественной избранности одних и ничтожества других.
Перед его мысленным взором в одно мгновение пронеслись сотни лиц, и память безошибочно вырвала из этих сотен простого мужика с ямской станции в Клину. Он явственно услышал его голос: «Человек хочет добра, счастья, а счастья на всех поровну не припасено. К одному оно в тройках скачет, а к другому и пеши не прибредёт, Раздели Бог счастье поровну промеж всех – усмирились бы люди!» Поровну! На это «поровну» он тогда и ответил ему вот этими самыми словами, которые только что изрёк и продолжает изрекать Епифаний.
– ...а кого призвал, тех и оправдал.
«Тех и оправдал», – мысленно повторил за ним Иван, и вдруг снова нахлынуло суеверное: подумалось, что Епифаний каким-то образом (уж не дьявольским ли и вправду?!) сумел проникнуть в его мысли, вызнать их – даже столь давние, о которых он сам успел позабыть. Подумалось, что он и слова сии привёл намеренно, чтоб намекнуть ему на это. Ещё подумалось, что к нему и вообще-то, помимо Епифания, давно уже подступают какие-то тёмные, нечистые силы, и в душу холодной струйкой снова потёк страх. Он опять побледнел, сжатые в неистовстве кулаки беспомощно опустились.
– ...А оправдав, сиречь ознаменовав духом Божественной истины, положив их залогом по воле своей, послал Сына Своего отъяти своих от чужих. Христос приходил отделити плевелы от злаков, как писано: лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Своё, и соберёт пшеницу в житницу, а солому сожжёт огнём неугасимым.
Иван тупо, отрешённо смотрел на Епифания, приблизившегося к нему на совершенно недопустимое расстояние, и, казалось, совсем не слушал его. Но это только казалось. Чутьё безошибочно подсказывало Епифанию, что именно сейчас он слушает и вникает в каждое его слово с наибольшим вниманием. Потому что только сейчас все те мысли – иные, далёкие от того, о чём шёл разговор, собственные мирские мысли царя окончательно отступили под влиянием слов Епифания (каких именно – он не знал), и святому отцу наконец-то удалось сосредоточить Ивана на своём. И потому-то позволил себе Епифаний приблизиться к нему, нарушить расстояние почтительности, которое обязаны были соблюдать все, даже столь близкие, как духовник, – нарушить, чтоб приблизить к нему – не себя, нет! – а то, что́ говорил и что́ готовился ещё сказать, и чтоб беседа их стала всё-таки беседой, ибо покуда что она больше походила на пререкание упрямцев.
– ...Отделив своих от чужих и прияв их грехи на себя, Христос оставил им свой завет, исполненный глубокой Божественной мудрости. Она тайная, прикровенная, в символах и образах. Чужим она недоступна. Постигающий тайну Христовой мудрости, истинный смысл Его завета, открывает для себя и путь духовного совокупления с божеством. «Познаете истину, и истина сделает вас свободными!» Свободными – от мира, от соблазнов его и скверны, от всего, что каждодневно умножает греховность и убивает дух, который от божества.
– Распять тебя надобно, а я внимаю тебе, – тихо, беззлобно, в глубокой задумчивости, почти отрешённо, как будто вслушиваясь в себя, вымолвил Иван, явно поколебленный доводами Епифания.
– Христа також распяли...
– Замолчи, – ещё тише, словно таясь от кого-то, сказал Иван. – Насладился уж, паче мёда и сота, словес твоих душеполезных. Всю душу взмутил. Чую, что еретик ты... Чую! Но мне легче отправить тебя на плаху, нежели разоблачить твою ересь. Упрятал ты своего червя в прочный кокон.
– Паче врагов своих отправь туда. Большая польза выйдет, ибо и вправду изощрили они на тебя зубы. Не плачься и не стенай и не сиди взаперти зверем загнанным. Простри на них десницу свою карающую, и пусть оравшие нечестие и сеявшие зло пожнут его, как писано.
Иван подозрительно скосился на него и разом посуровел: непрошеных советов он не любил. Но – смолчал. Очевидно, только непрошеность и не пришлась ему по душе.
– ...Иль заповедь блюдеши: оставляти согрешившему противу тебя? Седмищи оставляти седмищи согрешившему?
Теперь они в упор смотрели друг на друга. Епифаний позволил себе прямо взглянуть в его кромешные глаза – как правый, чью правоту не отвергли и не оспорили.
– ...Но та заповедь не для царей. Ежели тебя ударят по одной ланите, ты что же, обратишь другую?
Иван не ответил, но видно было, как сквозь страх отступничества в нём рванулось и чуть не вскрикнуло внутреннее, протестующее: нет!
– ...Неужто ты николи же не думал об том: должен ты обратить другую ланиту иль не должен? Ты?! Царь?!
– Думал, – сознался Иван, должно быть неожиданно для самого себя, и вдруг с яростью, будто был изобличён в чём-то скверном, дурном, позорном, вскочил с лавки, оттолкнул Епифания и заорал с надрывом и злобным отчаяньем: – Ты бес! Бес! Откуда тебе ведомы мои мысли?!
– Аз не вем твоих мыслей. Но зрю на тебя яко на царя. Христос выделял царей. Речено им: кесарю – кесарево, Богу – Божие. А в древних отречённых книгах было написано: а мне – моё!
– Откуда тебе ведомо, что было написано в отречённых книгах? Ты что – читал их? Назови те книги! Где они?
– Тех книг уже нету. Извратители Христова учения уничтожили их. Но Христос говорил именно так, ибо то говорил Властитель!
– Ты бес! Бес! – Голос Ивана надломился, обессилел, перешёл в шёпот. – Ты захитил мою душу и разум мой обаял своими бесовскими кощунами. Чую, что начинаю думать уже как ты...
– То гораздо. Стало быть, дух, коим тебя наделили Божественные силы, пробудился в тебе, и ты приобщился святой истины, яко приобщаешься Святым Дарам. Ибо мысли мои – николико же не мои. Они суть частица сей истины, выводящей избранных на стезю спасения.
Иван вновь опустился на лавку – обессиленный, покорный, с виду будто окончательно сломленный. Голова его тяжело обникла к груди, он неловко подпёр её растопыренными пальцами и замер, затих, словно приготовился к чему-то ещё более худшему или уже почуял его – в самом себе. Молчал и Епифаний. Он вдруг понял, что, сколько бы ещё ни продолжал говорить и как бы ни изощрялся в доводах, последнее слово всё равно останется не за ним, ибо самого главного, самого весомого он не сказал, и не сказал потому, что, вероятно, и сам ещё не отыскал это самое главное и весомое.
Иван долго сидел так – в полной неподвижности, даже дыхания не было заметно, только растопыренные пальцы, туго обхватившие и сжавшие лоб и виски, изредка расслаблялись и пошевеливались, словно уставали сопротивляться напору мыслей, которые хлынули сейчас в него. А мысли эти были мучительны, ибо теперь шли из него самого, и он сам, а не Епифаний, задавал себе вопросы и сам отвечал на них – отвечал так, как и не подумал бы ответить Епифанию, и залезал в такие глубины своей души, в такие потаённые её уголки, куда не было доступа никому. Быть может, сейчас в этих мыслях им самим досказывалось то, чего не сумел досказать Епифаний.
– Говоришь: дух пробудился Божественный? – нарушил молчание Иван. Он не отнял руки от лица, лишь чуть приспустил её – до уровня рта, и, быть может, поэтому вновь получился шёпот, но это уже был не тот обессиленный и надломленный шёпот, который несколько минут назад вырвался из его уст. Смятение, страх, подавленность, видать, уже отступили, он сумел превозмочь свою слабость и отчаянье: недолгая, но мучительно-напряжённая работа ума, похоже, окончательно отрезвила его. И действительно, он тут же заговорил спокойным, ровным голосом, в полной трезвости ума, как будто и не было ничего этого – ни отчаянья, ни смятения, ни суеверного ужаса и истеричных, почти безрассудных воплей.
– Что-то не чую я сего пробудившегося духа, а греховность мыслей твоих, ересь твою – чую. Но, гляди же, не отвергаю, не восстаю и даже не подумываю пресечь её. Она проникла в душу мою, и душа моя – сознаться страшно! – откликнулась на неё. Стало быть... – он собрался с духом, – стало быть, я такой же, как и ты, еретик? У каждой ереси – своя истина. Ведомо. И непременно святая. Без сего не бывает ересей. У меня она також есть... своя истина. А тут ты явился – со своей... И обуял меня соблазн... Сперва страх и ужас, а теперь – соблазн. Вот он, впился в мою душу, яко аспид, сей соблазн: соединить, совокупить твою истину со своей... О, тогда много, вельми много будет свободы! Но тогда станет ненужной сама истина! А без истины...
«А без истины человек – зверь. Поганый, лютый, безобразный зверь», – тут же вспомнился ему Фома-еретик, с которым он разговаривал в пыточном застенке полоцкой градницы. Но Фома ему не подсказ. Он уверен, что человек и без истины, и с истиной – всё равно зверь.
– ...А без истины что без Бога. А без Бога, без откровения свыше человек необуздан. А необузданность – сё зло. Я же не хочу зла. Не хочу! Видит Бог, не хочу!
– Не хоти, ежели ведаешь, что есть зло и что – добро. А коль не ведаешь, поступай убо, како велит тебе твоя совесть. И памятуй: кого Бог избрал, тех и оправдал. Зло, которое оправдано, – не зло, а правота. Ты не злой и не добрый, ты – правый.
– Вот, вот она, моя истина! – вскричал Иван. Теперь он как будто обрадовался тому, чему недавно суеверно ужасался: способности Епифания угадывать его сокровенное, – Но скажи, коль ты столь многое постиг... Скажи: а ежели... – Он вдруг запнулся: видать, то, о чём хотел спросить, было гораздо легче держать в мыслях, чем облечь в слова.
– Ежели ты не прав? – помог ему Епифаний.
Иван кивнул.
– Но нешто ты сам себя избрал? Тебя избрал Бог. Нетто же Он может ошибатись?
Но такой ответ не удовлетворил Ивана. Епифаний видел это по его глазам, видел, как они потускнели, утратили тот радостный блеск, который появился в них, когда он воскликнул: «Вот, вот она, моя истина!»
– ...А буде не веришь моим словам, вопроси Его самого... Да, самого Бога! Ступай к образам и молись, молись до изнеможения. Он услышит тебя и ответит. И коли восприимешь глас Господень, тогда окропишь свою душу слезами прозрения, и то будут поистине исцеляющие слёзы! Оттоле ты уже не будешь ведать сомнений!


![Книга Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного] автора Елена Арсеньева](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zheny-groznogo-carya-garem-ivana-groznogo-213715.jpg)





