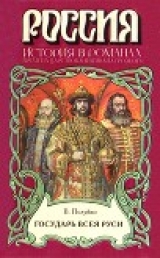
Текст книги "Государь всея Руси"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 35 страниц)
3
Монашеский клобук и монастырская келья могли бы и вправду стать для Курлятева надёжной защитой и местом душевного успокоения, если бы он только этого и искал – защиты и успокоения, но, обосновавшись в монастыре и поняв, что монашество ничему не помеха, он стал искать иного – возможности и способа навредить, отомстить Ивану. Перед его мысленным взором, наверное, стоял пример другого, такого же, как и он, опальника – знаменитого Вассиана Косого, в миру князя Василия Патрикеева, который, будучи насильно пострижен великим князем Иоанном – якобы за дерзость и высокоумие, а на самом деле за козни против Софии Палеолог, – не только не присмирел в монашестве, как на то рассчитывал Иоанн, но сделался впоследствии для его сына Василия и для самой великокняжеской власти гораздо более опасным противником, чем был тогда, когда оставался мирским князем, ибо, став монахом и добившись большого влияния на дела церковные, сумел втянуть в борьбу с Василием самое Церковь, настроив против него одну из противоборствующих друг с другом партий церковников – нестяжателен.
Нестяжатели, или, как их ещё называли, заволжские старцы, имея в виду расположение их главной обители – Кирилло-Белозерского монастыря, в стенах которого и зародилось это течение, никогда не отличались особым почтением к великокняжеской власти (хотя бы уже потому, что власть эта всегда незримо стояла за спиной их главных противников – иосифлян), но и открытой неприязни, тем более вражды, тоже не было, и не явись тогда в их стане Вассиан с его затаённой ненавистью к великокняжескому дому, их отношения с великим князем могли сложиться совсем иначе. Они вполне могли бы поладить с ним и даже сделать его своим союзником, потому что союз с ними и претворение в жизнь хотя бы части того, что они проповедовали и за что боролись с иосифлянами, сулили престолу огромные выгоды: все монастырские земельные владения перешли бы в государственную казну, так как именно против владения монастырями землёй, сёлами, крестьянами в первый черёд и восставали заволжские старцы. «Где в евангельских, апостольских или отеческих преданиях велено инокам сёла многонародные приобретать и порабощать крестьян? – писали они в своих сочинениях, расходившихся в многочисленных списках по Руси. – Вшедши в монастырь, не перестаём чужое себе присваивать всяческим образом, сёла, имения, то с бесстыдным ласкательством выпрашиваем у вельмож, то покупаем. Вместо того чтобы безмолвствовать и рукоделием питаться, беспрестанно разъезжаем по городам, смотрим в руки богачей, ласкаем, раболепно угождаем им, чтоб выманить деревнишку или серебришко».
Заполучить монастырские земли! Кто же из великих князей, хотя бы втайне, не мечтал об этом?! Ведь это было равносильно присоединению к Москве целой страны, целого государства! На этих землях можно было бы дополнительно испоместить многие тысячи служилых людей, без которых уже никак не могли обходиться ни Россия, ни её государи. И чем могущественней становились они, чем шире раздвигались пределы России, тем всё большей становилась нужда в этих людях, а значит, и в земле, которая по-прежнему являлась единственной платой за их службу. Свободной же земли, и не просто земли, а роспаши, доброй, угожей, было так мало, что приходилось считать каждую десятину; та же, что лежала впусте, не многих влекла к себе: селиться на сыром корню – на новом, необжитом, диком месте – мало сыскивалось охотников.
При таком положении движение нестяжателей оказалось как нельзя кстати, и их призывный глас не мог быть не услышан державным слухом. Уже великий князь Иоанн Васильевич, при котором нестяжатели впервые заявили о себе, с благосклонностью поглядывал в их сторону и даже поднимал вопрос о монастырском владении на одном из церковных соборов, но, возможно, лишь для того, чтоб прощупать силы как нестяжателей, так и их противников иосифлян, а вмешиваться в их спор не стал, не осмелился или, скорее всего, будучи по природе человеком крайне расчётливым и осторожным, решил повременить, дождаться более благоприятной поры, чтоб действовать наверняка, как он обычно и предпочитал действовать.
На соборе тогда верх взяли иосифляне, но торжество их, казалось, будет недолгим, потому что севший вскоре на отцовский престол Василий начал уже открыто поддерживать нестяжателей Он даже приблизил к себе Вассиана, велев ему перебраться из Кирилло-Белозерского монастыря в московский Симонов, и сделал это, разумеется, вполне намеренно, в пику иосифлянам, давая понять им, на чьей он стороне и какую цель преследует.
Вассиан не пренебрёг великокняжеской милостью, принял её, ибо и у него была цель. Своя! Он к тому времени уже стал признанным главой нестяжателен, сменив в этой роли умершего Нила Сорского, знаменитого основателя отшельнической обители на реке Соре. Его имя благодаря решительности и упорству, с которыми он отстаивал нестяжательские идеи, приобрело широкую известность, особенно в среде чёрного духовенства, а ум и учёность, разительно отличавшие его от большинства его собратий, смелость и независимость суждений, впечатлявшие ещё сильней, чем ум и учёность (ибо кто же ещё на Руси отваживался чудотворцев называть смутотворцами), и страстная, деятельная, сильная натура его, унаследовавшая всё лучшее, что было в крови клана Патрикеевых, способствовали тому, что он, оставаясь, по сути дела, рядовым монахом, сделался одним из влиятельнейших, если не самым влиятельным, деятелей Церкви. Сближение с Василием давало ему дополнительные преимущества и ещё более укрепляло его положение. Он теперь имел возможность если и не использовать в своих целях великокняжескую власть, то уж, во всяком случае, исключать её противодействие, что для него при его уме было даже важней, и он не преминул воспользоваться этой возможностью. С его помощью нестяжатели начали сперва потихоньку, а потом всё смелей и смелей наступать на иосифлян, вытесняя их и из епархий – с епископских кафедр, и из монастырей – с настоятельских мест, и наступление это, умело направляемое Вассианом, оказалось столь успешным, что нестяжателям в конце концов удалось посадить своего единомышленника даже на митрополичий престол – на целое десятилетие во главе Церкви стал бывший постриженник Кирилло-Белозерского монастыря Варлаам[227]227
Варлаам – возглавлял Русскую Церковь в 1511—1521 годах.
[Закрыть].
Для нестяжателей это были самые благоприятные времена. Лучших они не знавали уже никогда. В это время внимание к ним со стороны великого князя и его поддержка стали такими, что брось они открытый вызов иосифлянам, потребуй созыва нового собора, и победа в этой новой схватке им была бы обеспечена. Но Вассиан думал не только о победе над иосифлянами, которая, конечно, была нужна и важна: много желанных перемен могла принести она с собой, особенно в жизни духовной, о чём он как раз и мечтал и к чему постоянно стремился вместе со всей своей нестяжательской братией. Он верил, что эти перемены поселят в святых обителях дух сурового, истинного благочестия и подвижничества, который растечётся из них, как из родников, по всей Руси, напитывая её своей живительной силой, ибо, в отличие от иосифлян, смотревших на монастыри прежде всего как на место, где должна была вызревать сильная церковная власть, они, нестяжатели, считали и хотели видеть монашеские обители хранителями и распространителями высокой нравственной чистоты, каковой требовали законы веры, столь легко нарушаемые не только в миру, но даже самими церковниками. Поэтому это была бы не просто победа одной группы людей над другой, а победа новых нравственных устремлений, новых идей и новых взглядов на духовную жизнь и духовность, которые, между прочим, проявлялись не только в движении нестяжателей – много было вокруг других явлений, где это новое в полный голос заявляло о себе, за что так же, как и нестяжательство, было гонимо и проклинаемо, – вот почему так нужна и важна была эта победа, могущая принести если и не полное торжество этому новому, то хотя бы прочно утвердить его в правах. Однако ещё нужней и важней была для Вассиана другая победа, к которой он стал стремиться (пусть и не сразу осознанно) с того самого дня, когда на него насильно надели монашеский клобук.
Поначалу им двигало сугубо личное, и всё, что заключало оно в себе – обиду, ненависть, зло, порождало в нём лишь одно желание: отомстить за себя, поквитаться со своим обидчиком... Для бывшего мирского князя, дерзкого, гордого, своенравного, воспитанном на обычаях вотчинной вольности, это было естественное желание. А монах тогда ещё не жил в нём (или молчал!), и дела церковные – все эти споры иосифлян с нестяжателями, борьба с ересью и прочие стычки и свары, не утихавшие между святыми отцами, – тоже были безразличны ему, хотя, очутившись после пострижения в Кирилло-Белозерском монастыре, он сразу же примкнул к нестяжателям, но опять же лишь из чувства протеста, предпочитая находиться в стане тех, у кого также имелось достаточно своих причин быть недовольными великим князем.
Он, конечно, и не подозревал тогда, что этот поступок, этот дерзкий порыв души, приведший его в стан нестяжателей, определит всю его дальнейшую жизнь. Но получилось именно так. Нестяжатели очень скоро увлекли его за собой – на те «круги своя», по которым текла монастырская и церковная жизнь, с виду только спокойная и безмятежная, – и не только увлекли, но открыли перед ним благородную и высокую цель – как раз то, чего ему не хватало в миру. Произошло неожиданное. Заключая его в монастырь, обрекая на тихое келейное прозябание, в нём стремились убить его дерзкий мятежный дух, подавить его волю, осмирить, пригнести, отупить его душу и разум закосневающим однообразием монастырского быта, а вышло наоборот. Монашество как бы подняло его на какую-то высшую ступень, и его душа, разум, дух, воля, освободившись от мирской суетности, от низких страстей и помыслов, стали ещё сильней, ещё стойче, ещё неукротимей. Всё его существо изменилось. Он не только обрёл новые духовные и умственные силы – он внутренне переродился: насильственный постриженник, силой принуждённый к монашеской жизни, стал истым монахом, ярым ревнителем благочестия и нравственной чистоты. Поистине, нет худа без добра! Но самое главное заключалось в том, что монашество, приобщившее его к движению нестяжателей, открыло перед ним такое огромное поле деятельности, о котором в прежней мирской жизни он не мог и помыслить. Теперь ему было куда приложить свои недюжинные силы, было где проявить свою натуру, свой ум, свою страсть бунтаря и вольнодумца, и он проявил их, проявил так, что и поныне, хотя минуло уже добрых три десятка лет со дня его смерти, на его имени осталась лежать печать проклятия и о нём запрещалось даже вспоминать. Мёртвый он стал ещё страшней – хотя бы тем, что его уже нельзя было убить!
Ещё и поныне на той ниве, где старался Вассиан, великокняжеская власть выпалывала и не могла выполоть всей поросли, проросшей из посеянных им семян, и поныне его дерзания и мысли будоражили умы и сердца, ибо дела его и мысли были как река, у которой берегами были – правда и благочестие. И река эта никогда не отступала от своих берегов, не меняла русла, да вот только не было ещё того моря или озёра, куда эта река могла бы влиться, и распалась она на ручьи и ручьишки, обессилела, измельчала... Но ещё раньше свершилась судьба самого Вассиана. Он проиграл схватку с великокняжеской властью и должен был испить свою чашу. Не минула она и сподвижников его, да и каких сподвижников! Один Максим Грек чего стоил! Однако сама эта схватка, сам замысел Вассианов, его действия, его решительность, даже выбор момента для этой схватки – всё это было достойно восхищения. До него ещё никто ни на что подобное не отваживался, а что, бывало, затевались мятежи и даже войны, так единственно ради престола, когда стремились завладеть им, на самоё же власть никто никогда посягать и не вздумывал. Явился, правда, через сто с лишним лет, уже при Романовых, ещё один такой неистовый воитель – знаменитый Никон[228]228
...ещё один такой неистовый воитель – знаменитый Никон... – Никон (в миру Никита Минич (Минов); 1605—1681), патриарх Московский с 1652 г. Был близок к царю Алексею Михайловичу. Произвёл церковные реформы, вызвавшие сильное сопротивление и раскол. (В частности, предписал поясные поклоны в церкви вместо коленопреклонения, креститься тремя пальцами и т. д., объявил многие церковные чины «нововнодными», а служебники, их содержащие, испорченными и подлежащими исправлению). Вмешательство Никона во внутреннюю и внешнюю политику под тезисом «священство выше царства» вызвало разрыв патриарха с царём. В 1658 г. Никон оставил патриаршество, уехал в Воскресенский монастырь. Собор 1666—1667 гг. снял с него сан патриарха, признал виновным в произнесении хулы на царя и на всю Русскую Церковь, в жестокости к подчинённым и некоторых других проступках. Никон был приговорён к ссылке в белозерский Ферапонтов монастырь.
[Закрыть], называвший своё патриаршество «державою», а себя наравне с царём «великим государем», но и его постигла та же участь, что и Вассиана. Слишком высок и дерзок был их замах и слишком неравны силы! Вероятно, Вассиан и сам понимал это (не мог не понимать при таком-то уме!), но ничто не остановило его, не пересилило того нового, родившегося уже в монахе и нестяжателе, что подвигало его на эту схватку, ибо оно, это новое, видимо, стало для него тем, во имя чего идут и на костёр. Схватка эта и была, по сути дела, его костром, который он сам же и разжёг. Но, поступая так, разжигая пламень этого костра, он всё же не искал себе голгофу, не обрекал себя сознательно в порыве жертвенной одержимости. Такие порывы были чужды ему, и судьба страстотерпца не прельщала его. Не та кровь текла в его жилах! Он вступал в эту схватку обдуманно, хладнокровно и не без надежды на успех, ибо знал, каким образом можно было одолеть великокняжескую власть. Знал! Идеи нестяжателей, убеждённых в том, что священство выше царства («всякая власть изволится от власти божественный, и сице толико мирская власть есть под духовною»), давно подсказали ему это. Священство – от Бога («елико от Бога духовное достоинство предположено есть»), помазание же на царство – от священства, и потому первоправо на власть у священства. «Вси царив, начальницы и прочий мирстии господа, вси церкви православней и настоятелем послушание святое с боязнью и честью изъявляти должни есме, не сотворивый же сего, неверен и Богови сопротивен вменится».
Подчинить великокняжескую власть власти духовной, низвести её, святопомазанную, к стопам тех, кто её освятил и помазал, – это и означало одолеть её, это и попытался сделать Вассиан, как только представился благоприятный случай. А случай представился и вправду на редкость благоприятный. Великий князь Василий, после двадцати лет смиренной супружеской жизни, намерился разводиться с женой своей Соломонией Сабуровой. Брак их был несчастливым, безрадостным. Соломония оказалась бесплодной, а у Василия самой заветной мыслью была мысль о сыне, о наследнике... Жизнь его клонилась к концу, а престол передать было некому: прямого наследника он не родил, братьям же, сидящим на уделах и тайно ждущим своего часа, он такого великого наследства оставлять не хотел. Они никогда не жили с ним в добром согласии, вечно строили козни, противились, злопыхали – все, кроме разве что самого младшего – Андрея Старицкого, – и он не хотел, чтоб они дождались своего часа. Новый брак был последней его надеждой, и эта надежда, вместе с красотой его новой избранницы – юной княжны Елены Глинской, укрепила его намерение.
Совет с боярами был краток. Бояре сказали то, что и должны были сказать, ибо речь шла не только о будущем престола и династии, но и об их собственном будущем благополучии. Они сказали: «Неплодную смоковницу посекают и измещут из винограда». Однако быть этому или не быть – решали не бояре. Они лишь высказывали своё мнение, а решала всё Церковь. Церковь же – это прежде всего митрополит. Его слово – главное. Скажет он «да», так это «да» будет законней всех законов, но если «нет», то оно тоже будет священно, как закон.
Вот это право Церкви, право митрополита разрешить или не разрешить великому князю развод и второй брак Вассиан и сделал своим главным оружием.
Раньше митрополиты не очень-то противились великим князьям в таких делах. Они их терпеливо увещевали, налагали на них епитимьи, но запрещать, твёрдо, неотступно, даже не пытались. «Где слово царя, там власть; и кто скажет ему: что ты делаешь?» Не находилось таких! Теперь митрополитом был преданный и верный Вассиану человек, его единомышленник, его глас я перст, и Вассиан твёрдо знал, что тот будет послушен ему и поступит так, как скажет он, Вассиан. И Вассиан сказал «нет»! Притом не тайно, не скровно, заслонившись послушным и во всём согласным с ним Варлаамом, но открыто, прямо в лицо Василию. Когда тот призвал его к себе и спросил, может ли он жениться на Елене, Вассиан бесстрашно ответил ему: «Ты мне, недостойному, даёшь таковое вопрошение, какового аз нигде в Священном Писании не встречал, кроме вопрошения Иродиады о главе Иоанна Крестителя»[229]229
«...кроме вопрошения Иродиады о главе Иоанна Крестителя». — Иродиада, дочь Аристовула, внучка Ирода Великого. Она, имея уже взрослую дочь, вступила в преступную связь с братом мужа Иродом Антипой, чем возмутила весь народ. Иоанн Креститель смело высказал тирану упрёк в грехе. Иродиада через свою дочь, которой была обещана любая награда за её танец, потребовала голову Иоанна Крестителя, которая и была ей преподнесена на блюде.
[Закрыть].
Он неплохо всё рассчитал: твёрдое, неотступное, подкреплённое законами Церкви это «нет» вполне могло сломить великого князя, ибо совсем не просто было решиться презреть и попрать эти законы (заводить усобицу с Церковью ещё никто из великих князей не осмеливался; даже самый могущественный из них – Иоанн и тот отступил перед Геронтием!), и удайся тогда ему всё сполна, сумей он заставить Василия подчиниться запрету, найди для этого достаточно сил, а также сумей вывести из игры своих главных противников – иосифлян, которые, разумеется, сразу же стали на сторону великого князя, понимая, что им опять представляется возможность вернуть его былое расположение, а заодно и свести счёты с нестяжателями, в первый черёд с самим Вассианом, к которому они питали наибольшую ненависть, видя в нём главного виновника всех своих невзгод и потерь, – так вот, сумей Вассиан всё это, удайся ему всё сполна, и цель его была бы достигнута. Более того, на престоле сейчас сидел бы совсем другой государь – быть может, один из племянников Василиевых или кто-нибудь из Гедиминовичей, которых Василий прочил в наследники престола, – а Иван и вовсе бы не родился на свет.
4
Вот таков был опальный князь Василий Патрикеев, в монашестве Вассиан, по прозванию Косой, чей пример мог вдохновлять, да, наверное, и вдохновлял Курлятева в его происках против Ивана. Во всяком случае, в сознании тех, у кого имелись счёты с великокняжеской властью, Курлятев сразу занял место рядом с Вассианом. Кое-кто из них, кому было известно, как повёл себя Курлятев в монашестве, прямо стал называть его вторым Вассианом, и Курлятев, должно быть, знал об этом, ему могло льстить такое сравнение, что, несомненно, ещё сильней подстёгивало его.
Конечно, Курлятеву было далеко до Вассиана: не той он был стати, не той одарённости, и сделаться тем, кем сделался в монашестве Вассиан, добиться такого влияния на дела церковные, которого тот добился, Курлятев вряд ли бы смог. Поэтому и монашество для него служило лишь прикрытием, щитом, а не оружием, как Вассиану. Однако воинственного духа в нём было не меньше, а может, и больше, чем в Вассиане, да и умом его не обделила природа, и силой воли, и решительностью. Таилась в нём и страсть противленца, питавшаяся памятью о былой удельной вольности своих предков (ей, казалось бы, давно уже обратиться в прах, как обратилось в него всё то, что чтила эта память, – ан нет, всё ещё жила она в душах княжат, злопыхала, воительствовала!). Словом, Курлятев был не из тех, кто легко смиряется с судьбой, и все те чувства, которые он испытывал к Ивану, стремление отомстить, навредить ему, его тайная усобица с ним, затеянная, разумеется, с расчётом вовлечь в неё помимо Оболенских и других княжат, – всё это неизбежно должно было ополчить его против Ивана – даже не будь перед ним никакого примера. Но когда пример был, он, естественно, возбуждал, подстёгивал... Многие побуждения, которые могли бы так и остаться побуждениями, теперь становились действием, а действия, которые, возможно, тоже никогда не зашли бы дальше того, что называют мелкими кознями, теперь превращались в самую настоящую усобицу. Правда, у этого примера имелась ещё и другая сторона – печальная, и это, казалось бы, должно было отрезвлять, останавливать, ибо то, что случилось с Вассианом, могло случиться с каждым, кто решился бы последовать его примеру, но тот, кто жаждет мести (жаждет, а не томится в бессилье!), как правило, пренебрегает опасностью. Какой бы она ни была, ей не отрезвить, не остановить такого! Не остановила она Вассиана, не могла остановить и Курлятева. Обосновавшись в монастыре, где, как мыслилось ему, он станет уже недосягаем для царя, ибо монахи неподсудны светским владыкам, он взялся заводить крамолу. Уложение о вотчинах, недавно принятое Иваном и всколыхнувшее буквально всех княжат, как нельзя лучше способствовало ему в этом. Огонь уже тлел! Ему оставалось лишь взгнести его! Конечно, это тоже требовало усилий, решительности, разумеется, и умения, но особенно – осторожности, ибо полагаться на то, что своим уходом в монастырь он сумеет отвести глаза Ивану, было бы по меньшей мере неразумно и опрометчиво. Иван, которому, казалось, даже собственная тень внушала опасения, так просто провести себя не даст. Курлятев догадывался, что он повелит следить за ним ещё зорче, ещё пристальней, а если и не повелит, то вовсе не потому, что доверится его благочестивым обетам, данным при пострижении. Умом, изощрённым и страшным, он понимает, что лучше всего испытать человеческую душу, самое её подспудье, можно только свободой. Делай что хочешь! Стремись к чему хочешь! Но когда, опьянённый свободой, ты утратишь бдительность и осторожность, тогда во всей яви как раз и откроется – чего ты хотел и к чему стремился. Проще простого такая уловка, зато как надёжна! Никакой самый зоркий глаз не сравнится с ней, ибо от глаза всё-таки можно утаиться – в душу не зазырнешь, а тут душа могла распахнуть себя настежь сама!
Знал это Курлятев – он был тоже не лыком шит – и один раз уже прошёл через такой искус: когда Иван простил ему его попытку бежать за рубеж и милостиво даровал свободу – вот это же было у него на уме! Он готовил ему именно такое испытание, такую ловушку! Соблазнись он тогда свободой, воспользуйся ею, и развязка, возможно, наступила бы гораздо раньше. Но в том-то как раз и заключалась его сила как противника, что он умел смотреть в оба. Он разгадал Иваново коварство и обошёл эту ловушку. Сам же против него действовал с такой осторожностью и осмотрительностью, что, казалось, берёгся не его, а себя самого.
Иван, должно быть, недооценил в нём этого, иначе, конечно, не позволил бы ему уйти в монастырь, не отпустил бы волка в поле, как он любил говаривать. А может, вышло и так, что этим своим уходом Курлятев всё-таки ввёл его в заблуждение, усыпил его бдительность: порадовался он такому исходу дела и успокоился, довольный, что удалось избавиться хоть от одного своего недруга, не прибегая ни к каким крутым мерам, которыми он тоже не меньше, чем уложением, настроил против себя княжат. Да уж и не только княжат, – подняли свой голос и церковники, печалуясь об опальных, возроптала и чёрная кость – неродовитые, незнатные, напуганные расправой над Алексеем Адашевым и Тетериным-Пуховым. Могло ещё статься и так, что он просто забыл на какое-то время про Курлятева, не до того ему стало в водовороте тех дел и событий, что совершились в последние два года, главными из которых были победоносный поход в Литву, закончившийся взятием Полоцка, и его новая женитьба на Марье Темрюковне. Конечно, не всё тут зависело лишь от него. Был ещё Курлятев, и вполне вероятно, что не Иван допустил какой-то просчёт или оплошность, но сам Курлятев оказался на высоте и сумел перехитрить его, что, разумеется, было не просто, но возможно, ибо и у самых высоких гор имеются перевалы. В общем, как бы там ни было, а Иван не уследил за ним, и сколько бы и с каким негодованием он ни говорил о его кознях и враждах, они остались ему неведомы. Во всяком случае, главного, того, что именно Курлятев баламутил княжат и поднял против него своих единородцев, он не знал, и тогда в Черкизове, отдавая приказание братьям Хворостининым, делал это не потому, что располагал какими-то уликами против него, – он делал это в порыве гнева, вымещая на нём свою злобу и ненависть, которую питал теперь ко всем Оболенским, считая их отныне своими главными врагами. В этом он, пожалуй, был и прав, ибо то, что он услышал от них в Столовой палате, назвать иначе как враждой было нельзя. А на вражду он отвечал только враждой, жестокой и беспощадной. Око за око и зуб за зуб! Вот Курлятеву и выпало стать этим самым оком или зубом. Ему, конечно, ещё и не повезло. Не случись той нелепой путаницы с именами, а вернее, не окажись его имя одинаковым с именем Вишневецкого, из-за чего и возникла путаница, Иван, возможно, и в тот раз не вспомнил бы о нём и удар пришёлся бы на кого-то другого: мало, что ли, имел он таких на примете! Однако это вовсе не было тем роковым невезением, за которым стоит лишь слепой случай. Тут было иное: тут случай лишь ускорил то, что рано или поздно всё равно должно было произойти. Иваном помимо злобы и ненависти руководило ещё и чутьё, а уж оно-то редко его обманывало, и доверялся он ему всецело. Он мог не поверить доносу, мог усомниться в очевидном, мог задуматься над поступком, порой откровенно враждебным, и не рубить сплеча, но если кто-то возбуждал в нём подозрение и чутьё подсказывало ему, что это враг, – он отбрасывал всякие сомнения, и никакие доказательства уже не могли переубедить его или хотя бы поколебать.
Этот внутренний безуправный подсказчик указал ему и на Воротынского, и на Тетерина, и на братьев Адашевых... Были ещё и до них, были и после, так что Курлятев и вправду, нелишне опять повторить, был далеко не первым в этом ряду и уж тем паче не будет последним, и дело его, при всей знатности его персоны, тоже было самым обычным. Такие дела не таят под покровом, наоборот, их являют во всей полноте, нарочно, ибо такие дела тем как раз и страшны (как урок для других!), что в них всё на виду. Это только братьям Хворостининым по молодости лет казалось, что они исполняют бог весть какой важности поручение и всё должно быть шито-крыто, потому что, по их представлению, всякое важное дело непременно должно совершаться втайне. Где им было знать, что они не успели сделать ещё и первой сотни вёрст, а по Москве уже прометнулась сполошная новость... Потом, как всегда и бывает, поползли слухи – один одного страшней и невероятней.
Оболенские, собравшись на свой родовой совет, чтобы подумать, как им поступить, ни к чему путному, однако, не пришли, только ещё пуще разбранились, обвиняя друг друга в неискренности и трусости. Но чтоб всё-таки дознаться, что верно в этих слухах, а что нет, порешили спросить обо всём самого царя. Пойти к нему поручили князю Петру Горенскому, вернее, он сам вызвался сделать это, убедив своих сродников, что сможет справиться с этим поручением гораздо успешней, чем кто-либо другой из их рода. Доверие и благосклонность Ивана, которыми он пользовался до недавнего времени и которые, как он полагал, ещё не утрачены им, должны были облегчить его задачу. Это был его главный козырь! К тому же любого другого Иван мог даже не пустить на глаза: чего ради ему объясняться с Оболенскими?! Он если и станет говорить с ними, то другим языком! Это тоже звучало убедительно, и с Горенским согласились, хотя доверия к нему не было... Оно и понятно: царский любимец! А по злому счёту: прихвостень!
Недоверие, холодность родичей угнетали Горенского, особенно теперь, когда всё это стало проявляться открыто, в глаза, однако пойти к царю он вызвался совсем не потому, что хотел угодить им и тем самым снискать их расположение. Хотя отчасти было и это – хотел угодить, бессознательно, невольно, но хотел. Даже, может быть, не столько угодить, сколько привлечь к себе внимание, поднять себя в их глазах, ибо всё ещё надеялся, что ему удастся примирить их с царём и погасить вражду, чего он искренне желал и к чему настойчиво стремился, понимая, что эта вражда ставит его между двух огней: с одной стороны, гнев и немилость царя, если он останется верен роду, с другой – гнев и проклятие рода, если примкнёт к царю. Да и не только о себе думал Горенский. Судьба рода, которому эта вражда ничего, кроме бед и несчастий, принести не могла, тоже не оставляла его равнодушным, поэтому для него, понимавшего, как трудно избежать этих бед и несчастий, не погасив разгорающейся вражды, примирение было вдвойне желанным, но пути к нему были так непроглядны, так забуреломлены, что он покуда лишь мысленно обращался на них, предчувствуя, что может споткнуться уже на первом шаге.


![Книга Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного] автора Елена Арсеньева](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zheny-groznogo-carya-garem-ivana-groznogo-213715.jpg)





