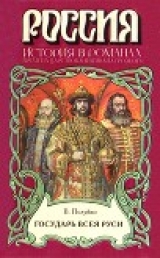
Текст книги "Государь всея Руси"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 35 страниц)
– Но отчего, государь, они стали врагами? Так вдруг и все разом? Нешто так может быть?
– Может! Я объясню тебе, объясню! – с поспешной готовностью, даже услужливостью, воскликнул Иван, и глаза его осветила какая-то тайная надежда. – Ты поймёшь... Вот послушай: бывает, приключаются в государстве такие беды и нестроения, коли худо, нестерпимо худо становится всем, и тогда подымается ропот, распложается смута, учиняются бунты. Но бывает и так, что всем хорошо, а государству – худо. Как нынче. Ибо нынче всем хорошо, и белой кости, и чёрной. Вельможный тучнеет от жиру, от стяжаний своих безмерных и закосневает в жиру, о государстве же никоторого попечения не имеет и не радеет о пользах его. А мужик обвыкается с бедностью, обобранный вельможными, и впадает в лень. Лежит себе на печи и грезит, коли Бог на земле всё поровну между всеми разделит. Такой мужик уже не обогатит ни себя, ни государство. И вот коли так устрояется, тут и надобно решить уклад сей... Я и почал уже рушить его. А те, которые не хотят таковой порухи, которые не хотят ради польз государскик поступиться хоть малым своим, те и становятся врагами, ибо они начинают противиться, начинают чинить претыкания, козни и готовы пойти даже на измену, как Семён Ростовский и оные с ним, токмо бы оставить непорушным тот порядок и тот уклад, при котором им хорошо. И складываются заговоры, плодится крамола, и починается то, что противленцы и претыкатели называют напастями и бедами Вавилона. Вот и ты, ступая вослед тем окаянствующим, обвиняешь меня в злодействе... Но царь – гроза не для добрых, а для злых дел. Хочешь не бояться власти – благое твори, а творишь злое – бойся, ибо царь не втуне носит меч – в месть злодеям. И ещё скажу, самую главизну. Было время, когда дружина говорила князю: «Ты сам собою сие, князь, замыслил, так мы не едем за тобою, мы ничего не ведали». Было, но минуло! Нынче с таковою дружиною государства не утвердишь! Пророк рече: «Горе мужу, еже им жена обладает, горе граду, еже им мнози обладают!» Скажи, нешто у себя на подворье ты не самоличный всему упорядник? Нешто спрашиваешь, как господу тебе вести, у работных своих, у холопов?
– Истинно, у холопов своих я совета не спрашиваю... Но ве́ди мы, государь, не холопы твои, не рабы. Ты тщишься обратить пас в рабов, и многих уже обратил... Я також был одним из них... Но более им быть, не хочу. Не хочу и не буду, государь.
Иван спокойно, до жути спокойно, но очень пристально посмотрел ему в глаза и скорее устало, чем разочарованно сказал:
– Ступай, князь Пётр. Всё о тебе разумлено. Ты тщишься очистить душу свою – тем, что предашь меня, отступишься, отречёшься, станешь моим врагом...
– Я не враг тебе, – дрогнувшим голосом возразил ему Горенский, – и николи же им не стану.
– Ты хуже врага, – сосредоточиваясь на чём-то своём, внутреннем, раздумчиво произнёс Иван. – Врага я могу уничтожить, тебя же вынужден буду терпеть, как терплю уже много лет Горбатого. Ступай, князь Пётр, я отпускаю тебя... Сейчас ты возвысился духом и не страшишься ничего, даже смерти. Но душа человеческая переменчива, а на земле для человека нет ничего дороже жизни. Ничего, князь Пётр!
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
1
Иван молился. Поднявшись до свету, умывшись и одевшись, стал на колени перед образами и вот уже добрый час истово бил поклоны.
Васька Грязной, встречавший его с постели, подававший умыться и вместе с Федькой Басмановым одевавший его, теперь спал на широкой пристенной лавке – кутнике, спал сидя, вернее, уже полусидя, скособочившись так, что кудлатая его голова почти касалась парчовой обивки кутника. Только во время утренней царской молитвы и мог Васька позволить себе, пусть и ненадолго, спокойно и крепко приснуть, а ночь проходила обычно в коротких, чутких передремах, нарушаемых каждым малейшим звуком, каждым малейшим шорохом.
Из-за двери, ведшей в предпокои, доносился шум, раздавались голоса – там ожидали царского выхода остальные его особины: Темрюк, Малюта, Вяземский, Зайцев, – но Васька сейчас не слышал ничего, Васька спал. И никакой шум, никакие голоса не могли его разбудить. Его разбудит лишь звук Ивановых шагов, когда тот выйдет из молельни. От этого звука Васька, наверное, подхватился бы и в могиле.
Иван молился. За спиной у него, прислонившись к золочёному дверному косяку, изрезанному травчатым узором, стоял Федька Басманов. Он почти всегда стоял здесь, когда Иван молился. Его обязанностью было охранять Ивана во время молитвы и отворять перед ним двери. И лишь когда являлся Епифаний, Федька вместе с Васькой выметались в предпокои: со своим духовником Иван оставался всегда с глазу на глаз.
Федька стоял потупясь. Смотреть на икону с пронзительным взором Христа он боялся: чудилось ему – неотвязчиво, до немоготы, – что стоит он не перед иконой, а перед самим Христом, и душа его, изъятая из тела, трепещет в Божьих руках, точно пойманная птица. Крутит её Христос, вертит, и на чело ему ложится недобрая тень: того и гляди, швырнёт он себе под ноги его распоганую душу. Сжимается Федька, страх под ложечкой колупается, как мышь в норе, скребётся, лезет в мозг, в мысли.., Эвон как царь замаливается, а он нынче и креста на себя не положил, к Богу мыслями не обратился: и руки, и мысли – всё подчинено ему... Вот ему, лежащему ниц перед божницей, кроткому и смиренному, как инок, и беззащитному... Господи, до чего же беззащитному! Можно подойти... Всего-то два шага... И не будет уже ничего. НИЧЕГО! Поскачут гонцы в далёкий Новгород, и в Смоленск, и в Казань... Да на все стороны и гонцов не хватит!
Жутко Федьке от этой шальной, нелепой мысли, жутко и радостно, дерзко, греховно радостно, что жизнь царская в его, Федькиных, руках, и он, Федька, не просто холоп и покорный служка, а сообщник царя, связанный с ним его жизнью. И может, молится он сейчас не о прегрешениях своих и не о душах, погубленных им, а о том, чтоб избавил его Всевышний от жестокой муки – зависеть животом своим от рабов своих. Может, оттого и бродит он ночами по безлюдному, сонному дворцу, тычась копотной свечой во все углы и прожигая глазами густую темь, что не дают ему спать эти страшные мысли и подозрения. И чем больше в нём этих мыслей, тем угрюмей он и озлобней И никто, никто, кроме Федьки, не знает, как часто плачет он – в полном изнеможении, без всхлипов, без стонов, совсем беззвучно, только слёзы медленно, словно застывающие капли воска, сползают с его щёк, и кажется тогда Федьке, что это не слёзы, а кровь сочится у него из глаз – поганая, дурная кровь его души.
Дурманит Федьку это жуткое безрассудство, и леденит, и жжёт, запирая в сердце кровь, – истомней плотской тоски, пронзительней лютой боли это подлое, ублюдское безрассудство, рождённое завистью к царю, завистью не злой, не скаженной – тихой, как тление, но оттого по-особенному стойкой и неотступной.
Только ли то сатанинское, что бушевало в царских глазах, от которого у Федьки нередко подкашивались ноги, рождало в нём эту зависть? Только ли стремление помыкать другими томило его? Только ли власти жаждал он и ей ли единой завидовал? Нет! Он знал власть, она была у него... Пусть убогая и нищенская, как у всякого приживалы при настоящей власти, но она давала ему всё, что вздумывала его взбалмошь. Кроме одного. Федька хотел быть царём. Не вечно, не всю жизнь, с самого рождения, как вот он, терзающий себя сейчас перед образами, измученный страстями и страхами, окружённый врагами, предаваемый друзьями и даже – пусть мысленно – им, Федькой... Не год, не месяц – пускай всего день, один-единственный день! Чтоб утром проснуться – царём! Отстоять обедню – царём! Оттрапезничать – царём! Чтоб в тихой дали, на Соловках, смежая дремотно глаза, испостившийся монах пробормотал вечернюю молитву и изрёк: «Слава тебе, Господи, и царю нашему, Фёдору Алексеичу, во веки веков!»
Дотошный летописец испещрит свой свиток досужей мудростью, разукрасит его былью-небылью и припишет для пущей важности, что было сие в славное царствование Фёдора Алексеевича, дабы ведали потомки, что был на Руси не Федька Басманов, а Фёдор Алексеевич, царь и государь, как есть он, Иван Васильевич, которому Федька каждый вечер стаскивает с ног вонючие сапоги.
Разомлевает Федька от этих мыслей, будто и впрямь уже восселся на троне, и остужающая тревога не налетит на него, что иное впишет в свой свиток летописец, коли дознается царь о его тайных желаниях. А если и налетит такая тревога – не ужаснётся Федька, а если и ужаснётся – мыслей своих не прогонит. Знает он: не вызнать их царю, и Бог ему не поможет в том, потому что не Бог у него теперь в пособниках, а дьявол. Бог же отворотился от него, и напрасно он усердствует пред ликом его: один лишь он, Федька, слышит его молитвы и раскаянья, а и тоже не верит им. От страха они, от страха за кару небесную. Страх пригибает ему колени, страх гнёт его пред образами, а как выпрямится он, встанет на ноги, отвернётся от лика Божьего, так и потянет его дьявол в свою сторону – тёмную, непроглядную...
И только одна мысль убивает Федьку (он ужасается ей и благоговеет пред ней!) – о том, что Иван воцарён не по воле счастливой судьбы как наследник царского рода, но провидением Божиим, волей Божией, освятившей его рождение, и покуситься на него, даже мысленно, – всё едино что покуситься на Бога. Жутко становится Федьке, как перед смертью, когда пронижет его эта мысль... Жутко! Тогда изо всех сил, позабыв о Боге и совести, будто в хмельном остервенении, служит он ему – не ради дела, не ради благополучия его, а ради своей затаённой, греховной вины перед ним.
Выходя из молельни, Иван неожиданно спросил:
– Басман, всё хочу вопросить тебя: о чём ты думаешь, стоя у меня за спиной?
– О тебе, цесарь, – мгновенно, не раздумывая, ответил Федька, словно малейшее промедление могло стоить ему жизни.
– Врёт! – косорото, сквозь зевоту, шамкнул проснувшийся Грязной. – О бабах он думает. Чтоб мне печкой подавиться, государь, – о бабах!
Федька змеино, молнией вонзил в него глаза, но Ваську это не смутило. Он посмачней зевнул и невинно прибавил:
– У него что в мошонке, то и в голове. Нынче полночи шастал, мокрохвосток ублажал.
Такие кондовые шутки Иван любил и нередко снисходил до них и сам, но сегодня он не был настроен на шутейный лад и Васькины потуги оставил без внимания.
– И что же ты думаешь обо мне? – сочленил он вопрос с вопросом, охватывая ими Федьку как клещами.
– Разное, цесарь, – виляво улыбнулся Федька, – Чаще всего о том, что... несносно тяжко быть царём, а ты... как бы хочешь им быть... Отчего-то.
– Тяжко, верно, – покладисто и серьёзно согласился Иван, явно почуявший наивную увёртливость Федькиного ответа, но отчего-то принявший его, может, оттого, что он пришёлся как раз к его настроению. – А на Руси – ещё тяжче. Понеже каждого надобно толкать в зашеек... А то и кнутом! Разумному, доброму слову чтоб внять – нет, таковое не в обычаях нашего племени! Токмо взашей! Токмо кнутом! Пращуры мои не выпускали плети из рук, дед, почитай полвека, толкал её, как толкают в гору воз, затем отец... А и мой удел таков же: толкать да подхлёстывать. Иначе не вытянуть её, окаянную, даже на худой пригорок. Сидит в ней косность, как зараза. В богатых – от жира, в бедных – от страха лишиться последнего.
Он помолчал, задумался. Молчали и Федька с Васькой. Таких непраздных разговоров они никогда с ним не вели: высокая словесная премудрость, которую так любил Иван, была им не по зубам. Они были горазды лишь в скабрёзных шуточках да пустопорожней болтовне и потому не могли придумать даже что-нибудь лестное, угодное, а просто поддакнуть не решились: что дозволено ему, не дозволено никому более.
– А вытянуть хочется... Надобно вытянуть. И не токмо на пригорок. На пригорок уж вытянули. На гору хочется вытянуть, на высокую гору, дабы узрели окрест все языцы, что нету более данницы татарской, а есть Русь, Россия! Потому и хочу быть царём. Хочу! Без всяких «как бы»! Токмо вот слово сие: «хочу»... – Он презрительно скривился. – Низкое слово. Можно хотеть бабу, скорому среди поста.. А царём хотеть... Разве что ты, Басман... Ты бы – хотел. А я призван. Так назначено мне Богом. Он возложил на меня бремя сие и простёр предо мною стези мои, ибо так было угодно Ему.
Федька утружденно вздохнул, словно и на нём лежало какое-то бремя, а Васька, слушавший Ивана с благоговейной кротостью, вдруг ссунулся с кутника на пол, стал на колени и молитвенно сложил руки:
– Государь, прикоснись ко мне! Молю, прикоснись и отведи от меня все грядущие напасти, ибо чую, чую и верую, ты – святой! Верую, государь!
– Вот и причислен я к лику святых, – усмехнувшись, сказал Иван с лёгкой иронией, но ирония эта была лишь прикрытием: столь благоговейная вспышка Васькиной души затронула и его душу. – Василием... Как там тебя по отчеству?
– По отчеству? – с юродивой жалобностью переспросил Васька, словно не знал, что это такое. Руки его, сложенные ладонью к ладони, расслабленно оползли вниз – радостный страх окатил его, и он робко пролепетал: – Василий Григо... – Кадык у него дёрнулся от нервного глотка, и он с трудом докончил: – ...рьев.
– ...Вич! – милостиво дополнил Иван, отчего Ваську блаженно скорчило, будто сквозь него прошла сладострастная судорога. – Василий Григорьевич Грязной-Ильин, архипростолюдин российский, лестью своей неискушённой причислил меня, худого, к лику святых. Такое надобно отпраздновать! – с шутливой торжественностью и вместе с тем как бы напугавшись этой торжественности, заключил он и направился к двери.
– Да я не лестью... Не лестью, государь! – запричитал Васька и на коленях пополз за ним следом. – Я чую и верую! Ты святой! Святой, государь!
– Не юродствуй, Василий! – обернулся к нему Иван, а в голосе за нарочитой строгостью прозвучали восторг и страх, слившиеся воедино. Он приостановился перед дверью, ожидая, пока замешкавшийся Федька отворит её, и повторил построже: – Не юродствуй!
Но это был не запрет, не приказ, это была просьба. Он лишь боялся согласиться с тем, что услышал, – ещё боялся, – но вовсе не отвергал этого. В нём и в самом, должно быть, коренился росток этой покуда ещё пугающей его мысли, подтверждение которой он, наверное, искал – если искал! – в чём-то особенном, высоком, в делах своих и помыслах, не подозревая, что ей, этой мысли, для того чтобы стать убеждением и окончательно утвердиться в нём, совсем не нужны особые доказательства – его высокие помыслы и дела, его горение, самоотверженность, – ей достаточно лишь проявиться вне его, отразившись в ком-то, как в зеркале, и уже это отражение, наложившись на его собственное, внутреннее, намертво впечатается в сознание.
Он не подозревал этого, и тем большее впечатление произвела на него Васькина благоговейность. Восторг и страх, слившиеся в его голосе, были лишь маленькой толикой того, что не вырвалось наружу, осталось в нём, но они, эти восторг и страх, как бы двумя лучами высвечивали самое главное, самое сердцевинное, ибо восторг означал безудержность, безграничность его притязаний, а страх – лишь последний рубеж, который он ещё не осмеливался перейти, удерживаемый, увы, уже не разумом, не верой, а только суеверием.
Федька отворил перед ним дверь, и он вышел в предпокои, где его встретили дружным согбенней четыре подобострастные спины, которым, между прочим, в знак особой милости было дозволено не гнуться перед ним в поклоне, но воспользоваться этой милостью ни одна из этих спин никогда даже и не пыталась. Иван и сам не больно часто вспоминал о своём пожаловании и обычно равнодушно принимал их поклоны, лишь иногда, как сейчас, в порыве нахлынувшего настроения, напоминал им, что на ногах у него нету глаз и ему трудно распознать, кто из них кто, коли они втыкаются рожеями в пол.
– Малюта, тебя токмо и признаю по твоим свирепым ушам. Торчат они у тебя, точно иклы[231]231
...точно иклы у вепря... – Иклы – клыки.
[Закрыть] у вепря.
– А что ж, государь, делать-то? – распрямился Малюта. – Не подвязывать же их.
Вслед за Малютой распрямились и остальные – Темрюк, Зайцев, Вяземский – и принялись подсмеиваться над его ушами. Малюта, не выносивший никакого дурнотрёпа, особенно же того, которым потужались тешить царёв слух, стал просить Ивана унять их, но Иван, наоборот, ещё подзадорил:
– Нынче веселие не возбраняется! Нынче у нас престольный праздник в честь нового святого! Велю я к трапезе подать вина – будем праздничать!
– Вот славно! – просиял Зайцев. – То-то мне намедни мощи снились!
– То тебе снились обглоданные собаками кости, – засмеялся Иван, явно испытывавший потребность хоть в шутку поговорить об этом. – Во сей новый святой ещё во плоти и крови.
– Да нешто же так быват, чтоб во плоти – и святой? – неподдельно изумился Малюта. Его правоверная, выправленная по церковному аршину душа не могла принять такого, даже несмотря на то, что это принимал царь. – Святость открывается через мощи.
– А в мощи откудова она проникает? Не из плоти ли и крови? – как будто защищая что-то личное, напористо и умно возразил ему Иван, чем сразу поставил его в тупик.
– Того я не знаю, – буркнул Малюта, потупляясь. – Токмо вживе святых я ещё не зрел.
– Так узри! – в голосе Ивана опять зазвучала шутливая лёгкость, но будь у Малюты или у Зайцева, у Вяземского, у Темрюка чутьё потоньше, они б почуяли, что это вовсе не шутка, а лишь стремление прикрыться ею. – Сё аз причислен к лику святых! И соделал сие... – он выдержал ехидно-ликующую паузу, – сам Василий Грязной! Восе он, зижитель[232]232
Зижитель – творец, создатель.
[Закрыть] святых!
Васька уже поднялся с колен и теперь стоял в проёме двери скисший, растерянный, явно не зная, что ему делать: то ли начинать веселиться со всеми вместе, раз всё клонится к этому, и смириться, что так и не смог убедить Ивана в своей искренности, то ли покуда воздержаться, повременить, не сдаваться столь быстро, чтоб не наделать худшего – убедить в неискренности. Когда Иван указал на него, он вновь умоляюще сложил на груди руки, подтверждая этим жестом то, что говорил словами, и весь превратился в скорбь. Эта наивная, непритворная скорбь делала его иконно-благообразным, и виделось воочию при взгляде на него, как действительно много ликов у дьявола.
Теперь приспело время Федькиного торжества, и он с наслаждением в злорадстве выпячивал на Ваську свою ухмыльно-презрительную рожу. Не отстали от Федьки и остальные: все видели в этом лишь шутку, забаву, а в Ваське – шута горохового, посмешище. Так как же было не посмеяться над ним, не позубоскалить? Смеялись, зубоскалили, и вряд ли, конечно, кто-либо догадывался, какую стихию затронул в Иване этот гороховый шут и какие чувства на самом деле скрывал Иван за вальяжной шутейностью, подсмеиваясь над ним.
Может, и лучше, что не догадывались, иначе то наивное, искреннее, бездумное поклонение, которым они сейчас окружали его и которое ещё более, чем ему, было нужно им самим, потому что через поклонение ему, через свою безраздельную слитность с ним они обретали нечто высшее и в себе самих, какими-то таинственными, непостижимыми связями соединяясь, сживляясь с его величием. И вот это поклонение, радостное, благоговейное, заменявшее им святое причастие и пробуждавшее в них особый дух – дух одержимого, грозного холопства, – это поклонение, догадайся они сейчас об истинных чувствах Ивана, очень скоро переродилось бы в обыкновенную лесть и угодничество, искренность и бескорыстие подменились бы расчётом, обросли лукавством, ложью, и, обретя новых ласкателей и подлипал, он потерял бы истовых и верных служак, которые сейчас были ему нужней всего.
Один лишь Малюта не стал дурносмешничать и подбавлять ходу общей потехе. Объявленное Иваном явно застало его врасплох: такого поворота он никак не ожидал, но ни растерянности, ни смущения в нём не обнаружилось. Они, может, и появились, но какое-то иное, более сильное чувство враз заслонило, подавило их. Глянув на Ваську тяжёлым палаческим взглядом, он опять потупился, а когда глумливый гомон чуть утих, с неожиданной резкостью, почти зло, сказал:
– Васька льстит тебе, государь, не разумея, что ты выше всего, что может измыслить человеческая лесть. Ты восхищен[233]233
Восхищен – поднят на высоту, возвышен.
[Закрыть] самим Богом, избравшим тебя, и что тебе подлая людская осанна, коей сей недоумок чает прельстить тебя?
Он, конечно, не думал и не допускал даже, что Ивана может прельстить «подлая» Васькина осанна. Допустить такое – с ума сойти! Разве может прельстить собственная тень? И разозлился он совсем не потому, что вдруг учуял в Васькиной лести какой-то корыстный изверт или, хуже того, желание обставить их всех. Боязнь соперничества была неведома ему, и камень за пазухой он не держал. Он разозлился потому, что боготворил Ивана и действительно считал, что никакое людское возвеличивание, каким бы щедрым оно ни было, не поднимет его выше той высоты, на которую он поднят, и, стало быть, всё придуманное во славу ему людьми только унижает его, умаляет его истинное величие. Сам же искренне был убеждён, что не восхваляет его и уж тем паче не льстит, а только ставит всё на свои места, только вступается за него, отстаивает, и в первый черёд – перед ним же самим, не позволяя ему умалять своё величие, ибо видеть, как Иван сам принижал себя, ему было и вовсе невмоготу.
Вот и сейчас, ему бы оскорбиться, вознегодовать, повергнуть в трепет нелепого льстеца и недоумка, дабы и другим неповадно было, а он – думал Малюта с досадой – сама благосклонность, да ещё тщится устроить из этого потеху, не разумея, как унижает этим своё достоинство.
Малюта хотел видеть в нём божество, пред которым преступно было бы даже дышать, а он то и дело низводил себя до земной простоты, дозволяя тому же Ваське или ему самому, Малюте, не кланяться себе или сидеть рядом с собой, не говоря уж о худшем – о том, что пьянствовал с ними, как самый забубённый ярыжка, и дурил позаядлей любого скомороха, чем постоянно приводил Малюту в горестное недоумение и растерянность: он не понимал, как вообще столь великое может так умалиться, как поднебесная гора может вдруг понизиться до простого пригорка. Не понимал! И стыдился за него, и оскорблялся, и страдал, чувствуя не только вину самого Ивана, падкого, жадного до всего, что было постыдно и унизительно даже для простого смертного, но и свою собственную – перед ним, словно он вызнал какую-то сокровенную тайну его или проник за запретный рубеж, увидев там то, чего не должен был и не имел права видеть. И уж совсем невыносима была мысль, что всё это могут видеть и другие, видеть и не испытывать при этом, в отличие от него, ни чувства вины, ни терзаний, ни угрызений, а скорее наоборот – пребывать в наглом и преступном самодовольстве, чувствуя между ним и собой земную уравнивающую общность.
В таком тайном, кощунственном непочтении к Ивану он подозревал многих, и, спроси Иван не самого Федьку, а его, Малюту, о чём думает этот боярский отпрыск, когда стоит у него за спиной в молельне, он безошибочно ответил бы ему. Ответил бы он ему и на другие вопросы, даже на те из них, на которые тот сам не находил ответа, и в этом не было ничего необычного, потому что его любовь к Ивану, а более всего те тягостные раздумья и переживания, на которые его обрекла эта любовь, и та великая боль и оскорблённость за него, вылившаяся в тайную опеку, сделали его отчасти и зорче, и чутче, и прозорливей Ивана. Но прозорливость эта была однобокой, а чуткость и зоркость – чуткостью и зоркостью цепного пса, который мог лишь рычать и скалить зубы, чем нередко, к великому своему огорчению, крепко раздражал Ивана.
Так вышло и на сей раз. Выслушав его, Иван нахмурился и, пряча в себя взор, что было признаком резкой перемены настроения, глухо сказал:
– Этак-то будешь облаивать всех, так я вскоре и доброго слова ни от кого не услышу. Да и не впрок тебе о таковых вещах рассуждение иметь. Тут недолго впасть и в святотатство. Святотатцев же ведаешь, какова участь!
– Я был бы святотатцем, коли б думал иначе, – угрюмовато буркнул Малюта.
Такой ответ явно понравился Ивану. Он не мог не понравиться ему, потому что Малюта, сам того не понимая, шёл гораздо дальше Васьки, чья благоговейность отразила лишь то, что уже существовало в Иване, – его собственное, присное... Малюта же затрагивал совершенно новое, неизведанное, такое, что ещё находилось за пределами его сознания.
Иван вздохнул, как бы в бессилье образумить Малюту, и, меняя гнев на милость, сказал:
– Зол ты, Малюта, зол... – И это прозвучало скорее как оправдание и сострадание к нему, нежели как осуждение.
– Бери глубже, государь! – засмеялся Зайцев, единственный, пожалуй, кому Малюта не испортил настроения. – Он лукав! Истинный Бог! То ж уловка его... А измыслил он её, чтоб праздник нам исхабить. Ей-ей!
– Да неужто?! – неподдельно удивился Иван и посмотрел на Малюту. Тот лишь фыркнул в ответ.
– С места мне не сойти! – побожился запальчиво Зайцев. – Он же скареда, государь! Ноет в нём мужицкая жила, что ты зря добро на нас переводишь. Ворчит после каждого застолья: ах, сколько добра впусто изведено! Цельную сотню стрельцов можно-деи снарядить!
Иван кинул быстрый взгляд на Малюту, и лицо его радостно и светло преобразилось, словно осветилось каким-то невидимым светом.
– То в нём хорошая жила ноет! Впервой слышу, чтоб о моём добре пеклись. Подумать толико: цельную сотню стрельцов! А ежели вовсе не есть и не пить? А, Малюта?!
– Сие, государь, уж иная говоря... Не мешать бы праведного с грешным. Да, коль ты вопрошаешь, – отвечу. Не есть и не пить – до конца живота дойти... Вестимо. Обаче, государь, сколико попито да съедено уже на моих глазах, так не токмо что сотню стрельцов – цельное войско снарядить можно.
– И тебя во главе того войска поставить, дабы тыне кормя и не поя его, ещё одно снарядил!
Даже Васькина бескровная рожа затеплилась от Ивановой шутки: отлегло, видать, у него от души. А поначалу, как брякнул Малюта свою «ужасть», обмерло всё в нём, дыху своего не чуял. Да и остальных эта «ужасть» тоже вогнала в оторопь – и Федька, и Темрюк приёжили перья: не в них метил Малюта, но и не мимо. Принишкни ещё и Зайцев да не подхвати последнюю искорку угасшего вмиг веселья, было бы и вовсе худо: настроение Ивана испортилось бы вконец, а испортить ему настроение – не приведи Господи!
– Горазд ты, государь, в шутках! – усмехнулся и Малюта.
– С кем поведёшься... Вон каково государя-то своего вышучиваешь!
– Да нешто же... Господи! – ужаснулся Малюта. – Нетто же я тебя, государь?! Да кабы хоть малейшей малостью... Я бы камень себе на шею – и в воду! И не от скупости я... Не от скупости! – глянул он пригвождающе на Зайцева. – Не жила во мне дрожит! Душе надсадно, коли вижу, сколико вкруг тебя, государь, опивал да объедал. Я и сам середь них... Прости, государь, коль не в нрав тебе говорю, да кривить пред тобой не могу, ибо не лукав я, не лукав.
– Не лукав, вижу. То воевода клепает на тебя, бо ты испортил ему нынче праздник.
– Да не мне, государь! – бесстрашно возмутился Зайцев. – Тебе он испортил праздник!
– Нет, мне он не испортил праздника. Истинный праздник – который «внутрь нас есть», как писано, а не тот, который внутри братины. Верно я говорю, Малюта?
– Ох, государь, не токмо верно, но и мудро.
– Даже мудро! – не без удовольствия – то ли искреннего, то ли нарочитого – подчеркнул Иван. – Вот мы и учнём сейчас праздничать, но... Но уже не так, как доселе. Бо доселе мы праздничали не «мудро». Цельное войско пропраздничали!


![Книга Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного] автора Елена Арсеньева](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zheny-groznogo-carya-garem-ivana-groznogo-213715.jpg)





