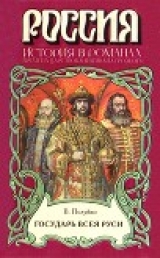
Текст книги "Государь всея Руси"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 35 страниц)
5
Но это все были заботы завтрашние, это готовилось и задумывалось Горенским на будущее, ибо примирить столь яростно ненавидящие друг друга стороны, даже если это и было возможно, – дело не одного дня. Сейчас же на первый план выступало другое: нужно было позаботиться о том, чтобы затея родичей не привела к новой стычке с царём. А быть ей или не быть – зависело уже и от того, кто отправится к нему и как станет говорить с ним. Как нужно говорить с Иваном – Горенский и сам толком не знал, но что пойти к нему должен именно он, он и никто другой, – это в нём утвердилось сразу. Потому-то и выставлял он свои козыри!
Конечно, было бы разумней и безопасней совсем отказаться от этой затеи, и Горенскому, пожалуй, стоило бы проявить настойчивость и попытаться уговорить своих строптивых родичей не лезть на рожон, ибо затея эта, при всей её кажущейся безобидности, на самом деле была скрытым вызовом царю, и тот, вне всякого сомнения, так её и воспримет. Но Горенский сознательно не стал этого делать, потому что и сам, по своей внутренней потребности, хотел пойти к Ивану. Он был в чести у царя, и в чести немалой, можно даже сказать, что и вправду был его любимцем, хотя сам так не считал, чем в глубине души даже гордился. Впрочем, своим отношениям с Иваном он затруднялся дать точное определение. Странными были эти отношения. Иван постоянно держал его под рукой, приказывал почётные и важные дела и даже включил его в число своих душеприказчиков. Из всех Оболенских, к которым Иван и раньше не питал особой приязни, он, Горенский, был единственным, удостоившимся такой чести, и это не было ни уступкой со стороны Ивана влиятельному роду, как могло бы показаться, ни тем более заигрыванием с самим Горенским, чего и показаться не могло, – Иван действительно доверял ему, без игры, без расчёта, без хитрости. Полоцкий поход, где Горенский, не боярин, всего лишь окольничий, получил под начало Сторожевой полк, был самым лучшим тому доказательством. Вместе с тем Иван никогда не допускал его близко к себе, никогда не бывал с ним ласков, приветлив, скорее наоборот: частенько срывал на нём злость, незаслуженно обижал... Пример тому – его злобная выходка в Великих Луках, когда он ни за что ни про что вызверился на него, требуя уступить место казанцу Симеону Касаевичу, явившемуся вместе с ним в Разрядную избу. Что уж там обозлило его – бог весть, но, должно быть, могло показаться, что воеводы намеренно, в пику ему, не оказали честь Симеону. Было такое: растерявшиеся от неожиданного прихода царя воеводы и вправду не поторопились почтить татарина, даже места ему не освободили, и Горенский в том числе, но свой полный злобы н ненависти взгляд Иван почему-то предназначил только ему одному, словно он, Горенский, подбил их на это или вообще был олицетворением всей той противности и перекора, которые Иван подозревал в каждом боярине, в каждом воеводе.
А сколько было других случаев, пусть и не столь разительных, но тоже оставивших в душе свой след, – им Горенский и счёт потерял. Теперь, когда между царём и его родом пробежала чёрная кошка, память почему-то возрождала именно это – обидное, горькое, злое, словно что-то в нём, неподвластное его воле, его рассудку, стремилось восстать на Ивана, отвратить от него... Но, быть может (и скорее всего!), тут действовали иные силы – защитные. Пробуждая в нём эти недобрые воспоминания, они тем самым укрепляли его, помогали выработать способность – переносить ещё худшее, точно так же, как малыми дозами яда вырабатывают способность переносить большие. А худшего не нужно было долго ждать. Оно уже пришло, явилось – вдогон за чёрной кошкой, след которой неизбежно должен был пролечь и через их личные отношения, хотя видимых причин для этого и не было: сам он ничем не прогневал Ивана и не дал ему ни малейшего повода заподозрить его в родовом единодушии, но – он тоже был Оболенский, а Иван был не тем человеком, который мог легко переступить через это. Конечно, он не крикнет ему в злобе: «Пошёл вон!» – как мог бы крикнуть любому из Оболенских, и то доверие, которое он до сих пор испытывал к нему, тоже не сразу, не в одночасье сменится недоверием и неприязнью; может статься, что этого и вовсе не случится, но какая-то межа, грань всё равно будет существовать, мучительно, непреодолимо разделяя их отношения на старые и новые.
Сознавать всё это Горенскому было нелегко, ещё труднее было ощущать своё полнейшее бессилие изменить ситуацию. Его мучил угнетающий дух неблагополучия, сопротивляться которому не могли никакие защитные силы его души; и только понимание того, что всё это тоже не в воле Ивана, облегчало его состояние. Он понимал, что Иван оказался в не менее, а может, и в более трудном положении, чем он сам. Да, перед ним самим встал труднейший вопрос – с кем он? С родом или царём? И если раньше он был и с родом и с царём, то теперь такое стало невозможным. Теперь он должен был сделать выбор и ответить себе – с кем он? – а дальше всё становилось ясным и простым. Для Ивана же такая простота и ясность могли не наступить никогда. Сомнения могли терзать его душу каждодневно, и на его вопрос: «Кто Горенский, враг или друг?»– никто не мог ответить.
Собираясь к Ивану, Горенский много раздумывал над этим и всякий раз ловил себя на мысли, что сочувствует ему. Более того: он готов был даже заранее оправдать его, не зная ещё, что тот предпримет и как поведёт себя с ним и с его родичами. Эта мысль, при всей её чудовищности, крайности, не ужасала его, не приводила в смятение, ибо он понял весь ход событий и душевное состояние Ивана. Но, сочувствуя ему и даже заранее оправдывая, Горенский тем не менее не обнаруживал в себе желания стать на его сторону, что само по себе, пожалуй, не очень и смущало бы его, если бы он не чувствовал при этом, как неодолимо его тянет к Ивану и как тягостна, даже страшна ему мысль не о разрыве с ним, Боже упаси, а лишь о том, что их отношения могут измениться.
Такая противоречивость чувств, обнаруженная им в себе, стала мучить его ещё сильней, чем всё остальное, и не потому только, что он не мог ответить себе – почему это происходит, отчего в нём самом, в его душе словно бы тоже пролегла межа, – мучительнее всего было то, что с этой раздвоенностью, с этой необъяснимой противоречивостью нужно было идти к Ивану и скрывать её от него. А скрывать что-то от него, быть неискренним с ним он не хотел. К тому же неискренность была просто не под силу ему, он боялся её, зная, как чуток Иван на малейшую кривину души. Но и открыться ему в своих метаниях тоже не мог. Он смутно чувствовал, что межа, пролёгшая через его душу, не только растолкала по сторонам все его «за» и «против», но и надломила, поколебала в нём его духовную целостность, то есть как раз то, что предопределяло любой его поступок, любой выбор; и значит, тот выбор, который ему теперь предстояло сделать, вряд ли уже будет твёрдым и окончательным, и значит, будут метания, а метания – это измены, предательства... Сознаться же в том, что он способен дойти до предательства, Горенский мог разве что перед самим собой, но перед Иваном – никогда!
6
С такими мыслями и настроениями князь Пётр Горенский собирался к Ивану. Он рад был бы уже и не ходить к нему, но как не пойдёшь, коль назвался груздем?
Накануне вечером, усердно помолившись, сел он за «Апостол» – укрепиться духом, приобщиться мудрости, отвлечься... Только было углубился в чтение, а тут на пороге брат меньший, Юрий. В тягости своих мыслей Пётр совершенно забыл про него. На родовом совете Юрий не присутствовал, сказавшись больным, но было ясно, что он просто уклонился. Впрочем, его отсутствия никто и не заметил: в роду Оболенских он ещё не заимел шестка. Даже брат родной мог забыть про него!
– Здравствуй! – тихо сказал Юрий, оставаясь у двери и к чему-то сторожко прислушиваясь.
Пётр кивнул ему в ответ, удивлённо спросил:
– Что ты, как от погони?
– Я своим челядным ни на грош не верю... А и твоим – також! Все они шиши и доносчики!
– Полно! – усмехнулся Пётр.
Юрий подошёл к нему, ласково потрепал по плечу.
– Здравствуй, брат! Ох и свечей у тебя!.. – Он обвёл взглядом ярко освещённую горницу. – Словно Бог в гостях!
– Читаю, – указал Пётр на раскрытую книгу.
Юрий присел рядом с ним на лавку, заглянул в книгу и, прочитав заглавную вязь, со вздохом сказал:
– А я уж давно ничего не читаю. Разве что... кощуны о Китоврасе.
– Пошто так?
Юрий помолчал, вперив взгляд в яркие язычки свечей, горевших в настольном подсвечнике, потом загасил одну из них, ещё помолчал, наконец сказал – с какой-то торжественной безысходностью:
– Оставляя рай, Адам оборотился назад, чтобы воззреть в последний раз на древо познания добра и зла, и увидел, что оно высохло.
Пётр пристально посмотрел на брата, стараясь поймать его ускользающий взгляд, но это ему не удалось, и он подозрительно спросил:
– Говори, с чем пожаловал?
– Благословить пришёл... Дошли слухи, что ты сам напросился.
– Не юли. Поп из тебя никудышный, даже лба не перекрестил, войдя.
– Бог мне простит.
Юрий порывисто встал, прошёлся по горнице, зачем-то потушил свечи ещё и в напольном шандале. Горница враз притемнилась.
– ...Стало быть, не страшишься домашних своих? А ве́ди сказано: враги человеку домашние его.
Юрий ещё походил по горнице – теперь уже вокруг стола, и казалось, глядя на него, на то, как он косился на две оставшиеся в подсвечнике свечи, освещавшие выжидательно напрягшееся лицо Петра, что его подмывает загасить и их. Свет как будто стеснял его.
– ...Выходит, и мы с тобой враги? Да, Пётр? Что молчишь?
– Жду главного.
– Всё главное, Пётр... Коли на душе камень, нешто сие не главное? Я и про твою душу говорю. Знаю, зачем ты пойдёшь к нему... Чего ж тут не знать? Токмо... кобыла с волком мирилась, да домой не воротилась.
– И далее будем говорить притчами, как юродивые? – насупился Пётр. – Или, буде, сойдём на прямую речь?
– Нешто тебе не ясны мои притчи?
– Чем прямее, тем яснее.
– Куда уж яснее?!
– Про кобылу и про волка – ясно. И про камень також... А вот что под камнем?
– Под камнем – душа, изнемогшая в край душа!
– От страха, что ли? – пошутил Пётр.
– Да, и от страха... Не стану пред тобою храбриться, понеже всё живое, и мы, человеки, в том числе, опасает живот свой... Где-то сказано, что Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, ибо он создал всё для бытия. Почто же живое должно радоваться смерти и покорно отдавать свой живот на погибель? Посему нет греха и позора в таковом страхе. То он ни во грош не ставит наши животы. Ему что нитку порвать, что человека лишить живота. Но то его грех и позор, его, не наш, и я не стыжусь сознаться перед тобой в своём страхе... Да, и от страха изнемогла душа моя, понеже... опять скажу притчей: под кем лёд трещит, а под нами ломится. Но более всего от виляния и каждодневного насилия над ней изнемогла душа моя! Как вступил я в возраст, как пошёл на службу, так и началось... Нынче мне говорят: восе апостол, восе пророк, восе радетель о пользе отечества, каковых ещё не было! И я не смей в том усомниться! И не токмо, унаси Боже, усомниться, – я должен душу свою обратить на любовь к нему, должен молиться на него, чтить его, а иначе худо мне будет. Ладно, поворотил я душу – чту, молюсь... А завтра всё верх тормами! Завтра сего пророка, сего радетеля повергли долу, втоптали в гной и прах, и имя ему уже – бешеная собака, крестопреступник, исчадье ехидново, как было с Адашевым, да и с иными... И я вновь не смей усомниться, и вновь должен душу свою поворачивать – теперь уж на ненависть к нему. И нет тому конца, и нет тому перевода. Я всё жду, что придёт такой день, коли нам скажут, что солнце мрачно, как власяница, и мы перестанем верить своим глазам.
– Господи, да так повсюду, во всех пределах, – равнодушно, лишь чуть досадливо отмахнулся от всего этого Пётр.
– И что с того, что повсюду? А у нас не должно так быть! Коль мы зовём себя православными – уразумей; православными, правыми надо всеми! – то у нас не должно быть так, как в других пределах! А иначе в чём же наше отличие, в чём наша правота? Да и в самом деле, в чём она? Отгородились от всего мира, зовём всех схизматиками, а чем же мы лучше их, чем отличны от них? Тем, что у нас хлеб для причастия кислый, а у них пресный? Токмо и того?! А правда, сам дух правды, – где же он на святой, правой Руси?! Святослав язычник был[230]230
Святослав язычник был... — Имеется в виду Святослав I (?—972), сын князя Игоря и княгини Ольги, князь Киевский с 957 г.
[Закрыть], а с врагами честен, без ков, повсегда упреждал их: «Хочу на вы ити». Мы же – христиане, православные, а так и норовим коварством и лжею промыслити. Свели немцев из Дерпта в города наши московские, изменивши прямому слову, что дали им воеводы: не выводить их из города. Они на том слове нашем и город отворили, а мы в неправде своей извечной с того слова преступно сошли. Так в чём же мы лучше их, в чём отличны?
– Вот уж, право, не думал и не гадал, что святая, правая Русь обрящет в твоём, братец, лице нового ересиарха. Во всём уж усомнялись... В правости веры нашей ты усомняешься первый.
Юрий вместо ответа на это язвительное замечание Петра облокотился на столешницу, стал смотреть ему прямо в глаза, и Пётр, незадолго до того сам пытавшийся поймать его взгляд, вдруг не выдержал такой прямоты и потупился.
– Почто ты мне не сказал, собирая меня на службу, что не служить я буду, а вилять душой? Ты был мне в отца место, набольник мой, опекун... Почто ты мне не сказал? Теперь – я на службе! Помыслы мои должны быть высоки: я должен думать о благе отечества, о благе государя... И дух мой должен быть высок! Я должен являть храбрость в бою с недругами... Храбрость! Доблесть! – Юрий протяжно вздохнул, откинулся от стола, снова уставился на свечи, но теперь уже они не занимали его, взгляд его был отсутствующим, как бы обращённым в себя. – А я думаю токмо об одном, – сказал он сдавленно, будто через силу, – что я – раб; что, явив храбрость перед врагом, у себя в дому я должен вилять душой, как самый ничтожный трус. Горько, обидно, странно... Ещё более странно то, что чем усердней примусь я вилять, чем ничтожней я буду, тем более мне будет почёта, а заодно – и доверия, что, право, уж смеху подобно! Ве́ди ясно: ежели я могу изменять себе, то ему – и подавно. Ясно! И он не может не разуметь сего! Но дело всё в том, что иные ему не нужны... Те, что будут истинно преданны, духом и разумом, – те ему не нужны. Ему потребны лише рабы, бездумные, жалкие рабы. Ежели бы ты сказал мне про сие, я бы лучше ушёл в монастырь.
– В монастырь?! – снисходительно хмыкнул Пётр. – Туда николи же не поздно. Токмо и там придётся вилять... Душа человеку на то и дана, как собаке хвост. А ты, что тот Китоврас, – не больно вёрток, вот и ломит тебя, вот и маешься...
Пётр говорил спокойно, степенно, только чуть вяловато, как бы с неохотой. Послушав Юрия, он решил про себя, что тот пришёл просто излить душу, как это бывало и раньше, а иного ничего не случилось, и это успокоило его, поэтому и голос его звучал степенно, ровно... Он не убеждал, не наставлял, он просто говорил – то, что, как ему казалось, всем давно и хорошо известно, в том числе и самому Юрию.
– ...Да все мы маемся. Думаешь, он не мается? Думаешь, ему не доводилось обращать свою душу на разные стороны? Вспомни-ка его малолетство! Да и сейчас не легче... Поставь себя на его место.
– «Поставь себя на его место! Вспомни его малолетство!» – Юрий вспыхнул. – То всё юродство, Пётр! Блаженны нищие духом! Буле, в детстве он и познал зло, но тогда же, в своё малолетство, коли принялся он, потехи ради, проливать кровь бессловесных, бросая их с теремов, – тогда и вросло в его душу присное зло, и не стало оттоль для него разнства меж бессловесными и словесными.
– Мы сами его таковым взрастили. Потакали ему во всём...
– Ты тщишься быть справедливым к нему...
Юрий опять прошёлся по горнице – явно для того, чтоб успокоиться, собраться с мыслями.
– Но то не справедливость... То убожество духа. Да, Пётр! И не нам надобно ставить себя на его место – сие ничего не изменит, – но ему – на наше... Да, Пётр, ему надобно ставить себя на наше место!
– Ишь, чего захотел! – рассмеялся Пётр. – Нет, братец ты мой суемудрый, так не бывает и николи же не будет! Мир устроился сильными! Орел не может и не должен ставить себя на место зайца. Ты сам первый возгнусишься таковым орлом. Или скажешь, не прав я?
– Про орла, буде, и прав... Но у нас, у людей, всё должно быть иначе, ибо Бог создал нас не по образу тварей, но по своему, Божьему, образу и подобию.
– «У нас, у людей!» Про каковых таковых людей ты речёшь? Просто людей – нет! Все люди на земле чьи-то подданные, чьи-то слуги, чьи-то рабы... Так было от века и будет до века! Когда на земле останется всего два человека, и тогда один из них будет раб, а другой – господин!
– Что же, тем и утешиться? Смириться?
– А что же, в петлю лезть?! Живым в могилу ложиться?!
– Бежать надобно, – тихо, почти шёпотом, сказал Юрий, но оттого, что сказано это было резко, решительно, шёпот его показался Петру чуть ли не криком, и он невольно втянул голову в плечи, словно уворачивался от этих страшных и совершенно неожиданных для него слов.
Душевные терзания брата были ему не в новость, он знал про них, и разговоры, подобные нынешнему, случались у них и раньше: Юрий не умел таиться и нёс к нему всё, что накапливалось в его душе, так что Пётр наслышался от него всякого и ко многому был готов, но ему и в голову не могло прийти, что когда-нибудь он услышит ещё и такое. Это было как удар – удар оглушающий, разом разрушивший связь мыслей, смешавший, сбивший их в какой-то вялый, недвижный ком, отчего в первую минуту он не мог даже сообразить, как и что ответить на это? Хотелось думать, что Юрий брякнул это просто для того, чтоб досадить ему, вывести его из себя, и он было уже поддался этому наивному самообману, но Юрий, увидев растерянность брата, рывком подсел к нему, обнял его за плечи и ещё тише, но по-прежнему твёрдо и решительно повторил:
– Бежать надобно, братка! Бежать!
Пётр посмотрел на его решительное лицо и понял: это – всерьёз, это – вызрело в нём, утвердилось, проросло корнями в его душу, в его сознание, и так глубоко, что, должно быть, уже никакими силами не вырвать его оттуда. И пришёл он именно затем, чтоб сказать ему об этом... Именно затем!
Юрий, не отпуская объятий, чуть тряхнул брата, словно старался вывести его из оцепенения, и, видя, как глаза Петра, неотрывно смотревшие на него, наполняются гневом и страхом, добавил как бы в оправдание:
– «Аше гонят вас во граде, бегайте во другий!» Ты сам приводил мне сие речение Христа.
Пётр не помнил, действительно ли он приводил ему это речение и по какому поводу? Если и приводил, то разумеется, не для того, чтоб пробудить в нём эту чудовищную мысль, ведь в нём самом это речение никогда ничего подобного не вызывало.
«Аще гонят вас во граде, бегайте во другий», – мысленно повторил Пётр и только сейчас, в эту минуту, по-настоящему вник в смысл этих слов, поняв, как неоднозначен он.
– Христос говорил не о том... Он говорил, чтоб не отступали от веры, от правды, – сдерживая себя, проговорил наконец Пётр, но тут же понял, что говорит совсем не то... Разубеждать Юрия, доказывать, что он превратно, по-своему, понял речение Христа, было бесполезно да и не нужно: не оно заронило в него эту мысль. Слова Христа он вспомнил потом, когда вздумал всё это, когда оно вызрело в нём, укрепилось… К тому же Пётр и сам теперь не был уверен, что истинный смысл Христова речения таков и есть, как понимает его он, стало быть, и доказательства его – только слова, бесполезные, нарочитые, ибо какой же в том прок – доказывать то, в чём не твёрд сам?! Это всё равно что беззубому пытаться грызть орехи.
– А таковому нет оправдания! – резко заключил Пётр, досадуя уже и на себя за свою беспомощность.
– Можно и без оправдания, – не смутился Юрий. – Да и перед кем оправдываться-то?
– Перед самим собой – допрежь всего! Перед своей душой, перед своей совестью! – ещё резче сказал Пётр, и опять почувствовал слабость, неубедительность своих слов: слишком уж поспешно, машинально вырвались они из него.
– Перед своей совестью у нас есть оправдание – кровь, пролитая за него.
– У нас? Ты уже и за меня решил?
– Без тебя я не побегу.
– Что?! – Кровь бросилась Петру в лицо, он побагровел. – Прочь! Поди прочь! – с гневом оттолкнул он от себя Юрия. – В роду Оболенских не было клятвопреступников и не будет! Не будет, слышишь?! Лучше тебе в темнице сгнить, убогому, – жестоко, безотчётно вышептал Пётр. – Вот уж поистине убожество духа!
– Доносчиков також не было в роду Оболенских, тем паче таковых, что доносят на единокровных своих. Ты будешь первый!
– Юрий! – Глаза Петра полезли из орбит. – Что ты такое говоришь, Юрий?!
– А ты – что?
– Да, – опомнился Пётр. Тяжело понурив голову, он стиснул её кулаками. – Сядь, давай поговорим... Спокойно и начистоту, как брат с братом.
– Я затем и пришёл...
– Ты прав, – после тягостного раздумья промолвил Пётр. – Лёд под нами ломится... Заеборзились наши с тобой сродники, прут на рожон, властно избезумели.
– Я их разумею.
– Понеже сам избезумел.
– Паче уж безумство, чем...
– Погоди! – остановил его Пётр. – Погоди витийствовать. Дай собраться с мыслями. То всё слова... У них там – також слова. Наслушался я... Слова и разброд! Никакого согласия! Токмо черевами трясут друг перед другом... Да хорохорятся: «Не посмеет! Не посмеет!» Ещё как и посмеет! Курлятев – токмо всчин... Ежели не потушить усобицы – полетят головы. Вот о чём надобно думать... Разумеешь? Беду отводить надобно, род спасать, а не присный живот. Да и то, что ты вздумал, – опасное больно дело. Кому удалось оно – я по пальцам тебе перечту.
– Отговоры твои – ни к чему. Я сказал уж: без тебя не побегу. Так что... всё в твоей воле. Тебе решать.
– Юрий, брось дуровать, – опять повысил голос Пётр. – Прошу тебя! Обо мне и речи быть не может, а тебя прошу... Как брат. Дурное ты вздумал дело, недостойное... Ты крест целовал, перед Богом клялся, что будешь верным... Не перед ним – перед Богом, Юрий!
– Неужто у Бога иных дел нет, как токмо запоминать человеческие клятвы? Вон сколико на земле людей, и все клянутся – по десяти раз на дню. Мыслимо ли их упомнить, даже всемогущему Богу?
– Знаю, ты недоверок, кощунник, но при мне, прошу тебя, не кощунствуй, – холодно, отчуждённо сказал Пётр. – Я всё могу стерпеть, токмо не богохульство.
– Да не кощунник я! – вскинулся возмущённо Юрий. – Не кощунник! Будь я им, я бы продал душу дьяволу и жил бескручинно, как живут все окрест меня... Как живёшь ты, братец мой единоутробный, наставляющий меня той же самой мудростью кощунных, что душа человеку дана, как собаке хвост! Вот и теперь ты понесёшь свою душу в заклад, и опять станешь жить бескручинно, коль с выгодой заложишь её! А ежели ещё сумеешь – не знаю уж как? – и беду отвести, спасти род, как ты говоришь, так и гордиться учнёшь!
– Вот ты как обо мне? – удивился Пётр. Не обиделся, только удивился, искренне, непритворно, как человек, который никогда ничего подобного не допускал. – И так ты думал всегда. Во всяком случае, давно уже думаешь так.
– Прости меня, Пётр! Видит Бог, я люблю тебя! Я жизнь готов отдать за тебя, но... Всё, что я сказал... Я не по злобе, Пётр.
– И как же тебе было тяжко всё сие время, – отозвавшись на сбивчивую, извиняющуюся скороговорку Юрия лишь рассеянным взглядом, горестно промолвил Пётр, додумывая вслух свою неожиданную и – это ясно было видно – очень взволновавшую его мысль. – Господи, кто же обрёк нас, разумных, словесных, на столь страшную муку – не разуметь друг друга? Мы точно в лесу: лише перекликаемся, аукаем... Дабы не отбиваться от других. Й лише сему ауканью и внимаем. Оно нам понятно, доступно, привычно... А всё прочее идёт мимо нас, властно ветер провевает. Отсюда и вражбы наши... Да, отсюда. Мы все, все друг другу враги, понеже не разумеем и не хотим разуметь душу ближнего своего, оттого и в наших, присных, душах извечный разлад и терзания.
– Ты хочешь сказать, что я не разумею тебя и потому сужу так?
– Ни ты не разумеешь меня, ни я – тебя. Что для меня твои душевные терзания? Блажь, дуровство, вычуры. А мои для тебя – бескручинное житьё. Так точно и с ним... Что для него наши возмущения, протесты? Токмо вражда, претыкания, козни! А для нас его крутость, жестокость – что она? Токмо крутость, токмо жестокость! Мы для него – израдцы, враги... Он для нас – тиран, дракула, злодей. Круг, который невозможно разомкнуть! Стена, которую никогда не разрушить!
– Человек и себя самого-то не больно разумеет... А уж чужая душа, давно и верно изречено, – тёмен бор. Нам не дано постичь сокровенную сущность чужой души, мы обречены, ты прав, обречены, оттого так часто и обманываемся... Прощаем там, где нужно осудить, и судим, где нужно оправдать. Ежели бы ты до конца уразумел, что он окрутник, злодей, ты бы не оправдывал его. Но ты сего не разумеешь... Иль, буде, мнишь, что злодейство как таковое – одно токмо мненье, как бы плод заблуждения нашего разума, плод нашего неразумения чужой души? А истинного злодейства и злодеев не существует?
– Он не злодей. Я разумею его... Я никого так не разумею, как его. Он не злодей.
– Кто же он тогда?
– Он государь, властелин. А мы – его подовластные. Не им так установлено... На то была вышняя воля. И ежели он требует от нас послушания, он требует его по праву. Оно також освящено свыше.
– Не послушания он требует! Он требует, чтоб мы отреклись от всего человеческого в себе! Он обращает нас в рабов, в ничтожных, презренных рабов! Что, на сие у него також есть право? Оно також освящено свыше? Молчишь?!
– Думаю, как ответить тебе... Да, я согласен с тобой, он жесток... Гнёт – не парит, переломит – не тужит. Но... опять повторю: он – государь, властелин. У него есть цель, правая цель – утвердить государство своё, добыть море... Ежели у нас будет море...
– Море?! – яростно вскрикнул Юрий. – Крови и слёз – вот какое у нас будет море!
– В тебе говорит злоба, Юрий, поганая, лютая злоба. Ты копишь её в себе, понеже тщишься найти оправдание тому, что замыслил.
– Да, злоба! И с каждым днём её будет всё больше и больше! А я не хочу, чтоб в душе моей выл лютый зверь. Не хочу, чтоб она дошла до того страшного, последнего предела, коли чёрным становится белый свет. Нет в том преступления – душу спасти свою. Нет!
– Дьявол многолик. Дозволь тебе надпамятовать сию истину. А вместо тех велезвучных слов, что говорят в таких случаях, я скажу тебе просторечную притчу, которая, знатно, не одну уже сотню лет живёт в народе. Ты много приводил нынче притч, приведу и я... В миру говорят: ближняя хаянка лучше дальней хвалёнки. Знаешь ты сию притчу?
– Знаю и другую, подобную: ближняя соломка лучше дальнего сенца.
– Вот и рассуди: не от одного удельного к другому отъехать, как бывало в старое время, – отечество, родину оставить. И не просто оставить – сбежать, то бишь изменить, предать...
– Сие не измена, не предательство, но избавление от злодеев. Все его приспешники, что творят зло лютое, вся нечисть, что опять зачала своё бесовство, учуяв вольготную пору, – вот истинные изменники, хотя они и не переменят земли своей. А что до того, лучше ли ближняя соломка дальнего сенца, то тут счёт такой: лучше, ежели соломка... А ежели полынь горькая? И ежели родина – уже не мать, а мачеха, лютая, жестокая мачеха, изводящая нещадно своих сынов, – тогда что?!
– Родина не может быть мачехой. Ты не мешай в одно – родину и её нечестивых сынов.
– Ну да, всё худое, скверное – сие не родина. Токмо доброе – родина. Он – сие не родина! Застенок – не родина! Плаха – також не родина! А что же – родина? Небо над головой? Поля, урочища? Реки, текущие сквозь них? Нет, родина – сие то, с чем человек рождён! Родина – сие то, чем он напитал свою душу, чем утвердил себя, какие мысли взлелеял в себе, какой путь положил пред собой. Истинная родина для человека – его убеждения, и ежели человек отрекается от себя самого, ломает душу свою, – он и есть настоящий изменник. Но ежели он не изменил своим убеждениям, не преступил души своей, не пошёл в добровольное рабство и не стал пособником зла, что творят на его земле сыны нечестивые, то он не изменил никому и ничему, даже если покинул свой дом и гробы родительские. Нет такой измены – измена отечеству, понеже не отечеству изменяют – себе!
Пётр слушал эти страшные и в то же время безысходно-горькие, внушённые Юрию его мятущимся разумом слова, в которых, как в спутанном клубке, смешалось всё – и безрассудство, и отчаянье, и злая негодующая правота, соединившаяся с заблуждением (или уж только заблуждение, в чём разобраться Пётр ещё не мог), – слушал и поражался, поражался и негодовал, негодовал и сочувствовал, сопереживал ему, но не соглашался, не принимал ни единого его довода и был уверен, что никогда не сможет принять, потому что в его сознании, в его душе какой-то неведомой силой было прочно, незыблемо утверждено: этому нет оправдания! И вместе с тем он чувствовал, как какая-то иная сила, не разрушая в нём прежнее, первородное, даже не вступая с ним в противоборство, исподволь поворачивала его на сторону Юрия. Он чувствовал, что многое из того, о чём говорил брат, что мучило его, угнетало, жило и в нём самом, более того: некоторые мысли и настроения Юрия были разительно схожи с его собственными мыслями и настроениями, он не перенял их от Юрия, не заразился ими, они возникли в нём самом – из его собственных обид, боли; отчаянья, зла, от всего того, что окружало его, что он видел, знал, с чем соприкасались его мысль, его совесть, его человеческое достоинство. Правда, всё это жило в нём где-то под спудом, в тех тайниках души, куда имеет доступ лишь собственная совесть, а так как совесть ещё ни разу по-настоящему не припирала его к стенке, то всё это лишь изредка и ненадолго порождало в нём смуту и непокой. Это было подобно боли от случайной и нетяжкой раны, и эта боль, даже если она иногда и бывала чрезмерно мучительной, не обесценивала в нём того, чем была наполнена его повседневная жизнь и с чем пока что уживалась его совесть. И уж тем более всё это никогда не направляло его мысли туда, куда они были направлены у Юрия. Даже в самые тяжёлые минуты исступляющей тоски и крайнего отчаянья, когда перед ним во всей своей неотвратимости вставал этот палаческий вопрос: царь или род? – даже и тогда в нём не возникало ничего подобного. В монастырь! В петлю! Живьём в могилу! Но только не в бега! И вот сейчас, вслушиваясь в свои чувства, осмысливая в себе всё то, что поворачивало его на сторону Юрия, он вдруг поймал себя на мысли, что это и есть тот самый путь, который может вывести из тупика, в котором он очутился.


![Книга Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного] автора Елена Арсеньева](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zheny-groznogo-carya-garem-ivana-groznogo-213715.jpg)





