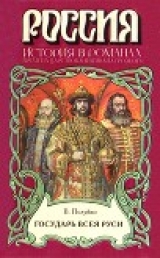
Текст книги "Государь всея Руси"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 35 страниц)
Немалое число страниц было занято описаниями путешествий и паломничеств, среди которых самым главным был «Странник» игумена Даниила, совершившего в начале двенадцатого века путешествие в Палестину и описавшего всё увиденное, услышанное и случившееся там с ним в этой своей пространной книге, названной им самим более витиевато и весомо – «Житьё и хоженье Данила, Русьскыя земли игумена».
Много было также различных притч и небольших рассказов не только религиозного, но и светского содержания; целиком была включена и такая нужная всем книга, как Кормчая, содержавшая церковные и гражданские правила и законы, без знания которых трудно было обойтись в повседневной жизни; были там и монастырские уставы, и даже послания и грамоты русских князей, – так что каждый, открывший или, как тогда говорили, разгнувший макариевские Минеи, мог найти в них себе чтение по душе.
5
Выйдя в мир, в свет, макариевские Минеи стали достоянием всей Руси – таким же, как и те её пашни и нивы, где в поте лица она добывала свой хлеб насущный; только на этой ниве предстояло трудиться её разуму, и потому нива эта была особенно благодатна.
Конечно, не нужно думать, что до макариевских Миней на Руси и мало читали, и совсем не стремились к знаниям, закосневая в невежестве от лености ума. Русь всегда была грамотной – и книжной и письменной, – правда, лишь в той мере, в какой это было необходимо, чтобы обслуживать свой быт, религию, культуру – свою культуру, которую взрастила в самой себе, а не ту, которую занесло к ней из Византий, Греций и Римов. Та залётная заморская культура была ей ещё не по зубам – тут греха таить нечего, и лезть из кожи вон, доказывая обратное, – тоже! Если всё тот же Максим Г рек стал для неё в полном смысле светочем, то что уж тут лезть из кожи?! А с другой стороны, и заморское было не самого лучшего пошиба. Ведь ни Браманте, ни Микеланджело не приехали в Москву, – приехали никому не известные Аристотель Фиораванти, Марко Руффо, Пьетро-Антонио Соларио, Алевиз Новый, и при всём уважении к их труду нужно взглянуть правде в глаза: Успенский собор – это не собор Святого Петра и Грановитая палата – не зал Понтификата в Ватикане. Однако правда и в том, что без них могло бы не быть и этого!
Да, всё так, слов из песни не выкинешь, и тем не менее усомниться в грамотности Руси не следует. Не следует, что бы там ни говорили по этому поводу в своих записках и исторических сочинениях проницательные и не больно проницательные учёные сочинители, посещавшие Русь в составе иностранных посольств и наблюдавшие её сквозь нарочитую, мишурную пышность посольского церемониала, которой, как они полагали (и не всегда без оснований!), стремились пустить им пыль в глаза и таким образом спрятать от их взора её подлинную убогость и невежество.
Грамотной была Русь, и книжной и письменной, но, конечно, не образованной, не учёной – в той мере, в какой были образованны и учены эти достопочтимые сочинители. А что были они действительно учены и образованны, доказывают их записки и сочинения, написанные столь блестяще и искусно, что Россия, взявшись читать их спустя столетия, стала верить им больше, чем своим собственным летописям, сказаниям, историям, которые каким-то чудесным образом возникли и просуществовали в течение многих веков в её темноте, безграмотности и невежественности.
Да, Русь в те поры не знала подлинной образованности и учёности. Это сторонние наблюдатели верно подметили. Но её отсталость не означала беспросветного невежества и бездарности. Они смотрели на Русь с высоты своей образованности, смотрели через себя, а смотреть надо было через самоё Русь, через её быт, уклад, через её потребы и нужды, и тогда, быть может, они смогли бы понять, что её от них отделяет не пропасть, как казалось им, а всего лишь некий отрезок пути, который ей ещё предстояло пройти.
Минеи-Четии прославили Макария больше, нежели все его добродетели и прежние богоугодные дела, добавив к его славе человека милосердного и справедливого славу человека книжного, учёного, что тогда на Руси ценилось не меньше, чем милосердие и справедливость.
Не обошла слава и его сподвижников, да он, к чести своей, и не стремился затенить, заслонить их собой. Летописи на века сохранили их имена, и «достойно есть» им, как поётся в молитве, ибо они были не просто лучшими книжниками и писателями той поры, навыкшими «хитрости грамотикийстей», – они были умственным узорочьем земли Русской, той солью её, без которой не вкусен хлеб насущный, даже если его и не в изобилии. Некоторые из них, пожалуй, даже превосходили Макария талантами, как, например, Маркел Безбородый или Дмитрий Герасимов, и мыслили глубже, смелей и своеобразней, как Еразм-Ермолай, но Макарий был для всех них тем, чем бывает в засуху дождь. Не прольётся он на иссушенную ниву – и не наберёт колос силы, хотя и таится она в нём... Так и Макарий! Не излей он на них живительную щедрость своей души, не причасти духом взыскующего подвижничества, которым был наполнен сам, не утверди убеждённость в высоком назначении их труда и не сплоти этой убеждённостью и трудом, то, как знать, сумел бы каждый из них в отдельности взрасти таким полновесным колосом, каким удалось взрасти на ухоженной Макарием ниве.
Книгопечатание тоже было частью этой благодатной, ухоженной Макарием нивы: его благословением, попечением и заботами поставлялось оно, ибо царь, как это и водится, только высказал «благую» мысль, которую «вложи ему Бог во ум его царский», а осуществлять её предстояло Макарию, потому что дело это было духовное и затевалось ради потреб духовных, так что миновать рук Макария оно никак не могло. Откажись Макарий почему-либо, воспротивься или заяви – вослед тем, кто тайно шептался вокруг него, – что дело сие богопротивное, и как бы всё пошло, куда поворотило – Бог весть! В таком деле слово духовного владыки значило очень много. Но Макарий не только не воспротивился или хотя бы «посумнелся», а, наоборот, «зело возрадовася» и сам указал, что в бытность свою в Новгороде знал одного тамошнего умельца, который был «смыслен и разумен к таковому делу», и имя его назвал – Маруша Нефедьев. Потом приобщил к этой работе и самого Фёдорова, видя его благое желание постичь сие хитроумное заморское дело, и сам вместе с протопопом Сильвестром наблюдал, как делал Маруша первые пробные книги.
В самое трудное время, когда царь поохладел к этой затее, увлёкшись строительством Покровского собора, который возводил в честь своей великой победы над Казанским ханством, когда не стало Маруши, оставшегося не у дел и пропавшего от неприкаянности и огорчения, когда казалось, что всё окончательно расстроилось и теперь едва ли будет продолжено, только Макарий своим ободряющим словом не давал погаснуть последней, еле тлеющей искорке надежды.
Храм-памятник, храм-символ был детищем Ивана, его великой благодарностью тем высшим силам, которые даровали ему эту победу – как самому достойному и правому, избраному ими на это святое дело, потому, понимая, с какими мыслями и чувствами Иван возводит этот храм, да и сам исполненный таких же точно чувств, Макарий не хотел, не мог и считал зазорным, даже кощунственным, лезть ему под руку в такой момент с чем-то иным, не столь высоким и значительным. Всё должно идти своим естественным путём и совершаться в своё время, – эту древнюю истину Макарий усвоил особенно прочно и придерживался её всю жизнь, будучи твёрдо убеждённым, что умеющий ждать, долготерпеливый, неотступным, мудрый никогда не бывает обманут судьбой: настойчивость, терпение, ум не могут не вознаградиться!
Этого мудрого, прозорливого терпения, умения ждать и надеяться и верить в свою судьбу как раз и не хватало Фёдорову в ту пору. От тоски и отчаянья, частенько овладевавших им, опускались руки, слабел дух, иссякала воля, не хотелось тогда ничего – ни молиться, ни мыслить, ни жить... Неприкаянность, безысходность, отверженность – как же тяжки они, как мучительно болезнует душа, изъязвлённая ими! Вот когда он понял Марушу и уже больше не осуждал за то, что пошёл тот в кабак: этой тяжести не стерпел Маруша, этой боли не вынес и хотел вином заглушить её. Не будь на нём, Фёдорове, духовного сана, то, как знать, удержался ли бы от этого он и сам?!
Когда тоска совсем одолевала, начинал он подумывать даже о том, чтобы принять постриг и уйти в монастырь, дабы уже до конца отрешиться от всех земных дел и забот и стать непогребённым мертвецом. Мысль эту, впрочем, возбуждала не только тоска. Она возникала тем чаще, чем острее и глубже сознавал он всю безмерность своей зависимости от некой всевластной, безжалостно подминающей под себя всё и вся силы, которая губительно перечеркнула судьбу Маруши и точно так же могла перечеркнуть и его судьбу, притом не обязательно преднамеренно – слепо, спроста, мимо воли: как наступить на букашку, как опрокинуть ненароком сосуд с водой. Ибо что такое для этой силы, для её напроломной поступи были такие, как он, как Маруша? Букашки, истинно букашки! Или и того ничтожней! И оттого, что он понимал действия этих внешних сил и не мог примирить с ними своей души, ему было ещё тяжелей. Не будь тогда Макария, не будь его сердечной опеки над ним, его мудрости, терпеливости, его веры, которой он заражал и его, Фёдорова, не давая ему окончательно пасть духом, не будь его постоянной поддержки и защиты, которая хотя и не уменьшила число его врагов и злопыхателей, но прыти им немного поубавила, – не известно, хватило ли бы ему духовных сил устоять, не поддаться искушению, удержать себя от непоправимого шага.
В ту пору Макарий стал ему особенно близок, хотя он знал: их разделяет гораздо большее, чем единит. Единило их дело, к которому оба прикипели душой, а разделяло всё то, что разделяет сильного и слабого, власть имущего и безвластного, приказывающего и исполняющего. Само бытие, сама почва, на которой взрастало их собственное – каждого в отдельности – древо познания жизни, разделяли их, и, расскажи он Макарию обо всём своём сокровенном, открой всю свою душу, сознайся в том, что гнетёт его сильнее всего, вряд ли бы нашёл он отклик в душе святителя, вряд ли бы тот понял его, и уж совсем точно – не признал бы за ним права не мириться с этим. Да и как он мог признать за ним такое право, если и сам был частью той самой мучающей Фёдорова силы.
Фёдоров всё это понимал и потому был сдержан с Макарием, из-за чего порой чувствовал себя виноватым: казалось ему, что он платит митрополиту чёрной неблагодарностью, тая от него свою душу. Но что-то такое, глубинное, охранительное, скрывавшееся в подсознании, говорило ему: так надо! Не ради себя, своего покоя, но ради дела и ради самого же Макария, которому, в отличие от него, Фёдорова, будет просто не под силу смириться с мыслью, что кто-то рядом с ним может думать, чувствовать и смотреть на многие вещи не так, как он.
Богу, только Богу поверял Фёдоров своё самое сокровенное, и каждодневно отмаливал перед ним грех своего скраднодушия, присовокупляя к обычным, общепринятым молитвам и свою собственную, сочинённую в пору самых горьких душевных терзаний. Молитва эта была несколько необычная, в некотором роде даже еретическая, потому что обращалась не к Всевышнему в трёх лицах, а к «единому началу», к Богу Вседержителю. Но потребность его души, его сознания в особой, собственной молитве была столь высока, что он не смущался её еретичностью, более того, был уверен, что не нарушает законы и догматы веры, ибо потребность души – это высший закон. И потому он творил свою молитву: «Господи Вседержителю, Боже вечный и безначальный, благости ради единой приведший всё от небытия в бытие словом всемогущим и нераздельным духом уст своих, заботящийся обо всём и всё содержащий, исчисляющий и по имени зовущий всякую тварь свою! Укрепи, Боже, то, что вложил Ты в нас неисповедимою глубиною замысла своего, датель истинной премудрости, вразуми мя, и аз познаю закон Твой, и не отыми от уст моих словеса истины, ради братий моих и ближних моих! Услышь молитву мою, Господи, и внемли мне, и слёз моих не премолчи! Очисти мя от страстей моих, да вдохновлюся аз трудами и почию в смирении и созерцании, ибо и прежде Ты, о владыко, прощал нечестие сердца моего по молитвам святых Твоих, издревле угодивших Тебе и ныне служащих Тебе преподобием и правдою. Аминь».
И перед Макарием было у него оправдание: он таил от него душу, но никогда и ни в чём не кривил ею. Он был искренне предан ему и так же искренне чтил и любил его, и то, что разделяло их, нисколько не мешало этому.
Всякий раз, когда он приходил к митрополиту и видел, как с каждым днём угасает в нём жизнь, его охватывала печаль, и печаль эта тоже была искренняя, без малейшего нагнёта, чистая, благая, как молитва, вся исполненная глубокого почтения к старцу и тихого, затаённого прощания с ним. К ней, конечно, примешивалась и тревога о том, как и что будет после Макария, какие явятся перемены, какие возгласятся слова, а главное – каким будет его преемник, как станет относиться к книгопечатанию и лично к нему, Фёдорову? Поладят ли они, сойдутся ли в устремлениях, в мыслях, в чувствах? Найдёт ли он у нового митрополита такое же понимание, какое находил у Макария, и станет ли тог беспокоиться и болеть душой о книжном деле, как беспокоился и болел о нём Макарий, или отстранится, отчуждится, а хуже того – затаит неприязнь да и примется чинить препоны?
Слышал Фёдоров, поговаривали вездесущие слухоплёты, что будто бы уж наметил царь на место Макария своего бывшего духовника – протопопа Андрея[134]134
...будто бы уж наметил царь на место Макария своего бывшего духовника – протопопа Андрея... – Действительно, бывший духовник царя протоиерей Благовещенского собора Андрей (в иночестве Афанасий) был избран после смерти Макария, скончавшегося в последний день 1563 г., первосвятителем. Оставил митрополию в 1566 г. из-за тяжёлой болезни.
[Закрыть], принявшего недавно постриг в Чудовом монастыре, из-за чего, должно быть, и пошли эти слухи, потому что всё в них сходилось на одном: мол, неспроста постригся Андрей, метит его царь в митрополиты... И хотя поспешное и негаданное пострижение Андрея как будто бы подтверждало эти слухи, Фёдоров, однако, не склонен был верить им, и если допускал такую возможность, то с очень большими сомнениями. Ему казалось, что царь не может остановить свой выбор на Андрее, теперь уже ставшем в монашестве Афанасием, потому что очень уж велика была разница между ним и Макарием, чего не видеть Иван не мог.
Андрей проигрывал Макарию во всём, хотя, конечно, тоже не был лишён достоинств, иначе не стал бы царским духовником, но в сравнении с Макарием его жребий был более чем скромен: ему не выпало, пожалуй, и сотой доли тех Божьих щедрот, что выпали Макарию, и потому его достоинства были лишь достоинствами, тогда как у Макария был – дар Божий! Да и среди епископов и архиепископов тоже были такие, в ком теплилась искра Божия, и если уж выбирать, думал себе Фёдоров, то непременно кого-то из них: того же Пимена Новгородского или Никандра Ростовского, на худой конец даже Матфея Крутицкого или Варлаама Коломенского, тем более что коломенская епархия всегда была в особой чести у московских государей, и опекаема ими, и любима... Но самым достойным преемником Макария казался Фёдорову игумен далёкого Соловецкого монастыря Филипп Колычев[135]135
Но самым достойным преемником Макария казался Фёдорову игумен далёкого Соловецкого монастыря Филипп Колычев. – Филипп (в миру Фёдор Степанович Колычев; 1507– 1569) – митрополит Московский и всея Руси. Происходил из знатного рода. В 1537 г, поступил послушником в Соловецкий монастырь, затем принял монашество. Вёл подвижническую и строгую жизнь, чем снискал всеобщее уважение. В 1548 г. сделался игуменом. Слава о нем как о человеке святой жизни и образцовом хозяине разнеслась по всей Руси. На соборе 1566 г. при выборе митрополита был указан как главный кандидат на этот пост. Однако Филипп поставил условием своего согласия отмену опричнины. И только после долгого понуждения царя и епископов согласился не вмешиваться во дворцовые дела и принял избрание. Тем не менее уже на второй год после принятия митрополии обратился к Ивану IV с требованием прекратить кровопролитие. В начале 1568 г. царём был созван собор для суда над митрополитом Филиппом. Он был низложен, отвезён опричниками в Богоявленский монастырь, откуда переведён сперва в Старо-Никольский, а потом в тверской Отрочь-монастырь, где был задушен Малютой Скуратовым.
[Закрыть]. Слава о его талантах и добродетелях шла по всей Руси, да и царь, как слыхал Фёдоров, высоко ценил Филиппа, считая, что тот достоин и архиепископского сана, и даже святительского.
А с другой стороны, допуская, что Андрей всё же может занять митрополичий престол, Фёдоров в душе даже радовался этому, ведь Андрей был как раз одним из тех, на кого Макарий оказал особенно сильное влияние. Он был не просто выучеником Макария, его сподвижником, помощником – он был выпестован им, взращён и наставлен в тех духовных законах и правилах, которые исповедовал Макарий, и напитан тем духом высокой пытливости, учёности, книжности, духом подвижничества, который царил вокруг Макария и которому, как думал Фёдоров, Андрей уже не сможет изменить, не сможет попрать его в себе, и потому можно было надеяться, что и после Макария всё будет так же, как было при нём. Хотя, конечно, могло случиться всякое. Одно дело находиться под чьей-то опекой, под чьим-то духовным смотрением, быть у кого-то подручником и хранить в себе добродетели, не подвергаясь никаким искушениям, другое – когда ты сам себе хозяин, сам господин и под твоей рукой – другие. Тут уж соблазнов – уйма, и не поддаться им, устоять, удержать себя в узде, уберечься от произвола – не всякий сможет!
Чувствовал Фёдоров, что и Макария, сознававшего свой близкий конец, тоже тревожат подобные мысли, но заговорить с ним об этом первым не решался.
Однажды Макарий сам начал:
– Скоро Господь призовёт мя, грешного, в чертоги свои небесные – на суд свой владычный... Оставляя мир сей, единое токмо хотел бы уведети: кому дело своё оставляю?
– Кому бы хотелось оставить, владыка? – осторожно спросил Фёдоров.
Макарий долго молчал, раздумывал: должно быть, вопрос этот был для него самым трудным. Он боялся ошибиться, но ещё больше, вероятно, боялся проявить свою волю, чтобы и тут даже мысленно не разойтись с царём.
Ответ его был уклончив, но полон глубокой тревоги и давних, неотступных сомнений:
– Сильный наследит – учнёт самочинствовати, всё разметёт своим помелом. Слабый – мохом порастит... А светильник наш не должен изгаснути. О строении книг печатных тебе, дьякон, заповедую: стой за дело сие непоползновенно, живота и статков своих не пожалей для него... Не отступай и не устрашайся гласа тех, безумных и лукавых, мнящихся быти учительми, которые глаголют, что непотребно книгам много учитися, понеже в книгах заходятся человецы, сиречь безумеют альбо в ересь впадают. Ведеши о таковых?
– Ведаю, владыка...
– От тех их проповедей мнози боятся книги и в руки взяти.
– Таков, владыка, обычай злонравных, и ненаученных, и неискусных в разуме людей, которые токмо то и умеют, что изрекать втуне и всуе слова свои злые.
– Именем святопочивших отцов Церкви нашей, Иосифа Волоцкаго и иных благоверных, воинствуют, прикрывая своё скудоумие якобы памятью и почтением к ним, – тихо сокрушался Макарий, высказывая своё давнишнее, наболевшее, удручавшее его. – А Иосиф и оные приснопамятные поборники Церкви нашей сами были люди книжные, изящные, нарочитые и иных скудных мудростью и невегласей[136]136
Невеглас – невежественный, неучёный, не приобщившийся к христианской культуре человек.
[Закрыть] книжным словом своим просвещали.
– Зловредность и скудоумие всегда почитает мёртвых, дабы глумиться над живыми, – отвечал ему Фёдоров, не скрывая и своего наболевшего.
Разговор их был долгий, неспешный, доверительный. Макарий явно хотел выговориться – как на исповеди или как в завете, и именно перед ним, перед Фёдоровым, чувствуя, что сейчас он, пожалуй, единственный из всех близких к нему людей, в ком тоже уже поселились (или жили всегда) те же мысли и те же тревоги, которые не давали ему покоя.
– Мнози бо страны и государства изможней нас и могутней... Ведомо есть. А почто? Пото, что они просвещённы. Науки там и ремесла промыслом Божиим умножаются и художества всякие – мусикийные, и живописные, сиречь зография, и кавидные[137]137
Кавида – ваятель, скульптор.
[Закрыть], и зодчий... И люди вельми чудного рассуждения обретаются там, сиречь философы и риторы... И книжное всякое там обильствие... А у нас – скуда. Минеи-Четии, всеусердный труд наш, скуду ту не убавят и к просвещению мало послужат. Они – борозда на неоранном поле необозримом. Надобет много нам книг, вельми много... Печатных, добротных, в померной цене, дабы же не быти нам опричь иные языцы. В них, в книгах тех, – свет, и изможность наша грядущая, и могутность.
– Кто же переможёт то поле, владыка, кто вспашет его и засеет?
– Церковь наша, государи наши... Не усомняйся в том. Егда коли приезжал ко мне государь навестити мя, грешнаго, и аз, не убояся гнева его, рек ему таковое же слово своё. Обаче зловредные и скудоумные ужеть изоспели воити во слух его царский, и восе учинился он глаголющим их словесами стропотными, что-деи от читания книг пропадают мнози, то в ереси-деи различные уклоняются, то житием обретаются растленны...
– Он тако глаголал и ранее.
– Зело памятлив ты, дьякон, – отметил Макарий, но было непонятно – похвала это или укор. – Ранее он вопрошал, смятясь, а ныне твердит... И выставляет мне тех, о ком ныне не велено поминати, яко бо отпали они от Церкви нашей Апостольской через ересь своя многая. Но аз, многогрешный, не убоялся гнева его пущаго и отвещал ему словом единаго от них, кого невдавне он сам зело любил и многажды беседовал с ним. Ведеши, о ком речь?
– Нет, владыка, не могу ведати. Много у нас таковых.
– Несть, не много, – теперь уже с явным неодобрением, строго и наставительно сказал Макарий. – Он и Феодосий... Косой, что допрежь его ещё умыкнулся в Литву[138]138
Он и Феодосий... Косой, что допрежь его ещё умыкнулся в Литву. – Феодосий Косой, еретик, монах Кирилло-Белозерского монастыря. С 1551 г. распространял «новое учение». Отвергая официальную Церковь, проповедовал социальное и политическое равенство людей. В 1553 г. привлечён по делу Матвея Башкина (см. примеч. №48), бежал в Литву.
[Закрыть].
– Потеперь ведаю... Старец Артемий[139]139
– Потеперь ведаю... Старец Артемий. – Артемий, игумен Троице-Сергиева монастыря в 1551 г., идеолог нестяжателей, писатель. По делу Матвея Башкина был сослан в Соловецкий монастырь, Бежал в Литву. Умер после 1571 г.
[Закрыть].
– Он. Собор осудил его, и аз обратил на него строгость своя, понеже и он поползнулся в ту ересь, что прозябе у нас от Матюшки Башкина. Непреклонен аз есть к нему, и отринут он Церковью нашей, обаче про книжное почитание он вещал праведно. Буле, ведеши и слово его?
– Ведаю, владыка, – не покривил душой Фёдоров и повторил по памяти широко и давно известное среди истинных книжников знаменитое высказывание Артемия: – «Ведомо же буди всем благочестивым, что всяка ересь и прелесть бесовская и житие растленно привходят оттого, что не ведают подлинно мудрость Божественных книг. От сего ложные списания приемлются, и старческие басни, и уставы растленных умом и лишённых истины человеков. Не от книжного читания прельщаются, не бывает такового, но от своего неразумия и зломудрия».
– Истинно так, – согласно качнул головой Макарий. – Сие речение Артемьево аз и привёл государю, дабы не учинился он прельщением скудоумных благое во зло превращати. А Артемьево потому убо, занеже лучшаго не вем.
– Мню, владыка, что ты ведаешь и другое речение Артемьево, ещё более чудное: «Никто же бо с разумом родися когда, но учитися всякому словеси надлежит нужа. Любовь в Божественных – любовь в человеческих, от учения бо разум прилагается, яко же в святых людех глаголется, еже и до смерти учитися подобает». И паки: «Преже бо подобает разумети и потом действовав».
– Вижу, любишь ты его. И мнози, вем, також почитают его, речения преписуют, в уста влагают своя... Зело великое тогда шатание учинилося в людях, и поныне не улеглося оно.
– Ежели сам государь любил его, почто же иным не любити, владыка?
– Государь любил в нём праведника, покудова он был праведником... А вы любите – еретика и предания его блажите. Но воспомни Книгу Иова: «Погибал ли кто невинный и где праведные были искореняемы?[140]140
Но вспомни Книгу Иова: «Погибал ли кто невинный, и еде праведные были искореняемы?» — Иов, 4 : 7.
[Закрыть]»
– Воспомню Екклесиаста, владыка: «Всего насмотрелся я в суетные дни мои: праведник гибнет в праведности своей; нечестивый живёт долго в нечестии своём»[141]141
– Воспомню Екклесиаста, владыка: «Всего насмотрелся я в суетные дни мои...» – Екклесиаст, 7 : 15.
[Закрыть].
– Мы отослали его к Филиппу[142]142
К Филиппу – в Соловецкий монастырь, игуменом которого был Филипп Колычев.
[Закрыть] под надзор и духовное смотрение, – как бы оправдываясь, пояснил Макарий, – дабы смирити его, дабы в молениях покаянных избыся он скверны души своя и воротися внове в лоно Церкви Апостольской очищенным и покаявшимся... Он же, преступив своё благочестие и отринув смиренное покаяние перед Господом, ещё в больший грех впаде – потёк в страны чужеземные...
– Но доходят слухи, владыка, что, обретясь в Литве, он за православие крепко поборает и всем хулителям веры нашей правой отпор даёт и многих в Литве от ереси арианской и Лютеровой отвратил.
– Не вем того... – нахмурился Макарий. – Аз к тем слухам ушес своих не обращал. Иное вем: великий грех взял на душу Артемий, и за то ему пред Господом, судией неумытным[143]143
Неумытный – неподкупный.
[Закрыть], ещё предстоит держати ответ, ибо писано: и праведного и нечестивого будет судити Бог, занеже время для всякой вещи и суд над всяким делом – там. А в отечестве ему ни чести, ни жребия не будет. Никако же! Навек заклеймён, и имя его навеки истратится. Анафема ему! – твёрдо заключил Макарий, но твёрдость эта была, однако, какой-то неестественной, как бы обязательной: в ней не было той истовой непреклонности, которая обычно присуща истинным проклятиям, исходящим из сердца, а не из разума, и Фёдоров, почувствовав это, не поверил в искренность его анафемы.
– Зело мудроречив был старец, и ученья книжного доволен зело, и нрава, сказывают, доброго был, и смирения исполнен... Како же он мог уклонитися в ересь? Не разумею, владыка.
– Что те всуе блажити Артемия? Не Богом ли нашим речено: всякое древо познаётся по плоду своему, ибо несть доброго древа, которое приносило бы худой плод, и несть худого, которое приносит плод добрый.
– Стало быть, правы те, что глаголют: не чти много книг да во ересь не впадеши? Осуждение Артемия – то довод в их руки, владыка...
– Не от книг поползнулся Артемий в разврат еретический... Ведомо есть. О том аз и государю рек. Душевное безуправство и дерзоумие сгубили его. «Несть бо сё еретичество, – глашал Артемий, – аще кто от неведения в чём усомнится или слово просто речёт, хотя истину навыкнути...» Восе, хоть «навыкнути истину», и стало ему пагубой, и учал он ходити мимо незыбленного. Мы научены Святым Писанием не давати себе воли представляти умом что ни буди, опричь дозволенного... А Артемий, презрев сей благой запрет, дерзнул своим низким, худым разумом толковати на свой лад откровения Божии. Запамятовал он слово мудрых: никто не может совершенно постичи Вседержителя: он превыше небес, глубже преисподней, длиннее земли мира его и шире моря. Мудрость мира сего есть безумие пред Богом. А Артемий, не познав земного, как молвится, изнамерился рассуждали о небесном. Того для и бысть он осуждён и отринут Церковью нашей и оные иже с ним... Да и паки того для, чтобы пресечи душевный разврат и шатание, кое они возбудили в людях, и не дозволили статься тому рассечению богомерзкому, кое учинилося в папежестве.
Помолчав, Макарий совсем уже просто сказал:
– Зря Артемий сбрёл в Литву, зря. За то и государь непреклонен к нему.
И показалось Фёдорову, что, сказав это, Макарий предостерёг его от чего-то.
Больше они к этому разговору не возвращались и даже не поминали о нём – ни словом, ни намёком, как будто его и не было вовсе. Впрочем, и нужды возвращаться к нему не было, ибо то, что каждый из них вынес из этого разговора, уже не нуждалось ни в подтверждении, ни в уточнении и не могло быть помянуто всуе, как нечто очень дорогое и неприкосновенное. Всё это невольно и искренне раскрылось в каждом из них и стало как бы неким залогом их тайно почувствованного единения, согласия и в то же время такого же тайного несогласия и противостояния, которое, однако, не только не вызывало в них ни малейшего протеста друг против друга, но, наоборот, ещё более сблизило их, потому что та неожиданная, невольная откровенность, с которой они открыли друг другу свои мысли и чувства в обоюдном желании облегчить душу и вместе с тем не поступиться ничем своим в отплату за встречную искренность, – эта откровенность и это обоюдное желание, по-человечески уравнявшее их, пробудило в них то особое, сродняющее доверие друг к другу, которое возникает не столько от общности взглядов и мыслей, сколько от взаимопроникающего благородства ума и духа, а такое доверие способно возвыситься над очень многим и заровнять даже очень глубокую межу.
И в самом деле, межа, которая изначально пролегала между ними и которая казалась незыблемой, непреодолимой, потому что незыблемым и неодолимым был тот порядок, которому каждый из них должен, обязан был подчиняться: один – как простой служитель Церкви, другой – как её высший иерарх; эта межа и вправду как бы заровнялась, сгладилась, стала менее заметной, а вернее, заметной только внешне, в их сугубо деловых иерархических отношениях, но не в человеческих, где она перестала ощущаться вовсе. Фёдоров почувствовал даже, что после этого их разговора Макарий стал терпимей относиться к предлагаемым им исправлениям и чаще, заметно чаще и охотней уступать ему. Если раньше на многие его предложения заменить какое-нибудь устаревшее или малоупотребительное в живой речи слово более распространённым и понятным он зачастую отвечал отказом, заявляя, что книжные речи нельзя обесчещивать простонародными, ибо священная книга будет подобна гово́ре на торжище, то теперь перестал выставлять даже и этот свой довод – самый веский и неотразимый, на который Фёдорову, как правило, нечем было возразить. Если всё же иногда и вспоминал о нём, и приводил его, то уже не как повод для отказа, а как предостережение и как пожелание Фёдорову быть поумеренней и поосторожней в заменах и исправлениях. Теперь, выслушивая его доводы, он всё чаще находил их разумными и, соглашаясь с ними, доверительно говорил:
– Тебе лучше ведети, дьякон... Ты по вся дни средь простых обретаешься, аз же давно не слышу народной речи.
И только ещё одному исправлению, на первый взгляд совершенно пустячному, он воспротивился с прежним упорством. В одном месте нужно было убрать отрицание «не», одно-единственное, случайно, из-за описки оказавшееся там, но оно-то и стало воистину камнем преткновения. «Или кто прежде даст ему и не воздастся ему», – было написано в одной из глав Послания к Римлянам, и хотя это было явной, прямой опиской, искажавшей смысл священного стиха, Макарий тем не менее ни в какую не соглашался исправить её. Положение осложнялось ещё и тем, что во всех рукописных Апостолах, которые были на тот час под рукой у Фёдорова, – во всех без исключения, даже в Геннадиевой Библии! – стояло это злополучное, ненужное «не». Хуже того, оно было и в макариевских Минеях! Когда-то просмотрел его и сам Макарий и теперь, даже понимая, что оно там не нужно, упорно стоял на своём. Не хотел он признать своего просмотра. Нелегко ему было сделать это. Ещё бы! Раз уж он сам, грамотей из грамотеев, знаток из знатоков, допустил такое, то что говорить про полуграмотных переписчиков, с трудом бредущих по книге, и что пенять и сетовать на них, бедолаг?!
То, что этого «не» не было ни в греческом Апостоле, ни в латинском, ни в немецком, не убеждало Макария. Он поставил условие: ежели сыщет Фёдоров хоть единый русский Апостол, где бы не было этого «не», тогда он даст своё согласие.
И опять поехал Фёдоров по монастырям, опять – в который уже раз! – перерыл в их ризницах все священные книги и всё-таки сыскал такой Апостол! Сегодня он явил его Макарию, и тот, всё же несколько удручённый сознанием своей промашки и неправоты, как и обещал, не стал более противиться. Вместе с согласием на это исправление он дал Фёдорову и своё высокое святительское благословение.
Фёдоров с трудом сдерживал радость. Вот он, долгожданный миг: свершилось! Почти десять лет мучительных ожиданий, сомнений, надрыва души и гнёта отчаянья – позади. Теперь он наконец-то может начинать печатание, и ничто уже не помешает этому: благословение Макария защитит его от всех козней и посягательств. Он свято верил в это и был счастлив, полон восторга, радости, хотя, принимая от Макария благословение, понимал, что, должно быть, видит его в последний раз, и, уходя, мысленно простился с ним.


![Книга Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного] автора Елена Арсеньева](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zheny-groznogo-carya-garem-ivana-groznogo-213715.jpg)





