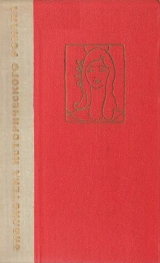
Текст книги "Сесилия Вальдес, или Холм Ангела"
Автор книги: Сирило Вильяверде
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 41 страниц)
Пусть не удивляется читатель-иноземец, если он встретит на улицах Гаваны трех сеньорит, принадлежащих к тому сословию, которое у нас принято называть средним, и их не сопровождают ни дуэнья, ни отец, ни мать, ни брат. Коли молодые девушки не шли пешком и не наносили положенного по этикету визита, то вдвоем, а уж тем более втроем, они могли спокойно объехать весь город, совершить нужные покупки, пощебетать с молодыми испанскими лавочниками, а по вечерам, когда играли зорю с церемонней на военном плацу или на Аламеда де Паула, – выслушать почтительные приветствия друзей или восторженные речи влюбленных в них юношей, вскакивавших на подножку экипажа. А вот нанося визит по соседству с домом и отправляясь туда пешком, кубинка должна была, как того требовал обычай, в случае отсутствия одного из почтенных родственников идти в сопровождении любого мужчины, хотя бы даже своего раба.
Когда Кармен садилась в китрин, какой-то неизвестный молодой человек, случайно проходивший мимо, подал сначала руку ей, помогая подняться, затем Аделе и, наконец, Антонии и получил за свою галантность улыбку благодарности от всех трех.
Тут самая молодая и самая красивая из сестер заняла среднее, несомненно наименее удобное, но зато наиболее почетное место, на котором она, гаванка, могла прекрасно выставить напоказ все то очарование, которым ее наградила природа. Кучер тотчас же уселся верхом на пристяжную, которая благодаря мягкому аллюру, хорошему крупу и тщательно заплетенному в косу хвосту была для всадника и опорой и гордостью. Обогнув Старую площадь, экипаж быстро тронулся в путь.
Глава 12Можно узнать отрока по занятиям его: чисто ли и правильно ли будет поведение его?
Притчи Соломоновы
Наконец донья Роса Сандоваль де Гамбоа осталась наедине со своим любимым сыном Леонардо.
Юноша не унаследовал коммерческих способностей отца; не проявлял он также склонности и к литературной деятельности, для которой его готовили. Он, правда, сочинял стихи и пописывал статейки в «Диарио» и других газетах, однако мать хотела, чтобы сын стал адвокатом, доктором Гаванского университета, и льстила себя надеждой, что таким путем он сможет занять пост аудитора в судебной палате Пуэрто-Принсипе, а может быть, даже стать помощником губернатора, как называли в ту пору ученых судей, назначавшихся королем. Донья Роса справедливо считала, что благодаря таким средствам, как деньги и столичные связи мужа, легко можно будет добиться для своего первенца любой милости, почетной должности или звания из числа тех, коими обычно жалует двор людей состоятельных.
Стать коммерсантом, по мнению отца, означало оставить надежду на то, что юноша сможет добиться чего-то более высокого, чем должность местного алькальда, советника, выборного представителя в коммерческом суде или королевском консульстве; а должности эти были незавидные, непочетные и неприбыльные. С другой стороны, дон Кандидо особенно не настаивал на том, чтобы сын его изучал те или иные гуманитарные науки. Прочить его в адвокаты? Даже нечего и думать: он пристрастился бы к судебным делам и погубил бы как свой капитал, так и капиталы клиентов. Сам-то дон Кандидо не пошел в словесности дальше изучения Катона, что, однако, не помешало ему сколотить солидное состояние.
Теперь, кроме того, у него родилось желание приобрести титул, и ему казалось, что было бы не худо, если бы сын его сменил книги, жезл Меркурия или шапочку доктора на графскую корону; как раз в эти дни некто Сантовения и совершил такого рода обмен. Несмотря на свое невежество, дон Кандидо понимал, что Леонардо не будет блистать ни как литератор, ни как делец, и, размышляя про себя или беседуя со своей супругой, он говорил так:
– Не следует строить иллюзий. Наш сын никогда многого не добьется, сколько бы мы ни прилагали усилий, сколько бы ни тратили денег на его обучение. Его голова устроена так, что ему только бы повесничать да вести праздную жизнь. Ведь это за целую милю видно. Так неужто же, чтобы играть роль в свете, ему нужны солидные знания? Разумеется, нет! Кастильская пословица гласит: «не в знании счастье, а в деньгах, которые господь дает»; а в деньгах у него недостатка не будет, когда я умру. Поэтому, если мне удастся получить титул графа Гамбоа, чего я добиваюсь в Мадриде, то денежки вместе с дворянством будут тем средством, которое дает возможность любому болвану красоваться в первых рядах общества, пользоваться привилегиями и крепко спать, твердо зная, что никто не посмеет прижимать тебя с долгами – напротив того, каждый снимет перед тобой шляпу и станет преподносить тебя, а угождать будут наперебой и малые и старые, и важные господа и хорошенькие женщины. Ах, сколько времени потеряно: если бы я приобрел титул лет десять назад, разве так бы шли наши дела теперь!
В самом деле, честолюбия у Леонардо было еще меньше, чем способностей. Будучи благоразумным, он никогда не надеялся, что сможет стать чем-то благодаря знаниям, усердным штудиям или ловкости. Наоборот, уверенный в том, что после смерти родителей он станет достаточно богат, Леонардо не прилагал никаких усилий, чтобы приобрести знания: он не утруждал себя подготовкой к лекциям по юриспруденции и разражался смехом, когда в кругу семьи ему говорили в шутку, что он сможет стать аудитором королевского суда либо графом или что отец, добиваясь титула, заказал в Испании генеалогическое древо, в ветвях которого не будет ни капли иудейской или мавританской крови. С другой стороны, насколько скромны были в то время его склонности, настолько сильны и неукротимы были его страсти.
Высшим законом для него, по крайней мере в ту пору, было наслаждение. А беспредельно любящая мать, вместо того чтобы умерять несдержанные порывы сына, как то сделал бы каждый, находила, казалось, удовольствие в том, что давала ему полную свободу. В чем, собственно, мог испытывать нужду юноша его возраста и положения? Всего у Леонардо имелось вдоволь: были книги, костюмы, лошади с коляской, слуги, деньги. Ему не надо было ни о чем просить, ибо с самой колыбели он привык к тому, что исполнились все его желания и даже любые прихоти, стоило ему лишь намекнуть. Не проходило дня, чтобы мать не делала ему какого-нибудь дорогого подарка, а уж каждый вечер она обязательно клала ему во внутренний карман жилета пол-унции золотом, а то и целую унцию. Естественно, деньги эти приходили и уходили с равной легкостью, он даже не понимал их ценности, и, что хуже всего, блудному сыну ни разу не приходило в голову, что можно было бы сберечь на завтра то, что вовсе не обязательно тратить сегодня. На что же проматывал золото наш безусый студент? Читателю нетрудно догадаться: азартные игры, женщины, кутежи с друзьями – вот тот омут, который пожирал состояние Леонардо Гамбоа и губил его душу в самую нежную пору ее жизни.
Как только ушли сестры, Леонардо занял место Аделы и, оказавшись напротив матери, облокотился на стол, подпер лицо руками и некоторое время сидел молча, пристально глядя на донью Росу, потом вдруг спросил:
– Знаешь что, мама?
– Как же мне знать, если ты ничего еще не сказал? – ответила та несколько рассеянно.
– Не подумай, что я хочу о чем-то просить тебя. Мне ничего не надо.
– Верю, – ответила донья Роса и улыбнулась, ибо уже по вступлению догадалась, что ее нежно любимый сын чего-то хочет.
– Тебе смешно? Тогда я замолчу.
– Не обижайся, сынок: я улыбнулась, чтобы ты видел, что я тебя слушаю с удовольствием.
– Так вот, вчера вечером, когда я проходил по улице лейтенанта Рея мимо часовой мастерской Дюбуа, меня остановил хозяин, чтобы показать… Ты опять улыбаешься? Все думаешь, что я хочу о чем-то просить тебя? Поверь, ты ошибаешься.
– Не обращай внимании на мои улыбки, продолжай. Я хочу дослушать до конца. Ну что тебе показал Дюбуа?
– Пустяки. Несколько часов с репетицией, которые он только что получил из Швейцарии. Дюбуа говорит, что такие часы появились в Гаване впервые, причем прямо из Женевы.
Тут Леонардо умолк; замолчала и мать, хотя, казалось, она призадумалась. Наконец, первой нарушив молчание, она спросила:
– Ну и как, сынок, понравились тебе эти новые часы с репетицией?
Лицо юноши просияло, и он воскликнул:
– Ужасно понравились. Эти женевские часы просто чудо… Но мне вовсе не нужны новые часы. Те английские, что ты мне подарила в прошлом году, еще в полном порядке, хотя уже, правда, несколько устарели. Я никогда не видел часов с репетицией, тем более женевских: в любую минуту дня и ночи можно узнать по ним время; для этого стоит только раскрыть их и нажать кнопку пружины, которая находится в металлическом кольце, и тут внутренний звонок начинает отбивать каждые четверть часа. Как это удобно, мама, верно?
– Почему же ты не рассказал об этом до того, как ушли твои сестры? Я поручила бы Антонии зайти к этому часовщику.
– Я как-то не вспомнил об этом, да и ни к чему было. Кроме того, тут был папа, и разговор-то мы вели о другом… вот я и отвлекся. Да и девочки к тому же в часах не разбираются.
Все время размышляя о чем-то, хотя по виду ее нельзя было заметить, что она раздражена или мрачно настроена, донья Роса вновь ненадолго замолчала. Леонардо тем временем притворился, что не замечает рассеянного вида матери: на лице его не было и тени раскаяния из-за того, что своими прихотями он поверг ее в затруднительное положение. Наоборот, пока бедная сеньора размышляла и подсчитывала что-то в уме, он, постукивая кончиками пальцев по щекам, упорно разглядывал потолок, словно пересчитывал балки.
– А Дюбуа сказал тебе, сколько стоят новые часы? – спросила наконец донья Роса.
– Да… то есть нет. А зачем тебе цена? Чтобы купить их мне? Я же сказал, что они мне не нужны, что я их не хочу. Или ты думаешь купить их моим сестрам? Так у Дюбуа дамских часов нет, у него только мужские.
Ладно; сколько же просит Дюбуа за мужские часы с репетицией?
– Ерунду – каких-нибудь восемнадцать золотых. Дешевле они и не могут стоить, потому что это настоящие женевские часы, причем золотые и с репетицией.
– Разве твои английские часы оказались неудачными?
– Во всяком случае, не столь удачными, как мне казалось вначале. Тебе ведь их продал, помнится, тот же Дюбуа. Ясно одно: либо он сам ошибся, либо надул тебя, потому что часы то и дело отстают или спешат, и я уж столько раз носил их к часовщику, что они обошлись мне гораздо дороже, чем ты за них заплатила. А стоили они, как ты помнишь, двадцать золотых унций, то есть дороже, чем просят за женевские. В общем, мама, это выброшенные деньги. Каждый знает, что английские часы, пусть даже от Тобиаса, часто портятся, а вот с настоящими женевскими совсем другое дело: они всегда ходят хорошо и точно. По крайней мере так сказал сам Дюбуа, а ты ведь знаешь, что он понимает толк в часах: часовщик он превосходный. Но давай больше не думать об этом, мама, забудем о них; придется обойтись без этих надежных часов, что поделаешь!
– Полно, мой мальчик, не грусти, не огорчайся, – поспешила утешить сына несколько встревоженная донья Роса. – Посмотрим лучше, каким образом можно достать тебе эти женевские часы, раз они в самом дело так хороши, как ты говоришь и как считает сам Дюбуа. Я давно хотела сделать тебе рождественский подарок, так пусть это будут часы, которые тебе так понравились, хотя до рождества еще далеко. Есть только одно серьезное затруднение.
– Какое? – испуганно спросил Леонардо, стараясь, однако, держать себя в руках.
– Дело в том, – мягко продолжала донья Роса, – что в моем собственном кошельке сейчас вряд ли найдется нужная для покупки сумма, а прибегать к кошельку отца мне стоит огромных трудов.
– Ну, уж коли это зависит от отца, то мне следует сию же минуту похоронить надежду на приобретение новых часов. Для меня ему все кажется слишком дорогим и ненужным, зато если речь идет об Антонин – это ни для кого не секрет, – его кошелек всегда раскрыт. Не понимаю, зачем ему столько денег!
– Ты несправедлив к отцу. Скажи на милость, чьи же деньги ты так безрассудно тратишь? Кто обеспечивает ту роскошь, которая тебя окружает? Кто, наконец, работает для того, чтобы ты развлекался и жил в свое удовольствие?
– Он трудится, не отрицаю; он, несомненно, хитроумен, и у него есть кое-какие сбережения. Но разве у него было бы столько денег, если бы ты, выходя за него замуж, была бедной? Скажи, ну не прав ли я?
– Когда я выходила замуж, я принесла в приданое около двухсот тысяч песо, но это не составит и четвертой части нашего теперешнего состояния. А тем, что оно так значительно выросло, мы обязаны, конечно, усилиям и бережливости твоего отца. Да и он, кстати, отнюдь не был бедняком, когда женился на мне, нет; у него тоже были свои деньги, и ты, Леонардо, меньше чем кто-либо должен порицать поведение отца; оно, впрочем, является лишь ответом на твое отношение к нему.
– Так вот к чему ты клонишь; все дело, оказывается, в том, что я плохо отношусь к отцу? Коли он со мной сух и жесток, то могу ли я быть с ним нежен и ласков, скажи на милость? Он никогда не дает мне повода проявить мою сыновнюю привязанность. Но не будем больше говорить об этом, давай лучше перевернем страницу и побеседуем о чем-нибудь другом. Чем владел отец, когда он женился на тебе?
– У него было кое-какое состояние, и довольно приличное, небольшое предприятие по обработке древесины и производству черепицы, кирпича, извести… там, на бульваре Аламеда, возле Пунты. Земельный участок под этими постройками тоже принадлежал отцу, но цена земли была невелика, так как это низина и место сильно заболочено. А там, где сейчас выстроен дом для школы Буэнависта, находился большой барак для негров, только что привезенных из Африки. В инхенио Ла-Тинаха, унаследованном мною от отца, должно быть, до сих пор остался кое-кто из негров с клеймом «Г» и «Б» на левом плече. Кандидо в компании с доном Педро Бланко и теперь вывозит негров из Африки. Но англичане так преследуют работорговлю, что в результате эти экспедиции гораздо чаще кончаются плачевно, нежели удаются…
– Мама, представь себе похитителя людей, ставшего, скажем, графом… де Работорговиа. Хорошенький титул, не правда ли? – спросил Леонардо, негромко смеясь.
– Что за чепуху ты городишь? – спросила донья Роса, раздосадованная и удивленная.
– Ах, мама, разве тебе не известно, что по римским законам похитителями чужой собственности являются все те, кто насильно забирает людей, чтобы продавать их в рабство?
– В таком случае настоящим похитителем является не твой отец, как ты говоришь, а дон Педро Бланко, который, как известно, торгует неграми со своей фактории в Гальинасе, на побережье Гвинеи (я столько раз слышала эти названия, что хорошо их запомнила), приобретая их в обмен на разные дешевые побрякушки и прочие вещи, а оттуда переправляет их в качестве груза на Кубу. Твой отец берет тех, кто нужен ему, а остальных продает владельцам сахарных плантаций. Ведь до недавнего времени, пока работорговля с Африкой не считалась контрабандой и к ней относились терпимо, отец выступал только как грузополучатель, даже скорее как компаньон Бланко. Во всяком случае, за свой счет им было предпринято только считанное количество экспедиций. С минуты на минуту он ожидает возвращения бригантины «Велос»; дал бы только господь, чтобы корабль не попал в лапы англичан!
– Так ты же, сама того не желая, выступаешь в мою защиту. Все, что я сказал, – это шутка, но совершенно очевидно, мама, что, согласно юридическому закону, преступник не только тот, кто убивает корову, но и тот, кто вяжет ей ноги.
– Не докучай мне твоими принципами, намерениями и всякими там римскими законами. Пусть они гласят что угодно, истинная-то суть дела в том, что между поступками твоего отца и поступками дона Педро Бланко существует большая разница. Дон Педро находится там, на родине этих дикарей; это он организует торговлю ими, он добывает их путем обмена или обмана, и, наконец, он их захватывает и переправляет, чтобы продавать в нашей стране. Так что, если в этом и есть какое-то преступление или чья-то вина, то вина эта падает только на дона Педро, и уж никак не на твоего отца. И коли уж как следует приглядеться ко всему, то Гамбоа не совершает ничего дурного или постыдного, а делает прямо-таки доброе дело, за которое можно только похвалить. Ибо, принимая и продавая как грузополучатель – я имею в виду этих дикарей, – он делает это для того, чтобы окрестить их и приобщить к религии, которой, конечно, у себя на родине они не знают. Итак, коли ты ведешь речь об этом, то знай, что в случае приобретения дворянского звания – а отец сейчас об этом и не помышляет – для него нашлось бы достаточно приличных и прежде всего почетных титулов. Словом, как я уже говорила, на сей раз я не смогу угодить тебе, не прибегнув к кошельку отца.
– Почему же ты не хочешь это сделать?
– Потому что тогда мне придется сказать ему правду – то есть что мне нужны деньги, чтобы сделать тебе подарок.
– Ну так что же? Он никогда ни в чем тебе не отказывает.
– Так-то так, но уж очень он сердит на тебя, и я боюсь, как бы он мне не отказал.
– Да когда же он не сердится на меня, мама? У него это своего рода эндемическая или, вернее, хроническая болезнь. Если я ухожу из дому, то почему ухожу? Если никуда не иду, то почему остаюсь дома? Во всяком случае, год проходит за годом, а отец все равно никогда мной не доволен. Невзлюбил он меня, мама, – такова сущая и жестокая правда. К чему ходить вокруг да около? Просто ему все не нравится, независимо от того, делаю я что-нибудь или бездельничаю.
– Твой отец вовсе уж не так несправедлив, и ему отнюдь не чужды отцовские чувства: веди ты себя хорошо, он не считал бы, что ты ведешь себя плохо. Зачем далеко ходить? Вчера вечером ты был в Регле и шатался там, а в котором часу ты вернулся?
– От кого он это узнал?
– Не так уж важно, от кого! Сегодня утром ему об этом рассказали на Кавалерийском молу.
– Быть того не может! На молу в такую рань бывают разве что одни вялельщики мяса да охотники до свежих новостей – там самое подходящее место для их разговоров и пересудов. Целое утро ждут эти люди, что с замка Морро раздастся сигнал о прибытии почтового судна из Испании либо купцов из Сантандера или из Монтевидео с грузом муки или вяленого мяса. Таким молодчикам не до танцев во дворце Регла. Я уже догадываюсь, что сплетник этот не кто иной, как Апонте. Но будь уверена, что этот чертов болтун получит у меня по заслугам.
– Апонте вовсе не сплетничал! Впрочем, даже если бы он что-нибудь и наболтал, то ты поступишь дурно, коли побьешь его за это. Не знаю, сумел ли бы он отмолчаться, если бы отец захотел узнать правду.
– Мог же он сказать, что ничего не знает, что не слышал боя часов на колокольне церкви Святого духа, что… да все что угодно, только не то, что я приехал в такой-то час или что был там-то и там-то. У этой черной образины язык что помело, и расспросы батюшки, видно, пришлись ему как нельзя более по вкусу. Еще каким-то чудом он не разболтал о… Словом, сказать тебе, что я делал вчера вечером в Регле?
– Не рассказывай, я не хочу этого знать. Думаю, что ничего плохого ты не делал. Беда вся в том, Леонардито, что нет у тебя прилежания к наукам, что не хочешь ты учиться чему-то доброму и полезному; тебе бы надлежало заняться на досуге чтением и размышлением, а ты тратишь время на пустые забавы и на всякие вредные, а может быть, и опасные похождения. Отцу все это не по душе… да и мне тоже, хоть я и люблю тебя от всего сердца. И отец и я, мы оба желаем, чтобы ты побольше учился и поменьше гулял, чтобы ты развлекался, но не впадал в крайность, чтобы ты не кутил всю ночь напролет, чтобы меру во всем знал – словом, чтобы ты вел себя как подобает.
Тут от волнения донья Роса утратила внезапно дар речи, а чудесные глаза ее наполнились слезами.
– Не годишься ты в проповедницы, – сказал ей Леонардо, желая, по-видимому, несколько отвлечь внимание матери от данной темы, – уж больно близко ты все к сердцу принимаешь.
– А что касается Апонто, – продолжала, успокоившись, донья Роса, – то я ведь знаю, что он болтун; однако тут, истины ради, должна сказать тебе, что отец узнал о твоем позднем возвращении только потому, что в сагуане поднялся невообразимый шум, когда отперли ворота, въехал экипаж и зацокали подковы лошадей. Ты же знаешь, в ночной тиши любой стук грохотом кажется. Отец проснулся, высек огонь, закурил, потом взглянул на часы и просто вскрикнул от возмущения. Я притворилась, будто сплю. Было это в половине третьего утра… Да по твоему лицу и сейчас еще видно, что ты за ночь глаз не сомкнул.
Опять наступило краткое молчание; воспользовавшись этим, Леонардо раз-другой потянулся, зевнул и, поднявшись, сказал:
– Пойду-ка я спать… Сможешь купить мне часы – хорошо, а нет – и то ладно.
С этими словами он повернулся, подошел к лестнице, которая вела в его спальню, и медленно, словно пересчитывая ступеньки, с таким видом, будто это стоило ему огромных усилий, стал подниматься к себе. Мать тем временем, молча и неподвижно сидя в кресле, провожала сына долгим взглядом; но не успел Леонардо скрыться, как она вдруг засуетилась и громко крикнула:
– Ревентос!
На столь повелительный зов не преминул явиться дворецкий, о котором мы упоминали в предыдущей главе. Это был смуглый приземистый человек с брюшком; лицо у него было круглое, а волосы – курчавые. По облику его и манерам можно было заключить, что это решительный и проворный малый. Несмотря на опрятность одежды (он был в жилете, без куртки), за целую милю угадывалось его астурийское происхождение. В ту пору земляков его в Гаване можно было встретить не так уж часто. Ревентос служил дворецким в доме дона Кандидо Гамбоа, и хотя ему попутно приходилось вести конторские книги, все же он не столько сидел за письменным столом, сколько выполнял иные поручения, которые более соответствовали ему по должности. Когда астуриец, держа перо за ухом, подошел к донье Росе, она сказала ему властным тоном:
– Ревентос, скажите Гамбоа, чтобы он прислал мне с вами двадцать золотых унций.
Дворецкий ушел и тотчас вернулся с требуемой суммой денег, которые он получил из небольшого железного ящика, стоявшего под конторкой, где лежало несколько мешочков, туго набитых золотыми и серебряными монетами.
– Наденьте куртку, – добавила донья Роса, рассыпая по столу золотые унции, чтобы сосчитать их, – и отправляйтесь сейчас же на улицу лейтенанта Рея. Зайдите в часовую мастерскую Дюбуа, что помещается рядом с аптекой Сан-Агустин, и купите там самые лучшие часы с репетицией, только что полученные из Женевы. Скажите, что это для меня, поняли?
– Да, сеньора.
– Полагаю, что сами вы мало смыслите в часах.
– Признаться, не слишком много, но в Хихоне, где я родился и вырос, имеется не одна часовая мастерская, а один мой дядюшка, брат моей матери, мир праху его, знал эти механизмы, прямо вам скажу, как свои пять пальцев.
– Не в этом дело, дон Мелитон, я это говорю лишь из предосторожности: ведь вас могут надуть, если решат, что эти часы для вас лично или для кого-нибудь вроде… Вы меня понимаете?
– Ну, конечно, понимаю.
– Послушайте, вы непременно должны втолковать этому Дюбуа, что часы для меня. Он меня знает и должен понять, что ему дорого обойдется…
– Если он продаст кошку за зайца, – продолжил дворецкий. – Конечно, ему дорого бы обошлось, если бы он, мошенник, так поступил. Мне это хорошо известно, да и ему не хуже.
– Я, правда, не считаю, что он мошенник, как вы говорите, но все же предостеречь не мешает…
– Солдата остеречь – в бою уберечь, – вновь перебил дворецкий, по-своему истолковывая мысль своей госпожи.
– Ах, да! Пусть положат часы в красивую коробочку, как для подарка, вы поняли?
– Еще бы! Как не понять!
– Хорошо, ступайте!
– Бегу.
– Вы всё запомнили? Золотые швейцарские часы с репетицией; повторяю – из тех, что часовщик Дюбуа недавно получил из Женевы. Живет он на улице лейтенанта Рея, возле аптеки Сан-Агустин.
– Да, да, сеньора донья Роса. Все запомнил, все держу в голове. Я мигом…
– Послушайте! Я дам и больше восемнадцати унций, но только мне нужны самые лучшие часы с репетицией, настоящие женевские, сколько бы за них ни запросили. Коли понадобятся еще деньги, приходите за ними.
– Приказ сеньоры доньи Росы будет выполнен в точности.
– Да, вот еще! Ревентос! Ревентос! Вернитесь! Самое-то главное я и забыла: скажите, чтобы на внутренней стороне крышки написали: «Л. Г. С., 24 окт. 1830 г.». Не забудьте!
Спустя час с небольшим дворецкий вернулся и вручил донье Росе квадратный сафьяновый футлярчик с золотой каемкой. Разумеется, наша сеньора ждала его с нетерпением; она взяла футляр, открыла его, поглядела на часы с какой-то детской радостью, встала с места и направилась в комнату сына, не обращая никакого внимания на дворецкого; все это заняло не больше минуты – во всяком случае, не больше времени, чем нам понадобилось на то, чтобы описать эту забавную сцену.
Леонардо, со своей стороны, был твердо уверен, что еще в тот же день до захода солнца новые часы, лежа в кармашке панталон, украсят его костюм. С этой целью он разложил свое платье на диване перед кроватью, а сам спокойно улегся в постель, решив поспать и восстановить силы, подорванные усталостью и бессонной ночью. Он только-только задремал, как послышался звук мелких шажков и шорох женского платья, который утвердил юношу в его надеждах. Это была мать. Леонардо притворился спящим и увидел, как она тихонько подошла к дивану, взяла панталоны и вложила в их маленький передний кармашек что-то круглое и блестящее, подвешенное на шелковой в розовых и голубых разводах ленте; лента была шириною в один, а длиною в добрых шесть дюймов, и концы ее скреплялись золотой пряжкой. Расплывшись от удовольствия в улыбке, баловень поспешил закрыть глаза – пусть мать уйдет с сознанием того, что приготовила сюрприз.
Положив обратно панталоны Леонардо на диван так, чтобы лента от часов была видна, донья Роса быстро опустила во внутренний карман жилета две оставшиеся от покупки золотые монеты. На минуту ей показалось, что сын пошевелился в постели. Она вздрогнула, словно ее застали на месте преступления. И тут будто яркая вспышка света проникла в сознание любящей матери: отчетливо вспомнив слова мужа во время утреннего разговора, сеньора почувствовала своего рода раскаяние. Какой-то внутренний голос говорил ей, что если даже она и не совершает сейчас зла, то, проявляя ласковую и нежную заботу о Леонардо, она не приносит ему и настоящего добра, ибо он этих чувств не заслужил и возникли они безотчетно, как некий безудержный порыв, в ее любящем материнском сердце.
Подумывая о том, не придержать ли этот подарок до более подходящего случая, вызвав тем самым огорчение и недовольство сына, донья Роса внезапно застыла в немом восхищении. Для бедной матери это был решающий миг: бросив взгляд на постель, она увидела обнаженного по пояс Леонардо; локти его лежали на подушке, красивая голова юноши покоилась на ладонях; открытая высокая грудь поднималась при вдохе и опускалась при выдохе, словно набегающая волна; ноздри раздувались, рот был полуоткрыт, давая свободный доступ воздуху. Лицо сына, побледневшее от сна и пережитых за день волнений, но вместе с тем дышавшее здоровьем и силой, вызвало у доньи Росы прилив гордости, который овладел всем ее существом, мгновенно и решительно нарушив прежний ход ее мыслей.
– Бедняжка! – еле слышно промолвила она. – Почему я должна обречь его на лишения теперь, когда он достиг того возраста, который создан для радости и услад? Радуйся, родной, и наслаждайся, пока ты здоров и молод, ибо и для тебя, как это было со всеми нами, еще настанут дни горестей и скорби. Пресвятая дева, в которую я так верю и на которую возлагаю все мои надежды, не может не внять моим мольбам. Да защитит и оградит она тебя от всех земных невзгод! Да сохранит тебя господь, любимое дитя мое!
Донья Роса сложила губы, словно для поцелуя, и вышла из комнаты так же неслышно, как вошла.








