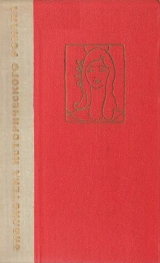
Текст книги "Сесилия Вальдес, или Холм Ангела"
Автор книги: Сирило Вильяверде
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 41 страниц)
– Блас, – обратилась она к водолею, – довольно ли воды в колодце?
– Довольна, довольна, гаспаса.
– А откуда ты это знаешь?
– Ай, гаспаса. Я слусай, слусай – вода буль-буль, буль-буль.
– Стало быть, можно увидеть, как вода течет из родника?
– Мозна, гаспаса, мозна. Я смотри, вада кипел, кипел.
– Любопытно, – молвила Исабель, подходя к закраине колодца.
– Гаспаса хотел смотри? – испуганно вскрикнул негр. – Смотри ни мозна! Ни-ни! Больна лубако. Черт будит гаспаса топил.
Отчаянные жесты водолея, его забавный ужас заставили Леокадио расхохотаться, и он объяснил, что молодая госпожа может удовлетворить свое любопытство без всякой для себя опасности: ей надо только обвязаться концом веревки, а другой конец они с товарищем будут держать, пока она не осмотрит колодец. Так и сделали; но колодец оказался довольно глубок, а каменная кладка закраины слишком широка, к тому же стенки изнутри густо поросли папоротником, почти совершенно закрывшим своими перистыми ветвями колодезное устье, и воды Исабель увидеть не смогла.
Отойдя от колодца, она спросила у конюха, готовы ли лошади к предстоявшей назавтра дороге.
– Нинья Исабелита, – отвечал Леокадио на языке более правильном, чем тот, каким изъяснился его товарищ, – надо подковать Сокола и Голубчика.
– С тобой, Леокадио, одно горе. Что же ты мне раньше о том не сказал?
– Это когда же я мог вам сказать? Я вечор только и узнал, что вы в отъезд собираетесь. А вот лошадок искупал бы и сей же час вам обо всем доложил.
– Придется тебе съездить к кузнецу, чтобы он их подковал.
– Маленько подкреплюсь и сразу поеду. Только извольте, нинья Исабелита, записочку мне дать к кузнецу этому. Он, коли не пьян, мигом все справит.
– Вот и поезжай поскорее. И смотри не гони лошадей, чтобы не притомились раньше времени.
– И вечно вам, нинья Исабелита, чудится, что лошадей того и гляди загонят.
– Такому ветрогону, как ты, Леокадио, лошадей загнать недолго.
Исабель не стала заходить в службы этой части двора, она направилась в противоположную сторону, где собрались негры, назначенные для работы на плантации. Исабель тотчас заметила, что один из негров отсутствует, и надсмотрщик объяснил ей, что человек этот заболел и уже накануне вечером не смог выйти на перекличку. Выбранив Педро за то, что он не сообщил ей об этом сразу же, Исабель быстро прошла в хижину, куда помещали больных. Захворавший негр сидел на полу у самого очага; повязанная платком голова его склонилась на грудь: видимо, ему было очень плохо, несмотря на то, что сиделка, ходившая за больными, уже напоила его несколькими чашками отвара, приготовленного из апельсиновых корочек и желтого сахара, оказав ему таким образом посильную помощь. Взяв больного за руку и сосчитав пульс, Исабель определила, что у бедняги сильный жар, и распорядилась не отпускать его домой, пока не придет доктор. На обратном пути она осмотрела конюшню и помещение, где перебирали и сортировали кофе.
Между тем молодые гости, Роса, донья Хуана и отец уже ожидали ее на галерее господского дома. И надо ли удивляться, что девушка, умевшая столь, рачительно управлять большим поместьем, входившая во все мелочи его хозяйства, была довольна собой после утреннего обхода и потому более чем когда-либо расположена отдаться исполнению обязанностей хозяйки дома. Оживленное выражение ее лица, когда она поднялась на галерею, ее приветливая улыбка свидетельствовали о том, что ласковая и добрая госпожа своих черных рабов, она со своими друзьями и людьми ей равными тоже умела быть любезной и радушной. В этот день она употребила все свои силы на то, чтобы краткое пребывание гостей в ее доме было для них возможно более приятным.
Утро выдалось прохладное, чуть ли не пасмурное, и Исабель предложила молодым людям совершить небольшую прогулку по саду, примыкавшему к дому со стороны главного въезда. Для Исабели этот сад был своего рода эдемом. На Кубе в ту пору лишь немногие занимались разведением цветов, а Педрегаль и другие французские садовники не успели еще завезти на остров все те бесчисленные сорта роз, которыми впоследствии столь богато украсилась Гавана, и, однако же. Исабель, малосведущая в садовом искусстве и еще того менее – в ботанике, питала к цветоводству истинную страсть, обнаруживав в этой области прирожденный талант и чутье. Она могла бы рассказать на память историю каждого кустика и цветка, росшего в ее чудесном саду, и не мудрено: все было здесь высажено и взращено ее собственными руками. Но, рассказывая о своем саде, Исабель ни словом не обмолвилась о кустах белых роз, к одному из которых Леонардо ровно год тому назад привил отросток темно-красной розы. Теперь этот куст пышно разросся, и на нем цвели не только белые, но и красные розаны – верный образ и поэтический символ союза двух чувствительных сердец, связанных самой человечной из всех страстей человеческих – любовью.
Несколько позднее осмотр сада был дополнен прогулкой верхом по соседним кафеталям, на которую все четверо отправились, последовав предложению Исабели. В этот день она все время испытывала потребность в движении; оно отвлекало ее, помогало забыться. Вчерашнее объяснение с Леонардо отнюдь не удовлетворило девушку, к тому же ей грустно было покидать свой тихий дом и любимого отца, и теперь ею владело странное возбуждение, нечто вроде лихорадки – безошибочный признак недуга, носящего название ностальгии.
Так прошел день 23 декабря и настало печальное утро 24-го. Еще до рассвета один из конюхов отправился в Гуанахай с тремя лошадьми сменной упряжки. Кабриолет был заложен, и молодцеватый, принаряженный Леокадио, вооруженный, как и полагалось, кнутом и длинным мачете с роговой, отделанной серебром рукоятью, уже сидел в седле, ожидая выхода господ. Тут же поблизости находилось несколько негритянок, а поодаль можно было увидеть и других рабов, занятых на первый взгляд приготовлениями к дневным трудам, в действительности же, как это вскоре выяснилось, ожидавших печальной минуты прощания с молодой госпожой.
Исабели хотелось сократить мучительные для всех минуты расставания, и потому, быстро обняв и поцеловав отца, она приняла руку, учтиво предложенную ей Леонардо, и с глазами, полными слез, вышла в западную аллею парка, где стоял ожидавший путниц экипаж. Исабель, ее тетушка и сестра были одеты в строгие дорожные платья из темного шелка и соломенные шляпки, введенные в моду француженками и несколько напоминавшие видом каскетки. При появлении Исабели толпа ожидавших ее рабов пришла в движение, послышался ропот, перешедший затем в общий вопль, или, вернее, в монотонные, повторяемые множеством голосов звуки сложенной накануне песни: «Нинья уезжает, нас, сирот, оставляет». Теперь, под светлеющим небом нового дня, уже начинавшего золотить верхушки высоких деревьев, слова эти, произносимые многоголосым хором, звучали торжественно.
Такие проводы явились совершенной неожиданностью для Исабели и окончательно ее расстроили. Повернувшись к толпе рабов, она в знак прощания помахала им платочком и быстрыми шагами направилась к коляске. В этот миг она увидела надсмотрщика Педро.
Он держал под уздцы коня для Леонардо; конь танцевал на месте и беспокойно грыз свои серебряные удила, а Педро стоял, высоко подняв голову, неподвижный точно изваяние, и не произнося ни слова; распахнутый ворот рубахи открывал его крепкую шею и часть мощной, мускулистой груди, – вы приняли бы этого атлета за Спартака, но первобытная и наивная души его была чувствительна, как у слабой женщины. С ним рядом так же недвижимо и молча стояла с ребенком на руках его жена; лицо ее выражало самое искреннее огорчение, и по черным, эбеновым щекам катились крупные слезы. Растроганная не меньше своей рабыни, Исабель положила руку ей на плечо и, наклонясь к младенцу, запечатлела на лбу его нежный поцелуй, а затем, обращаясь к Педро, промолвила:
– Смотри, Педро, не забывай того, что я тебе наказывала.
И она поспешила сесть в экипаж.
Рабы только и дожидались этой минуты, чтобы выказать Исабели, быть может – несколько назойливо, свою любовь и благоговение. Особенно горячо изъявляли свои чувства негритянки. Убедившись, что госпожа их и в самом деле уезжает, они плотным кольцом окружили китрин, а самые бойкие старались заглянуть под его опущенный верх и, по своему обыкновению, одна громче другой истошными голосами кричали:
– Прощайте, нинья Исабелита!
– Скорей приезжайте обратно, нинья Исабелита!
– Там только не оставайтесь, заступница вы наша!
– Да пребудут с вами господь бог и пресвятая дева!
Выкрики эти, которые мы, с позволения читателя, перевели с жаргона на правильный язык, сопровождаемы были всевозможными изъявлениями любви и привязанности, на наш взгляд довольно необычными: юной госпоже бесконечно целовали ножки и ласково их пожимали, когда же она пыталась отстранить слишком усердных, ее хватали за руки и осыпали их поцелуями. Все это говорилось и делалось с самым искренним чувством и трогательной нежностью, а в глазах, неотрывно устремленных на ангельски прекрасное лицо молодой госпожи, было то выражение, с каким люди смотрят на боготворимого ими идола или на образа святых.
Невежественные и наивные, но вместе с тем наделенные чутким сердцем, эти бедные рабы видели в Исабели прекраснейшее из всех созданий, существо почти неземное и сверхъестественное, и как умели, то есть неуклюже и грубовато, выказывали ей свою любовь, или, скорее, свое чисто языческое преклонение.
Постепенно, однако, просьбами и мягкими увещаниями Исабель убедила отойти от экипажа даже самых неистовых и велела трогать.
– Нет, такие сцены не для меня! – воскликнула она, заливаясь слезами.
Леонардо, садясь на коня, окинул презрительным взглядом толпу рабов, с плачем и криком теснившихся у китрина, и громко произнес, так что Педро, державший под уздцы его коня, услышал эти слова:
– Ох, огреть бы их плеткой как следует! Небось угомонились бы.
Леокадио попросил Исабель прилежнее править пристяжною, и когда наконец девушка, опомнившись, взяла вожжи в руки, экипаж успел уже выехать за ворота поместья и приближался к межевым знакам западной части кафеталя Ла-Лус.
Глава 3Именем Вуэльта-Абахо или, иначе, Вуэльтабахо кубинцы называют область, лежащую к западу от Гаваны и простирающуюся приблизительно от Гуанхая до мыса Сан-Антонио. Места эти славятся превосходными сортами табака, выращиваемыми здесь в плодородных долинах многочисленных рек и в особенности на южных склонах горного хребта Де-лос-Органос. Название свое местность получила, видимо, не случайно, поскольку сравнительно с плоскогорьем, описанным нами выше, область Вуэльта-Абахо представляет собой низину.
Понижение рельефа начинается в нескольких милях западнее Гуанхая, и вместе с рельефом резко меняется весь ландшафт. Здесь иного цвета земля, иной состав почвы, иные растительность и климат, иной характер земледелия. Спуск в долину настолько крут, что путникам, едущим с плоскогорья, Вуэльта-Абахо кажется расположенной под обрывом; тем же, кто одет снизу, предстоит тяжелый подъем в гору.
Сверху, с этой обрывистой кручи, глазам путешественника открывается такой грандиозный по своей необъятности простор, такая бескрайняя ширь, какой не вместит в себя ни одно живописное полотно, не обнимет разом человеческий взор. Вообразите равнинное на первый взгляд пространство, раскинувшееся на западе до самой дымки далекого горизонта, с севера ограниченное грядою высоких лысых дюн, тянущихся вдоль побережья океана, а на юге – цепью крутых и высоких гор, отрогов обширного массива Вуэльта-Абахо. Равнина эта, как мы уже сказали, кажется плоской лишь издали, в действительности же представляет собою ряд чередующихся долин, лощин и оврагов, образовавшихся по течению бесчисленных рек и ручьев, что сбегают с северных склонов горного кряжа и затем, петляя, несут свои медлительные воды к нездоровым низинам Мариеля и Кабаньяса, теряясь среди здешних обширных болот.
При виде открывшегося ее взорам грандиозного зрелища Исабель, одаренная истинным артистическим чувством и горячо любившая в природе все доброе и прекрасное, велела остановить лошадей над самым спуском и, не дожидаясь, пока остальные к ней присоединятся, первой вышла из экипажа. Было около восьми часов утра. Дорога в этом месте расширялась и шла по склону, образуя нечто вроде зигзага, что в некоторой степени уменьшало крутизну спуска. Поэтому пышные кроны высоких деревьев, росших по косогору и на значительном протяжении окаймлявших с обеих сторон дорогу, почти не выдавались над уровнем площадки, где остановились наши путешественники, и нисколько не мешали обозревать панораму долины. Вокруг все цвело и зеленело. Казалось, растительность приберегла для этой поздней зимней поры самое богатое свое убранство и, красуясь в роскошном наряде, горделиво улыбалась навстречу первым лучам благодатного солнца. Повсюду, где земля не была вытоптана ногой человека или животного, буйной порослью тянулась кверху трава, стлался ползучий пырей, нежно благоухал розмарин, извивались вездесущие лианы, подымались живописные кустарники и могучие деревья. Всевозможного рода и вида вьющиеся растения, паразитирующие на деревьях и довольствующиеся влагой, которою так богато насыщен тропический воздух, свисали, словно длинные зеленые волосы, с одетых листвою ветвей и засохших суков. На открытых местах и под сенью дерев сплошным ковром покрывали землю цветы; они то собирались и яркие букеты, то рассыпались по траве многокрасочным, затейливым узором, радуя глаз своей веселой пестротой, и даже путешественники наши, привыкшие к щедрости кубинской природы, не могли не подивиться этой красоте.
Жизнь представала здесь в необычных, причудливых, исполненных прелести формах. Соседний лес кишел птицами, бабочками, жуками, букашками – тут были представлены почти все насекомые и пернатые, какие только водятся на изобильной кубинской земле, и все это жужжало, щебетало, звенело трелями, пело в тенистых ветвях и в густой траве, сливая свои голоса в единый гармонический хор, который не под силу было бы воспроизвести ни человеческим голосам, ни музыкальным инструментам. Блаженные создания! Некоторый из них были так милы и так умели затаиться, что даже не пробуждали в других хищного инстинкта и могли порхать, перебегать с цветка на цветок, собирая сладкий нектар, и безо всякой опаски перепрыгивать с ветки на ветку, стряхивая с листвы обильную ночную росу; щедрые капли дождем сыпались на землю – дождем, в котором неповинны были небесные облака! – и от их беспрестанного падения неумолчно шуршал сухой настил опавших листьев.
Ничего общего нет в облике земель, лежащих по одну и другую сторону горной цепи. На юг от нее, почти до самой оконечности острова, простирается плодородная равнина с богатыми пастбищами, с цветущими кофейными и табачными плантациями – и трудно вообразить себе картину более приятную для глаза, более отрадную, чем эти места, и наоборот – земли, расположенные на той же самой широте, но к северу от горного хребта, лежат к глубокой впадине, и вид их столь суров, даже мрачен, что путешественнику начинает казаться, будто он попал в какую-то другую страну, с иной природой и с иным климатом. Облик этого края остался и поныне все таким же малопривлекательным, хотя возделанные земли теперь простираются уже далеко за бухту Баия-Оида. Быть может, причина столь невыгодного впечатления кроется в том, что поля здесь заняты сплошь под плантации сахарного тростинка, что климат здесь заметно более жаркий, и воздух более влажный, что цвет почвы здесь черный либо сероватый, что ярмо угнетения тяжелее давит здесь на человека и на скотину, что обращаются здесь со скотом и с людьми хуже, чем на остальной части острова, и что при одном виде этих несчастных созданий ваше восхищение красотами природы уступает место горечи, а веселость омрачается и переходит в печаль.
Так или приблизительно так думала и чувствовала Исабель, глядя на прославленную землю Вуэльта-Абахо. Великолепны были врата этого края – ибо так по праву можно было назвать высоту, на которой остановились наши путешественники. Поистине, то были златые врата! Но что происходило там внизу, в долине? Была ли эта земля обителью мира и спокойствия? Мог ли белый человек обрести здесь свое счастье? Знал ли здесь чернокожий, хотя бы изредка, минуты отдохновения и довольства? Возможно ли было это в краю нездоровых, сырых низин, где непрестанный, изнурительный труд стал для человека наказанием, а не его долгом по отношению к обществу? Чего могло ждать от судьбы, о чем мечтало все это множество измученных работой людей, когда с наступлением ночи они после целого дня труда погружались в сон, который господь в своем неизреченном милосердии ниспосылает даже самым презренным из своих созданий? Был ли тяжкий труд этих людей свободным и достойным, и могли ли они плодами его прокормить свою семью и сохранить ее в чистоте и христианской добродетели? А эти огромные поместья, составлявшие главное богатство края, – были ли они свидетельством беспечальной жизни и благоденствия их владельцев? Могли ли обрести счастье и спокойствие душевное люди, с ведома которых перегонялась на сахар кровь тысяч и тысяч рабов?
И тут, естественно, Исабели пришло на ум, что если она выйдет замуж за Гамбоа, ей придется время от времени наезжать в инхенио Ла-Тинаха, куда теперь ее пригласили в гости, и, быть может, подолгу оставаться там. И тогда, будто оживленные каким-то волшебством, нахлынули на нее картины прошлого, и перед ее духовным взором прошли главнейшие события ее короткой жизни. Ей вспомнилось время, проведенное в монастыре урсулинок в Гаване, где в мирной тиши сердце ее глубоко впитало здравые идеи добродетельной жизни и христианского милосердия. И, словно по контрасту с этой счастливой порой, припомнилась ей смерть нежной и кроткой матери, и последующие грустные годы сиротства, проведенные ею в кафетале Ла-Лус, и дни, когда она тосковала и предавалась отчаянию среди своих чудесных садов – этого подобия первого на земле сада, навеки утраченного нашими прародителями, этого райского уголка, где она жила, окруженная нежной любовью близких и боготворимая своими черными рабами, почитавшими ее так, как никогда не почитали еще на земле ни одну королеву. Наконец, припомнила она и то, в какой печали оставила своего старого, слабого здоровьем отца, не слишком одобрительно отнесшегося к этой рождественской поездке – возможно, потому, что он видел в ней предвосхищение разлуки более продолжительной.
Недолго длилась эта минута сосредоточенного молчания, но так живо, так сильно было чувство, испытанное Исабелью в этот краткий миг, что невольные слезы выступили у нее на глазах. Леонардо стоял рядом с нею, держа под уздцы своего горячего коня, и, видимо желая отвлечь девушку от ее печальных мыслей, а заодно и выказать себя хорошо осведомленным чичероне, принялся рассказывать ей о наиболее примечательных местах великолепной панорамы, раскинувшейся у их ног. Он не раз бывал в этих краях, знал здесь чуть ли не каждый кустик, и теперь ему очень хотелось щегольнуть перед своими приятельницами отличной памятью.
– Вот это поместье, – начал он, – прямо перед нами, у самого подножия горы, – это инхенио Сайяс. Построек отсюда не видно, они скрыты за деревьями, растущими на склоне горы, но плантации сахарного тростника видны до самой границы имения. Должно быть, сейчас там варят сахар, потому что даже здесь чувствуется запах горячей патоки. Сахарный пресс приводят у них в движение мулы. Нам придется проехать через эту усадьбу, и вы всё увидите сами. Теперь взгляните сюда: здесь, в центре долины, чуть вправо от нас, как раз там, где растет эта высокая сейба, расположено старинное инхенио Эскобар; иначе его еще называют Мариель. Отсюда хорошо видны красные крыши его сахарного завода. Матушка рассказывала мне, что это было самое первое заведение в здешних местах. Должно быть, и у них сейчас идет помол, потому что, как вы можете заметить, над деревьями усадебного двора вьется дымок. Далее – вы, наверное, уже обратили внимание на белесую дымку, что тянется из конца в конец через всю долину; она висит в воздухе примерно на уровне деревьев и местами извивается, образуя излучины и петли. Поэт сказал бы, что это вьется над долиной легкий газовый шарф. А мне почему-то кажется, что это прозрачная кожа, сброшенная змеей, которая, спасаясь от злого горного духа, уползла в море. Однако если вы всмотритесь пристальней, вы увидите, что это не что иное, как пар, подымающийся над извилистым руслом реки Ондо. Речка эта очень узкая, но в период дождей воды ее выходят из берегов и затопляют поля. Сейчас Ондо, вероятно, обмелела, и мосты уже наведены, так что можно будет перебраться через нее, не замочив ног. А теперь взгляните в другую сторону – направо, на северо-восток; там зеленеет густая роща, и над деревьями выдаются верхушки башен; отсюда они кажутся круглыми. Это инхенио Вальванера, оно принадлежит дону Клаудио Мартинесу де Пинильос – тому самому, что недавно получил титул графа де Вильянуэва. Слева, у подножия горы Рубин, или Руби, виднеются плантации инхенио Ла-Бегонья, а справа от него, в полулегве от местечка Кьебраача, наша Ла-Тинаха; отсюда ее и не различишь.
Спуск в обширную долину сахарных плантаций был в этом место очень крут, н, несмотря на то, что дорога шла по склону зигзагами, лошади должны были напрягать все свои силы, чтобы удержать экипаж и не дать ему скатиться вниз по косогору. Леокадио натягивал поводья что было мочи, опасаясь, как бы не оступился коренник, который то и дело приседал на задние ноги и скользил, скорее съезжая, нежели ступая по склону. Громко скрипели кожаные ремни, на которых был подвешен, как люлька, кузов китрина. У измученных лошадей на холке, на боках, на ляжках показалась пена.
– Потише, потише, Леокадио, – вырвалось у Исабели, когда дорога резко пошла под уклон. – В жизни не видела такой кручи!
Гарцевавший справа от экипажа Леонардо пошутил:
– Неужели это говорит Исабель? А я – то думал, что она у нас храбрая!
– Если вы полагаете, будто я испугалась, – с живостью возразила девушка, – вы глубоко заблуждаетесь. Я боюсь не за себя, а за лошадей. Спуск крутой, а экипаж тяжелый. Посмотрите на коренника – он весь в мыле: мне так и кажется, он вот-вот упадет и покатится вниз. Я думаю, нам лучше пройти здесь пешком. Останови их, Леокадио.
– Что вы, что вы, нинья, – воспротивился кучер, рискуя навлечь на себя гнев своих хозяек. – Сидите, не вылезайте, а то, как один раз сойдете – конец, придется вам после на всяком пригорочке вылезать. Соколик – он ведь хитрая бестия, сразу все сообразит. Лучше б разрешили вы мне его попотчевать разочек, ваша милость, небось сразу баловать перестал бы – уж это вы мне поверьте.
– Вот-вот. Тебя, Леокадио, хлебом не корми, а дай похлестать бедных лошадей. Ведь сам знаешь, что к горным дорогам они непривычны. А стегать я тебе их не позволю. Останови сейчас же, слышишь!
– Пропадем мы тут из-за вас, нинья Исабелита, все пропадем, и люди и лошади. – проворчал Леокадио, подбирая поводья, чтобы остановить копей. – При вашей матушке, при госпоже, царствие ей небесное, лошадки эти летали, что твои птицы. Бывало, только и просит – погоняй, мол, пошибче.
Но тут в дело вмешался Леонардо; он также воспротивился намерению Исабели, объяснив, что кучер прав и что, если выйти сейчас из экипажа, коренник станет потом упрямиться на каждом спуске и подъеме; к тому же, сказал он, солнце поднялось невысоко и глинистая дорога, затененная росшими справа от нее деревьями, еще совсем сырая. Исабели пришлось покориться, хотя сделала она это с видимым неудовольствием. Однако, не желая, как она выразилась, принимать непосредственное участие в истязании животных, она передала сестре вожжи от пристяжной, закрыла глаза и уж не открывала их во все продолжение спуска.
Росе же только того и надо было. Юная и живая, она любила опасность и теперь вся трепетала от нетерпеливого желании взять в руки поводья, нимало не беспокоясь о том, как трудно приходилось на этом обрывистом склоне лошадям, которые бережно, словно младенца в колясочке, везли ее вниз, под гору.
Завод в инхенио Сайяс действительно работал. Огромные кучи свежесрубленного тростинка высились на усадебном дворе имения, со всех сторон обступая открытое здание сахароварни. Довольно широкое свободное пространство оставалось только в том месте, где проходила дорога. На усадебном дворе и вокруг него было шумно и людно. Как раз напротив оставленного свободным проезда ходили, или, вернее, бегали, по кругу мулы, вращавшие приводное колесо пресса; рядом с ними бежали негры, подгоняя несчастных животных безжалостными ударами бича. Несколько обнаженных до пояса невольников непрерывно подбрасывали в давильные вальцы большие связки сахарного тростника, и в адском грохоте работающего пресса явственно слышался треск размалываемых тростниковых стеблей. Но как ни оглушительно громыхал пресс, еще громче гремело и лязгало по другую сторону от него, если только могло быть на свете грохотание более оглушительное, чем то, какое производила эта машина. Источник непонятного шума был скрыт от глаз проезжающих густыми клубами пара и дыма, которые поднимались от огромных котлов, где варили сахарную патоку, наполнявшую своим пахучим духом весь большой двор инхенио.
По дороге к усадьбе тянулись нескончаемой чередой повозки, груженные тростником, а им навстречу, направляясь в поле за новым грузом, двигались повозки порожние. Каждая из них запряжена была парою тощих, едва переставлявших ноги волов; рядом с упряжкой шагал возчик-негр, вооруженный длинной палкой с острым железным наконечником; а вдоль этой двойной вереницы движущихся повозок проезжал на бойком муле то в одном, то в другом направлении белый надсмотрщик – бойеро; он также был вооружен, но уже не палкой, а неизменной кожаной плетью, которой он время от времени вытягивал по спине какого-нибудь негра, когда замечал, что тот недостаточно ретиво орудует своим остроконечным батогом.
Трудно вообразить себе сооружение более примитивное и неуклюжее, чем эти повозки. Груженые, они издавали неумолчный скрип, потому что оси их никогда не смазывались; порожние, они стучали и гремели пренеприятнейшим образом, потому что их огромные колеса сидели на оси слишком неплотно и даже на самой гладкой дорого не могли сохранить вертикальное положение, но все время вихляли, наклоняясь то в одну, то в другую сторону; при этом ступицы их громко ударялись о железную чеку, а доски днища, громыхая, подпрыгивали вверх. Земля в пределах усадебного двора и даже за его пределами была усеяна пожухлыми листьями сахарника, среди которых валялось немало годных в употребление стеблей, оброненных по небрежности или упавших с перегруженных либо прохудившихся повозок. Но поистине плачевный урон причиняли урожаю сами возчики. Стоило только надсмотрщику отъехать подальше, как рабы, спеша воспользоваться удобным случаем, вытаскивали из груды тростника первый приглянувшийся им стебель, а при этом заодно вываливалось на дорогу и еще несколько стеблей и тут же раздавливалось и перемалывалось под колесами повозок, ехавших следом. Однако возчиков это нисколько не печалило; взявши в рот конец стебля, они принимались усердно сосать его, не переставая в то же время хриплыми голосами понукать волов и колотить их до крови своими длинными палками, быть может вымещая на безответных животных те удары, от которых кровоточили их собственные спины, истерзанные узловатым концом страшной плети надсмотрщика.
Такие и подобные им сцены наблюдали наши путники и в других инхенио, через которые им пришлось проезжать: в Хабако, Тибо-Тибо, Мариеле, или по-старому – Эскобаре, Риоондо и Вальванере. И только один раз за все время пути наши друзья увидели крохотную деревушку, ситьерию, случайно затесавшуюся между двумя последними из названных нами владений. Селеньице это представляло собой несколько тесно сгрудившихся соломенных хижин, бедные обитатели которых владели клочком пахотной земли и небольшим стадом домашнего скота. Собственно говоря, ситьерию нельзя было даже назвать деревней: не только в ней самой, но и на многие мили [70]70
Испанская миля составляет одну треть легвы и равна 1852 м.
[Закрыть]вокруг не было ни школы, ни церкви. Вблизи своих плантаций хозяева инхенио обычно не терпели вольных поселений – символа прогресса и цивилизации.
Желая отвлечься от печальных мыслей, навеянных этими мрачными картинами, Исабель старалась не глядеть на черную, ссохшуюся, корявую, как необработанное железо, колею дороги; взор ее скользил поверх светло-лиловых метелок созревающего тростника и устремлялся туда, где в голубоватой дали небо смыкалось с темными вершинами гор. Душевное смятение и тоска овладели девушкой, ей хотелось сосредоточиться, разобраться в своих чувствах, но поминутно что-нибудь отвлекало ее. Дорога, по которой они ехали, была хотя и достаточно широка, но неудобна: она то круто вела в гору, то не менее круто уходила вниз и все время петляла. То и дело путь перерезали узкие и глубокие речные русла, и через них большею частью приходилось перебираться по шатким, кое-как сколоченным бревенчатым мостам, а иногда и по дощатым мосткам из тонко распиленных пальмовых стволов. Поневоле надо было ехать медленно и осторожно, а между тем Роса правила очень неумело, так что пристяжная не помогала кореннику, а только мешала: она то забегала вперед, обгоняя его, то отставала от него, то поворачивала не в ту сторону, куда следовало. Леокадио несколько раз громко выразил свое неудовольствие по этому поводу. И, опасаясь какого-нибудь несчастья, Исабель, которой к тому же наскучило слушать воркотню Леонардо, снова взяла в руки поводья пристяжной.
Впрочем, если бы даже Роса и умела править лошадьми, в этот день она не могла бы показать свое умение: слишком уж хорошо было утро и слишком увлекательно путешествие. Слева от экипажа, когда ширина дороги это позволяла, ехал Диего Менесес, такой же галантный на коне, как и в гостиной, где он неизменно очаровывал всех своею беседой. Сейчас он особенно был в ударе, и слова его лились вдохновенно и красноречиво: в это утро больше чем когда-либо он был расположен видеть вокруг себя только то, что радовало взор своей красотой и поэтичностью. Каждую минуту находил он повод, чтобы обратиться к своей восхищенной слушательнице и показать ей какую-нибудь достопримечательность. То он просил ее взглянуть на белоцветные гирлянды ипомеи, которыми были увиты кустарники, посаженные по краям сахарных плантаций; то сравнивал метелки цветущего тростника с султанами на киверах какого-то несметного воинства, тихо колеблемыми легким утренним ветерком; то указывал в сторону от дороги – туда, где с глухим шумом, подобным шуму низового ветра, летели над самой землей, чуть не задевая крыльями траву, большие стаи томегинов, следовавшие некоторое время в том же направлении, в каком ехал экипаж, а потом скрывшиеся в густой чаще сахарного тростника; успевал он заметить и беззаботного неуклюжего сабанеро, когда тот, шумно выпорхнув из зеленой поросли, вдруг прерывал свой неосторожный медлительный полет и тяжело опускался на первый попавшийся тростниковый стебель, и пугливую белую цаплю, когда она, внезапно появившись среди ветвей прибрежного дуба и прижав к спине длинную, чуть ли не вдвое сложенную шею, свободно вытянув ноги, поднималась в воздух, инстинктивно придерживаясь в своем бегстве течения родного ручья; не ускользала от его взгляда и крикливая стайка попугаев, прятавшихся в листве диких апельсиновых деревьев и обнаруживавших себя лишь в ту минуту, когда, налетев все вместе на спелый апельсин, они принимались дружно его расклевывать, чтобы добыть семечки; и, уж конечно, не упустил он случая показать своей приятельнице ястреба – этого кубинского орла, кружившего с пронзительным криком над группой высоких королевских пальм.








