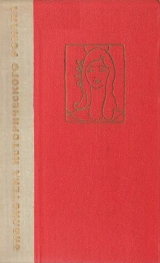
Текст книги "Сесилия Вальдес, или Холм Ангела"
Автор книги: Сирило Вильяверде
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 41 страниц)
Рана Дионисио вскоре начала мало-помалу заживать, и Маланга целыми днями развлекал выздоравливающего приятеля весьма живописными рассказами о бесчисленных похождениях, горестях и радостях своей беспутной жизни. Он, не таясь, поведал Дионисио о своих мальчишеских подвигах, о том, как позднее, когда подрос, сделался вором и грабителем, как пускал в ход наваху в стычках с превосходящим по силе противником и как сам получал ножевые раны, о том, наконец, как ловко умел ускользать от преследования полиции. С особенной гордостью и даже с каким-то жестоким самодовольством перечислял он по отметинам, татуированным у него на левом предплечье, всех «крабов» (так именовал он трактирщиков и содержателей кабачков, в большинство своем каталонцев), которых он на своем коротком веку успел пришить, то есть убить самым хладнокровным образом.
Обращаясь во время рассказа к своему собеседнику, Маланга часто называл его по имени, а иногда и по фамилии, пока однажды Дионисио не попросил его избегать и того и другого обращения, объяснив, какая причина заставляет его настаивать на подобной предосторожности.
– Называйте меня земляком, – говорил Дионисио, – как вы обратились ко мне в ту ночь, когда нашли меня полуживого посреди улицы. Ведь я, друг мой, к несчастью своему – раб и отлучился из дому своих хозяев без разрешения. Они уехали к себе в поместье, а я, воспользовавшись их отсутствием, забрался тайком в платяной шкаф к госпоже и взял там вот это платье, которое вы приняли за одежду факельщика. Там же взял я и те несколько монет, без которых нам с вами сейчас туго пришлось бы. Но дня через два у нас не останется ничего, даже гроша медного на свечку, что ставят за упокой грешных душ чистилища. Ваши доходы невелики, да и достаются они вам с опасностью для жизни. Стало быть, довольно мне тут сидеть сложа руки, пора и на заработки отправляться.
– Ничего, землячок, уж мы найдем, как горю пособить, – доверительно молвил Маланга. – Есть у меня тут одна штучка, за нее уйму денег огрести можно.
– Ну что ж, покажите, что это за штучка такая, – отвечал Дионисио, повеселев.
Бандит вынул из ножен острый стилет, который всегда носил за поясом под рубашкой, разрыл им в темном углу под койкой земляной пол своей комнаты и извлек оттуда какой-то маленький тяжелый предмет, завернутый в тряпку. Держа сверток в поднятой руке, Маланга стал объяснять:
– Вещичка эта, сеньор, досталась мне в прошлом году. Как-то раз остановили мы рано утречком – я и мулатик один, Пикапикой прозывается, да еще один чернявенький, Кайукой его зовут, – остановили мы это, стало быть, возле площади святой Терезы – небольшая такая площадь, знаете? – одного беленького. Расфуфырен, фу-ты ну-ты. Ну, помахал я, значит, у него перед носом этой железкой, он так и обмяк у меня в руках, чуть не помер от страху и всю одежонку, какая на нем была, с себя поскидывал. Приятели мои на монеты польстились, а я себе вот эту штучку взял. После как-то снес я ее одному часовщику с Кальсады – авось, думаю, он у меня ее купит. А он посмотрел ее, посмотрел, повертел-повертел, да и говорит мне: «Вещичка-то эта краденая, я за нее и ломаного гроша не дам». Вот те и раз, землячок. Ну, я малость оробел, воротился домой, да и закопал ее тут. Однако же, я думаю, может, вам оно и пофартит, глядишь, вы ее и сбудете.
– Дайте-ка сюда, посмотрим, что это за сокровище, – не без важности произнес Дионисио.
Но едва только он взял в руки таинственный предмет, как изумленно воскликнул:
– Дружище Поланко, я знаю, чьи это часы!
– Знаете? – переспросил Поланко. – Ну и дела!
Часы были золотые; сквозь колечко головки продета была вместо цепочки или шнурка муаровая лента, отливавшая синим и красным цветом; концы ее соединялись золотой пряжкой.
– Я знаю, чьи это часы, – повторил Дионисио. – Госпожа, то есть моя хозяйка, подарила их сеньорито Леонардо в октябре прошлого года. Тут должна быть гравировка. И, открыв золотую крышку, бывший повар прочел: «Л. Г. С., октября 24-го дня 1830 года. Леонардо Гамбоа-и-Сандоваль. В залог того, что он проведет рождественские праздники вместе со всей семьей в своем имении».
– Ишь ты! А что же это за птицы такие?
– Хозяева мои, – отвечал Дионисио. – Госпожа очень балует своего сына, и что ни день, то ему от нее новый подарок.
– Ну, раз оно так, вы уж меня, сеньор, простите, – огорченно стал оправдываться красавчик. – Откуда ж мне было знать, что они ваши хозяева?
– Тут и прощать нечего, дружище Маланга. Когда дело идет о хлебе насущном, людям не до церемонии, а то недолго ведь и ноги с голоду протянуть. Я уверен, что сейчас хозяева мои уже благополучно вернулись в Гавану и, разумеется, первым делом поместили обо мне объявление в «Диарио». Оно так и стоит у меня перед глазами. В нем, конечно, указано, что человек, поймавший меня, будет щедро вознагражден. И я знаю, немало найдется охотников выследить меня и предать за тридцать сребреников. Но только я вот что сказку: тот, кто вздумает меня изловить, пусть вперед за упокой своей души панихиду отслужит… Живой я в руки не дамся, скорей позволю изрубить себя на куски. Моей поимкой, вероятно, занялся Тонда – ведь он знает меня в лицо… Шалишь, за мой счет ему не поживиться! Впрочем, зря рисковать я тоже не собираюсь, потому что верно говорит пословица: «береженого бог бережет». Но раз уж я убежал от хозяев, я к ним не вернусь, я хочу жить свободным человеком. Не для того я родился на свет, сеньор Маланга, чтобы весь свой век прожить в рабстве. Нет, не для того. Я вырос среди великолепия и богатства. В доме своих первых господ я и представления не имел о том, насколько ужасна участь раба. Мои первые хозяева были истинно благородные люди, настоящие сеньоры. Я ведь женат, у меня двое детой. Собственно, не совсем так. Жену мою уже много лет как сослали в далекое, глухое инхенио и не выпускают оттуда. Там она прижила с одним белым ребенка-мулата. Но я все равно люблю ее, а в дочке своей души не чаю, и я должен заработать много денег, чтобы выкупить их и себя. Теперь вы видите, дружище Маланга, что мне невозможно называться ни Дионисио, ни Харуко, потому что под этим именем и фамилией знают меня в городе. Ведь я только до тех пор могу жить спокойно, пока не попадусь на глаза Тонде или пока имя мое не достигнет его ушей.
– А у меня хоть и два прозванья и зовут меня кто – Поланко, кто – Маланга, но только для меня оно без пользы, – проговорил с какой-то унылой покорностью красавчик. – Как ни кинь, все клин. И фамилие мое всем известное, и прозвище тоже. Тут меня каждая собака знает. И про меня тоже в газете пропечатано было, вот ведь какое дело. И Тонда этот тоже чуть было меня не сцапал, чудом только от него и ушел. Захожу это я как-то раз в прошлом году вечерком с двумя дружками к одному крабу в таверну, на углу Манрике и Эстрелья. Заказали горькой по стаканчику, выпили честно-благородно, ну, встали и пошли. А он-то, краб этот, за нами выскакивает и хвать меня за рубашку. Деньги, видишь, за выпивку ему надобны. Ну, я и не стерпи, душа загорелась: схватился я за железку, да и чикнул его по этому месту, – красавчик дотронулся указательным пальцем до горла, – один только раз и чикнул. Ну, местечко-то что надо, кровь так фонтаном и ударила, скажи – быка зарезали. И вот, верьте не верьте, сеньор, а кинулся он за нами бежать, до самого угла добежал, но тут – все: стал за стенку хвататься и на землю повалился, а на стенке от пальцев его следы кровью припечатаны. Тонда, само собой, пронюхал, что наша это работа, рыскал-рыскал по городу и застукал-таки нас в одном местечке, около Ситьоса. Мне пофартило, и я от него ушел, а вот дружки мои влипли и до сих пор вшей в каталажке кормят. С того дня стал я тише воды, ниже травы – с этим Тондой шутки плохи. Приметили вы, что я только по ночам и выхожу, когда стемнеет, да и к мастеру при самой крайности наведываюсь?
– К какому мастеру?
– К сеньору Сосе, мастерская у него.
– Какая мастерская?
– Сапожная.
– А обувь шьют на мужчин?
– Да нет, всякую. Я там подрабатываю, когда ничего другого не подвернется. Дамские туфли шью, башмаки.
– Да ведь и я такую работу работать умею, – заговорил Дионисио, и лицо его оживилось. – Меня этому ремеслу кучер наш обучил, Пио. И у меня неплохо выходило. А что, если бы вы были так любезны и поговорили обо мне с вашим мастером? Может быть, он возьмет меня к себе в мастерскую? Тогда мы с вами спасены. Даже Тонде не придет в голову, что я могу скрываться в какой-то сапожной мастерской.
– Неплохо вы это придумали. Если хотите, так я вас, сеньор, отведу к нему как-нибудь вечерком, а еще лучше – утречком. Тонда ведь верхом выезжает, и рано ему никак не собраться.
Действительно, как только Дионисио выздоровел и почувствовал в себе достаточно сил, чтобы взяться за работу, Маланга отвел его к мастеру Габриелю Сосе, которому представил своего друга с самой отличной рекомендацией, заверив патрона в том, что Дионисио не только искусно тачает дамскую обувь, но что он к тому же человек благородный и во всех отношениях честный и порядочный и что лишь несчастливые обстоятельства вынуждают его вновь заняться сапожным ремеслом, дабы не умереть с голоду. Так повторилась на новый лад старинная история о том, как беглый раб, скрывавшийся в африканской пустыне, исцелил и выходил раненого льва и как потом, много лет спустя, когда судьба свела их обоих на арене римского цирка, благодарное животное защитило своего спасителя от других зверей и избавило его от ужасной смерти.
Глава 2Непритворно тот скорбит,
Кто в уединенье плачет.
Марциал
Пимьента и его сестра Немесия вместе с портным Урибе и его женой, сеньей Кларой, проводили Сесилию до самых дверей ее дома в переулке Агуакате.
В ответ на условный стук Сесилии дверной засов отодвинулся, и дверь отворилась как бы сама собой. Но на самом деле ее открыла сенья Хосефа, которая к ночи совсем расхворалась и, не дождавшись возвращения внучки, легла в постель, предварительно прикрепив к засову длинную бечевку и обвязав ее другим концом вокруг одной из колонок в изголовье кровати, так, чтобы до этого своеобразного привода можно было дотянуться рукой. Бабушка и внучка не произнесли ни слова.
Сесилия стала раздеваться, и пока она в полутьме, при слабом мерцании лампады, теплившейся в нише перед образом богоматери, почти на ощупь снимала с себя одежду, из груди ее вырывался один тяжкий вздох за другим. Горький осадок остался у нее на душе от нынешнего праздника. Она отправилась в дом Сото, чтобы рассеяться, чтобы в шумном вихре бала, среди веселой, пестрой толпы, под гром оркестра и льстивые речи кавалеров заглушить воспоминание об уехавшем возлюбленном, который пренебрег ею, а возможно, и совсем о ней позабыл; она хотела поквитаться с ним за его неблагодарность, хотела увериться, что у нее станет силы позабыть его, если надо будет с ним расстаться надолго, может быть навсегда.
Но все вышло не так, как ей того хотелось. И теперь, перебирая в памяти события вечера, она нашла, что бал слишком затянулся, что музыка была нестерпимо громкой и резала уши, что женщины были уродливы и безвкусно одеты, а мужчины – несносно глупы и надоедливы и все празднество – настолько пошло и вульгарно, что было бы удивительно, если бы оно доставило ей какую-нибудь радость или удовольствие. Она сравнила нынешний бал с вечером 24 сентября в доме Мерседес Айяла, где она, гордая королева праздника, во всем блеске красоты, упоенная успехом и любовью, танцевала со своим возлюбленным, ныне покинувшим ее. При этом воспоминании Сесилия едва не разрыдалась от подступившей к сердцу обиды. Она стала думать о своей злополучной судьбе и скоро пришла к заключению, что лекарство, которым она пыталась излечить себя, было хуже самой болезни и что в любви месть неизбежно обращается во зло одному из любящих, отнимая у него все земные радости и даже самую жизнь.
Сесилия чувствовала себя такой несчастной и страдание ее было таким всепоглощающим, что лишь в последнюю минуту, уже собираясь лечь в постель, она заметила, что с бабушкой творится что-то неладное. Чепилья металась на своем ложе и глухо стонала, словно умирающая, для которой настали муки смертного часа. Девушка дотронулась до ее лба, но, едва приложив руку к нему, воскликнула:
– Боже мой, ведь у вас жар, мамочка!
– Ты пришла? – слабым голосом спросила ее Хосефа. – Если бы ты задержалась еще немного, ты не застала бы меня в живых.
– Мамочка, но ведь когда я уходила, вы хорошо себя чувствовали. Верно, напроказили тут без меня, правда?
– Нет, я здесь ничего не делала. Только к вечерне сходила, помолиться владычице. Мне нынче с самого утра плохо. Сердце мне говорит, что это конец мой… Который час?
– В монастыре только что пробило два.
– Как ты думаешь, пришел уже отец Апарисио?
– Думаю, что нет, мамочка. Ведь он приходит в монастырь не раньше четырех, к первой заутрене. А зачем вам теперь отец Апарисио, в такой поздний час?
– Чтобы исповедаться, дитя мое. Я чувствую, что жизнь покидает меня, и я не хочу умереть точно собака какая-нибудь.
– А разве утром вы, мамочка, не исповедовались и не причащались?
– Исповедовалась я и причащалась. Что же с того, девочка моя?
– Так ведь этого, мамочка, довольно.
– Нет, не довольно. Грешные мы все. Каждый день, каждую минуту грешим, и надо приготовить себя к последнему часу, чтобы душа предстала перед господом чистой. Чистой как слезиночка.
– Но ведь еще вчера вечером вы были здоровы. Знай я, что так получится, разве пошла бы я на этот дурацкий бал! Ни за что на свете. Одного не пойму – с чего это вам так худо сделалось, что вы все о смерти говорите?
– Долго ли здоровому заболеть? Живет, живет человек, да и помрет невзначай.
– Мамочка, а вы можете мне объяснить, что вы сейчас чувствуете?
– Объяснить этого, детка, невозможно. Одно тебе скажу: душа из тела вон рвется… И чем скорей ты сходишь за падре…
– Падре вас от жара не вылечит, а у вас, мамочка, лихорадка, вот и все. Вы стали такая мнительная. И самое лучшее будет позвать доктора. Да, так я и сделаю. Как только начнет светать, тотчас за ним и отправлюсь. А пока я вам ванну для ног приготовлю и горчичники поставлю, чтобы головная боль прошла. Вам и полегчает, вот увидите, мамочка, полегчает, а может, и совсем выздоровеете. Не такая страшная у вас болезнь, чтобы мы ее не вылечили. Вылечим вас; вы еще, гляди, и меня похороните. Вам, мамочка, жить и жить.
– Да услышит тебя наш святой заступник ангел Рафаил и пречистая матерь божия! Не ради себя жизни прошу – ради тебя. Я уже свое отжила, а ты только начинаешь жить… Делай, как тебе покажется лучше, все в божьей власти… Голова у меня от боли разламывается, – добавила она, сжимая руками виски…
Сесилия вышла в патио и, взяв немного угля, быстро развела огонь на очаге под навесом, воспользовавшись, как обычно в таких случаях, соломой. Через несколько минут вода согрелась, и, налив ее в большой таз, Сесилия приготовила ванну и поспешила к бабушке. Она приступила к этой целебной процедуре с не меньшею верой, любовью и благоговением, чем та женщина, что некогда в доме Симона омыла ноги Иисусу Христу. Вытирая после ванны ноги Чепилье, Сесилия то принималась осторожно похлопывать по ним ладонями, то горячо целовала их, то прижималась к ним щекою, словно хотела передать им частицу тепла, так жарко струившегося в ее собственных жилах.
Растроганная Хосефа положила руку на голову внучки и проговорила:
– Бедная девочка! Ты, родная, стало быть, знаешь и сама, что часы мои сочтены. Я говорю – часы! Но, быть может, мне осталось жить считанные минуты, даже секунды… и ты хочешь приготовить меня к последней вечере, перед тем как я отправлюсь…
Она не могла продолжать: скорбь и глубокое волнение сжали ей горло, голос ее пресекся. Не менее глубоко была взволнована и Сесилия. Почувствовав на своей голове бабушкину руку, она испытала ощущение, сходное с тем, какое вызывает у нас внезапный удар электрического тока, и слезы, которые до этой минуты она подавляла в себе усилием воли, хлынули горячим потоком из ее глаз, смешивая свою соленую влагу с водою ванны.
Хосефа заметила это и, обретая источник силы и самой слабости, заговорила:
– Не плачь, голубка моя, твои слезы для меня горше всего. Не надо горевать. Ты еще молодая, у тебя вся жизнь впереди – счастливая жизнь. И если ты даже не выйдешь замуж, все равно ты всегда будешь жить в достатке. Всегда найдется у тебя защитник и покровитель. А если и не найдется, господь милостив, он тебя не оставит… Вот мне и легче стало. Может, болезнь еще и отпустит меня… Кто знает? Ну же, девочка, успокойся, не надо унывать. Поди отдохни. Коли ты сейчас, ляжешь, то до рассвета сможешь еще поспать часа два и восстановить свои силы… Девушки твоих лет – как цветы в сказке: вот увяли, а вот и опять расцвели. Поди сюда, поцелуй меня и… расстанемся до утра. Да осенит тебя своим благостным крылом твой ангел-хранитель.
Но могла ли уснуть, могла ли думать об отдыхе Сесилия? Едва только отворились городские ворота и звуки дребезжащих колокольцев возвестили о том, что на улицах появились первые повозки угольщиков, девушка осторожно поднялась с постели и побежала к своей верной подруге Немесии, прося ее присмотреть за больной, сама же поспешила на улицу Милосердия, к доктору. Еще несколько дней тому назад, в предчувствии болезни, бабушка подробно объяснила Сесилии, где он живет. «Дом стоит на южной стороне улицы, – говорила бабушка, – как раз на полпути от одного угла до другого. Крыша у него плоска и, окошко – одно, забрано железной решеткой, дверь парадной – красная». По этому описанию Сесилия быстро отыскала то, что ей было нужно, но в доме не слышалось никакого движения и дверь оказалась запертой. Что было делать? Обстоятельства вынуждали Сесилию торопиться, и она решилась постучать. Взявшись за молоток, она ударила им один раз и стала с нетерпением ожидать, что из этого получится.
В доме по-прежнему царствовала мертвая тишина, но через несколько минут одна створка окна приоткрылась, и в нем показалось женское личико, такое красивое и румяное, что Сесилия остолбенела от неожиданности. Вообразите себе, читатель, огромные черные глаза, осененные дугами высоких бровей, маленький рот с ярко-алыми губками, выразительно очерченный орлиный нос, роскошные иссиня-черные волосы – одним словом, восхитительную головку, прелесть которой еще оттенялась очаровательной рамкой белоснежного батистового чепчика, кокетливо отделанного плоеным рюшем из вышитых кружев. Именно таково было впечатление, которое производил внешний облик доньи Агеды Вальдес, юной супруги знаменитого врача дона Томаса Монтеса де Ока.
Мы набросали словесный портрет этой дамы в полном соответствии с тем, как она была изображена на портрете кисти Эскобара, писанном масляными красками и являвшемся для нас в годы нашей юности предметом восторженного созерцания, ибо мы неоднократно имели возможность любоваться им в доме доньи Агеды на улице Милосердия, где он украшал одну из обшарпанных стен гостиной. Что же касается внутреннего, духовного облика доньи Агеды, то главенствующей его чертою, о которой нам придется здесь говорить, была ревность. Донья Агеда ревновала своего супруга к собственной тени, хотя дон Томас далеко не обладал теми внешними данными, которые делают мужчину привлекательным в глазах женщин. Но он был знаменитым врачом и богатым человеком, а донья Агеда придерживалась весьма низкого мнения о представительницах прекрасного пола и любила повторять, что для женщин легко увлекающихся или честолюбивых не существует уродливых мужчин.
Подстрекаемая своей злополучной ревностью, донья Агеда держала под неусыпным наблюдением не только своего мужа, но и всех пациентов, которых ему приходилось навещать, и всех тех, кто, уповая на его искусство хирурга и глубокие врачебные познания, являлся к нему на дом, в особенности же если эти страждущие носили юбку. Вот почему донья Агеда подымалась с постели ни свет ни заря, вот почему в тех случаях, когда по какой-нибудь причине сама не могла получить интересовавших ее сведений, опускалась в этой своей слабости до того, что учиняла допрос кучеру, собственному рабу, простоватому лукавцу, который хотя и сообщал ей изредка о событиях, действительно имевших место, однако по большей части морочил ей голову всевозможными россказнями и небылицами.
Поэтому читатель без особого труда представит себе, какова была тайная радость доньи Агеды, когда она, отворив окно, увидала перед собой молодую девушку, несомненно смешанной крови, да к тому же еще укутанную в богатую и, должно быть, очень дорогую шерстяную мантилью с цветной вышивкой, – ведь все эти обстоятельства неопровержимо свидетельствовали о том, что ранняя посетительница была не кто иная, как одна из приятельниц дона Монтеса де Ока, явившаяся к нему под видом пациентки.
– Что тебе нужно? – быстро и не без резкости спросила ревнивая дама, боявшаяся, как бы девушка не взялась снова за дверной молоток.
– Я пришла за сеньором доктором, – робко отвечала Сесилия, подходя к окну; при этом она подняла голову и устремила глаза на незнакомую сеньору.
«Эге! – подумала про себя донья Агеда, увидев, что девушка очень хороша собой. – Тут дело нечисто». – У доктора, – добавила она громко, – была сегодня беспокойная ночь, и теперь он спит…
– Вот несчастье! – воскликнула Сесилия в отчаянии, сопровождая свое восклицание горестным вздохом.
– А как зовут того доктора, которого ты ищешь? – спросили дама, и по губам ее скользнула коварная улыбка. – Ведь ты… может быть, совсем не туда попала, куда тебе надо?
– Мне надо сеньора доктора Томаса де Монтеса де Ока, – дрожащим голосом, но громко отвечала Сесилия. – Разве он не здесь живет?
– Верно, доктор Монтес де Ока живет здесь. А ты его знаешь, девушка?
– Я видела его всего несколько раз.
– Где ты живешь?
– На улице Агуакате, рядом с монастырем святой Екатерины.
– Это ты заболела?
– Нет, сеньора, заболела моя бабушка.
– А что, Монтес де Ока всегда ее лечит?
– Нет, сеньора.
– Тогда почему же ты пришла звать именно его, а не обратилась к кому-нибудь еще, кто живет с вами по соседству?
– Потому что бабушка хорошо знает сеньора дона Томаса, и сеньор дон Томас тоже ее знает.
– А где же они встречались?
– У нас дома и здесь, у вас.
– А ты живешь вместе с бабушкой?
– Да, сеньора.
– Твоя бабушка замужем?
– Нет, она вдова. Она овдовела задолго до моего рождения.
– И часто приходил Монтес де Ока к твоей бабушке?
– Несколько раз, я не считала.
– Добьешься от нее толку! А тебя Монтес де Ока знает?
– Не думаю. То есть я хочу сказать, что он едва ли когда-нибудь видел меня в лицо.
– А где же ты находилась, когда он навещал твою бабушку?
– Дома. Но бабушка принимала его одна. Я ему никогда на глаза не показывалась.
– Странно. А какая причина была у тебя от него прятаться?
– Никакой причины, сеньора. Просто случалось так, что, когда он приходил к бабушке, и бывала плохо одета.
– Так, так! Ты что же – боялась не поправиться ему? Разве ты не знаешь, что для тебя он слишком стар и некрасив?
– А я и не думала, понравлюсь я доктору или нет!
– Какие же такие дела связывают Монтеса де Ока с твоей бабушкой?
– Не знаю, сеньора. Но ничего худого в этих делах нет.
– Ты замужем?
– Нет, сеньора.
– Но у тебя, верно, есть жених, и ты скоро выйдешь замуж, не так ли?
– У меня нет жениха, и замуж я пока не собираюсь. Так как же, сеньора, можете вы мне сказать, будет ли доктор?..
– Но я же объяснила тебе, – прервала ее донья Агеда, – что у Монтеса де Ока была сегодня беспокойная ночь, и он не велел будить себя раньше десяти.
– Что же мне делать? – сокрушенно воскликнула Сесилия. – Вот беда, вот беда!
Восклицание это нашло живейший отзвук в ревнивом сердце доньи Агеды, и с тайным умыслом она спросила:
– А тебя как звать?
– Сесилия Вальдес, – сквозь слезы промолвила девушка.
– Сесилия Вальдес?! – изумленно и вместе с тем немного недоверчиво переспросила донья Агеда, но тотчас поспешно добавила: – Так что же ты стоишь? Войди в дом!
И донья Агеда, не дожидаясь ответа и возражения, самолично отодвинула тяжелый дверной засов, напоминавший формою букву Т, отперла дверь и с чистосердечной любезностью ввела девушку к себе в дом.
Как Сесилия ни была расстроена, однако от ее внимания не ускользнуло, что в этой красивой сеньоре было что-то странное, делавшее ее похожей на безумную. И все же девушка не испытывала страха: напротив, какая-то непреодолимая симпатия привлекала ее к этой женщине, и не только потому, что та обращалась с ней запросто, но также и потому, что странная сеньора была необычайно красива, а голос ее звучал чарующе нежно и мелодично. Словно подчиняясь обаянию некоей магнетической силы, Сесилия покорно и молча следовала за доньей Агедой, которая привела ее в столовую, выходившую окнами в патио, откуда в помещение проникал бледный свет занимающегося дня. Здесь донья Агеда уселась на стул спиной к большому столу полированного красного дерева, поставила Сесилию прямо перед собой, у своих колен, и, взяв ее за руки, принялась пристально всматриваться в ее лицо и оглядывать ее всю с ног до головы; так продолжалось довольно долго, причем, судя по возбужденным восклицаниям, то и дело вырывавшимся у доньи Агеды, она совсем позабыла, что перед нею не статуя, а живая девушка, отлично понимающая испанский язык.
– Никакого сходства! – твердила донья Агеда. – Ну, ни малейшего! Не может быть, чтобы это была его дочь. Или она пошла в нее? Конечно же! Конечно! Она – вылитая мать!.. Ты знаешь, кто твой отец? – неожиданно спросила она девушку.
– Нет, сеньора, не знаю, – отвечала Сесилия так же кротко и послушно, как раньше.
– А разве твоя мать никогда тебе этого не говорила?
– Нет, сеньора, я выросла без матери. Она умерла вскоре после моего рождения.
– Кто рассказал тебе эту басню?
– Какую басню?
– Ну, что твоя мать умерла вскоре после твоего рождения.
– То, что мама умерла, это, сеньора, вовсе не басня. У меня даже ни одного воспоминания о маме не сохранилось.
– Сколько же тебе лет?
– Я родилась в октябре тысяча восемьсот двенадцатого года, так мне говорила бабушка. Вам нетрудно будет сосчитать.
– Неужели же твоя бабушка так и не открыла тебе, кто твой отец? Разве она не знает его? А о том, что тебя подбросили в приют для грудных младенцев, тебе известно?
– Да, сеньора, об этом я знаю. Меня туда поместили, чтобы я при крещении могла получить фамилию Вальдес.
– Но я ведь не была подкидышем, а между тем моя фамилия тоже Вальдес. Стало быть, твоему отцу вовсе не было нужды помещать тебя в приют; он мог дать тебе при крещении любое имя и только записать тебя в приходской книге дочерью неизвестных родителей, как это обычно и делается в таких случаях. Сразу видно, что он был человек бессердечный. Скажи, а кто тебя вскормил? То есть кто кормил тебя грудью? Твоя мать?
– Наверное, нет. Меня кормила какая-то негритянка.
– Где – в приюте?
– Нет, сеньора, это было в доме у бабушки.
– А как звали твою кормилицу?
– Кажется, Мария-де-Регла Санта-Крус.
– Она еще жива? Где она теперь?
После минутного колебания Сесилия, приметно смутясь, ответила:
– Я слышала, что хозяева моей кормилицы сослали ее в какое-то глухое поместье. По крайней мере так мне сказал один негр, с которым я вчера вечером столкнулась на балу для цветных в доме Сото – знаете, в предместье.
– Еще одна басня. Все это ложь. Кормилица твоя вовсе не раба графов Харуко. И нанял ее для того, чтобы она кормила тебя в приюте, а потом в доме у бабушки, твой отец. Вот он, полюбуйся!
И в то время как Сесилия в полумраке отыскивала глазами того, на кого ей указали жестом и словом, ревнивая красавица быстро поднялась со своего места и выскользнула в соседнюю комнату, воспользовавшись для этого дверью, выходившей в патио. Ошеломленная Сесилия в растерянности обернулась и едва не вскрикнула от испуга: из-за железной решетки, отделявшей столовую от гостиной, на нее пристально смотрел маленькими обезьяньими глазками какой-то человек с длинным бледным лицом, на котором не замечалось ни малейших признаков растительности, как это обычно бывает у людей, принадлежащих к индейской расе; голова его была покрыта засаленной шелковой ермолкой, надвинутой почти на самые уши.
– Что тебе нужно? – гнусавым фальцетом спросил ее человек.
– Сеньор, – нерешительно заговорила Сесилия, – я пришла за сеньором доном Томасом Монтесом…
– Это я, – прервал он ее. – В чем дело?
– Ах, это вы, сеньор? Но ведь сеньора мне сказала…
– Не обращай внимания на ее слова. Сеньора немного того… – И он покрутил у виска указательным пальцем правой руки. – Кто-нибудь заболел?
– Бабушка. Ах, сеньор доктор! Ей очень плохо, она умирает… Если бы, сеньор доктор, вы были так добры и согласились прийти к нам сейчас…
– А кто твоя бабушка?
– Я думала, что вы меня знаете, сеньор доктор… Моя бабушка – Хосефа Аларкон; покорная слуга вашей милости, сеньор доктор…
– А-а-а! Так это мать… Ага, да, да, да, да, ей ведь покровительствует сеньор… Боже, что это нынче с моей головой!.. Ага! А ты ее дочка… Ну конечно! Тебя зовут… гм… Сесилия. Верно, верно – Сесилия. Сесилия Гам… Ах, нет, Сесилия Вальдес. Как же, как же, отлично помню. Только нынче у меня голова разболелась, трещит, точно жернова в ней ворочаются; вот я все и путаю. Твою бабушку и тебя препоручили моему вниманию и заботам. Но ты… вот что – это между нами, конечно, – добавил он, понижая голос, – не обращай внимания на те небылицы, что моя жена плела здесь про меня, про тебя, про твою мать и твоего отца, про кормилицу и про все остальное. У нее с головой неладно, вот она и болтает. Она ведь… – И он снова посверлил себе висок указательным пальцем. – Ну, ты меня понимаешь. Не верь ни одному ее слову, Сесилия Гам… то есть Сесилия Вальдес… Ах, и как же ты похожа, как похожа… Да! Так скажи своей бабушке, что как только заложат мой шарабан, я тотчас к ней буду. Кучер, видно, отправился купать коней на набережную Де-Лус… Если только он не перехватил где-нибудь по дороге стаканчик, он должен сию минуту воротиться, и тогда я сразу же, следом за тобой. Можешь идти. Скажи бабушке, что я скоро буду… Сеньор дон, дон, дон… Видишь ли, я хочу сказать, что он хорошо платит за услуги… Щедрый человек, истый вельможа… Ну, иди же, иди.
И когда Сесилия, обескураженная, в полном убеждении, что она попала в сумасшедший дом, двинулась к выходу, доктор проводил ее пристальным, испытующим взглядом и долго стоял, прильнув к решетке и повторяя про себя вполголоса:
– Да, большое, большое, разительное сходство! Я бы сказал – похожи, как две капли воды. Но я не думал, что она и в самом деле так хороша, как о ней рассказывают. Красивая девушка! Да, красавица, настоящая красавица! Вот бы отправить ее вместе с матерью в инхенио Хайманитас, к святым отцам! То-то была бы потеха, то-то был бы содом во святой обители вифлеемской! – И доктор расхохотался так, как если бы и впрямь был сумасшедшим.








