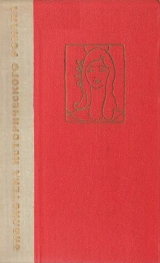
Текст книги "Сесилия Вальдес, или Холм Ангела"
Автор книги: Сирило Вильяверде
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 41 страниц)
Едва ли мы удивим нашего читателя, когда добавим к сказанному, что также и собаки дона Либорио старались во время этой сцены выказать свою радость и удовольствие. Пока управляющий находился на террасе, они смирно лежали у ног его лошади, но едва он сошел вниз и направился к неграм, они вскочили и, одна – справа, другая – слева, бросились вслед за ним, пристально следя за движением его глаз и правой руки, чтобы по первому знаку кинуться на жертву, которую хозяин укажет им, и вцепиться ей в горло.
Заметим, однако же, что не все дамы, присутствовавшие при этом жестоком зрелище, встретили одобрительными возгласами упомянутое нами выше замечание доньи Росы. Более того, донья Хуана отвела глаза в сторону, и лишь соображения приличия удержали ее от того, чтобы покинуть террасу, где она волей-неволей должна была если не видеть, то по крайней мере слышать свист плети и глухие стоны истязуемых. Те же чувства, что и донья Хуана, испытывали также ее племянницы и младшие дочери сеньора Гамбоа, но так как им не было нужды блюсти все строгости этикета, они поспешили укрыться внутри дома, в патио, куда за ними последовали Менесес, Кокко и Леонардо. Однако дон Кандидо не дал сыну уйти; он окликнул Леонардо и велел ему сопровождать доктора Матеу в барак для больных, чтобы там от самого беглеца узнать все подробности происшедшего. Когда же Леонардо ушел, дон Кандидо доверительно объяснил священнику и капитану-педанео:
– Я хочу, чтобы он смолоду привык ко всему этому. Не сегодня-завтра я могу умереть, и тогда поневоле все заботы о нашем состоянии, и прежде всего об этом поместье, принадлежащем ему по праву, как старшему из моих детей, лягут на его плечи.
Леонардо не нашел извинительного предлога, чтобы уклониться от строгого отцовского приказа; ослушаться же отца он не посмел, и так как предстоявший визит был ему неприятен, он настоял на том, чтобы сестры и обе молодые гостьи отправились в барак для больных вместе с ним. Сестер, точно так же как и Росу, долго уговаривать не пришлось, тем более что Менесес и Кокко охотно согласились составить девушкам компанию. Идти отказалась только одна Исабель, но уговоры и настояния друзей, а также мысль, что во время этого посещения ей, быть может, представится случаи совершить милосердное дело, побудили и ее в конце концов согласиться.
– Меня похищают, – мило улыбнувшись, объяснила она донье Росе, проходя мимо нее под руку с Леонардо.
– И правильно делают, – отвечала ей хозяйка дома.
– Какая славная парочка! – заметила жена капитана Пеньи донья Тереса, глядя на Исабель и Леонардо, спускавшихся с террасы во двор инхенио.
– Красавица! – поддержала донью Тересу донья Николаса, жена управляющего Мойи.
Дон Кандидо нашел замечания женщин как нельзя более уместными и поспешил воспользоваться ими в своих целях.
– Не кажется ли тебе, – обратился он вполголоса к донье Росе, – что нам следовало бы поторопиться и поженить их как можно скорее?
– Да, конечно, – рассеянно отвечала ему донья Роса.
– Она производит на меня очень хорошее впечатление, – продолжал дон Кандидо. – И видно, что она влюблена в Леонардо. К тому же брак заставит его остепениться…
Дон Либорио не особенно был силен в грамоте, но память имел отличную и легко запоминал человеческие лица, почему совершенно был уверен, что за исключением семерых бежавших, восьмерых заболевших и двадцати восьми челядинцев, как-то: плотников, каменщиков, кузнецов, конюхов и слуг, остальные триста шесть человек – мужчины и женщины, холостые и женатые, взрослые и дети – прошли перед ним все от первого до последнего и скрылись один за другим в воротах своего поселка. Весьма довольный этим обстоятельством, дон Либорио запер за ними ворота и, задвинув горизонтальный засов, напоминавший формою букву Т, замкнул его на замок, а ключ вместе с бичом повесил у себя дома на гвоздь, вбитый под самою крышей в наружный косяк входной двери.
Если бы управляющий читал когда-нибудь «Дон-Кихота», он мог бы вслед за прославленным странствующим рыцарем повторить:
Кто посягнет на них дерзкой рукой,
Роланда на грозный вызовет бой!
Ибо под упомянутыми выше кубинскими символами помещичьей власти лежали, не отходя от дверей ни в вёдро, ни в дождь, ни в холод, ни в зной, свирепые бульдоги дона Либорио, и горе смельчаку, который решился бы приблизиться к двери и снять с гвоздя заветный ключ и страшную плеть!
Семья дона Либорио была приглашена вечером в господский дом, и управляющий, пообедав в одиночестве, скоро поднялся из-за стола, торопясь присоединиться к врачу, уже направившемуся в барак для больных. Вооруженный кинжалом и мачете и сопровождаемый, как обычно, своими собаками, дон Либорио шел на этот раз пешком. Дорога от дома управляющего к бараку, расположенному, как и все прочие строения усадьбы, на квадратной площадке хозяйственного двора, пролегала мимо живой изгороди из пиньонов, окаймлявшей в этом месте угол плантации, где сахарный тростник еще не был срезан. Когда дон Либорио поравнялся с изгородью, собаки его внезапно бросились в сторону от дороги, по направлению к тростниковой заросли. Рыча и повизгивая, словно чуя близкую добычу, они тщетно пытались прорваться сквозь плотную стену зеленой ограды. Однако дон Либорио, как мы уже сказали, торопился. Кликнув собак, он не задерживаясь пошел дальше.
Между тем едва только он скрылся в бараке для больных, как на дорогу выехал верхом на коне какой-то негр. Проникнув во двор усадьбы, он пересек его из конца в конец, приблизился к дому управляющего и, въехав под самый навес, огляделся. Свет в окнах не горел, людей видно не было. Тогда, не сходя со своей тощей, дряхлой кобыленки, на которой сидел он без седла, негр снял ключ, висевший на гвозде под самою крышей, отомкнул замок на засове ворот и затем повесил ключ обратно, на прежнее место. Свершив этот подвиг, он направился к господскому дому, где попросил разрешения видеть хозяев. Просьба его была удовлетворена, так как дон Кандидо и донья Роса все еще находились на террасе.
Спешиваясь, негр не спрыгнул, а скорее скатился со спины своей лошади на землю, потому что ноги его из-за отсутствия стремян не имели опоры. Первым долгом он скинул с головы свою суконную шапку, после чего, согбенный и дрожащий, упал на колени перед доньей Росой и заговорил обычным для него ломаным языком:
– Благословляй мне, миленький госпожа!
– Ах! – вскрикнула не без испуга донья Роса. – Это ты, Гойо? Да благословит тебя бог. Как поживаешь?
– Плоха, миленький госпожа, савсем плоха!
– А что с тобой, Гойо?
Из ответов старика, представлявших собой по большей части смесь непонятных намеков и запутанных околичностей, можно было все же уразуметь, что в последнее время Гойо совсем ослабел, что ноги отказываются служить ему, что собственное тело стало ему в тягость, что он стар и дряхл и жаждет лишь одного – последнего успокоения на кладбище; что госпожи еще на было на свете, когда ее отец купил его, Гойо, на невольничьем рынков Гаване; что он, Гойо, был одним из тех, кто построил инхенио Ла-Тинаха, одним из первых, кто пришел сюда с топором вырубать девственные леса. Донья Роса и сама обо всем этом отлично знала, но сопровождаемое ужимками и бесконечными отступлениями повествование Гойо имело целью подготовить ее к важному сообщению о том, что он, Гойо, знает, где находятся некоторые из бежавших рабов. Старик добавил также, что беглецы, проведав о приезде из Гаваны своих хозяев, захотели вернуться в инхенио, так как надеются, что их не накажут за проступок, совершенный ими впервые, в особенности же если старый привратник, столько лет верой и правдой прослуживший в поместье, попросит госпожу простить их.
– Хорошо, – отвечала ему донья Роса, предварительно переглянувшись с мужем, чтобы заручиться его согласием. – Хорошо, Гойо. Ступай и скажи им, что они могут спокойно вернуться назад. Из уважения к тебе с ними будет поступлено по справедливости. Ты все понял?
Обратившись к донье Росе в надежде испросить у нее прощение для беглецов, привратник со всей несомненностью доказал, что в голове его могли возникнуть по меньшей мере две совершенно ясные и отчетливые мысли. Первая заключалась в предположении, что женское сердце доньи Росы окажется более мягким и отзывчивым, чем сердце дона Кандидо. Вторая состояла в убеждении, что донья Роса, законная владелица поместья, получившая его в наследство от своего отца, выкажет более снисходительности к проступку своих рабов, нежели ее муж, который хотя и управлял инхенио как полноправный хозяин, но не был его истинным и законным владельцем.
Изложенные подобным образом, мысли эти покажутся, пожалуй, чересчур сложными, чтобы они могли возникнуть в голове невежественного негра, к тому же еще и отупевшего за долгие годы рабства. Но как бы там ни было, дон Кандидо именно так истолковал речи старого привратника. Он был весьма чувствительно задет, во-первых, тем, что старик обратился со своей просьбой не к нему, главе дома, а во-вторых, еще и тем обстоятельством, что лишний раз была подчеркнута ненавистная для дона Кандидо разница между ним и его женой, подлинной владелицей имения. Гойо, выражаясь фигурально, наступил на любимую мозоль дона Кандидо. И дон Кандидо поспешил тотчас же поквитаться за нанесенное ему оскорбление и поддержать в глазах гостей, свидетелей этой сцены, свое униженное, как ему казалось, достоинство господина и главы семьи. И в то самое время, как старик привратник, весь дрожа от натуги, взбирался на свою неоседланную, на редкость смирную кобыленку, дон Кандидо, подстрекаемый своими недобрыми мыслями, обратился к донье Росе со следующими словами:
– Хороши же мы будем, если ради всякого бездельника, который вздумает вступиться за наших рабов, станем прощать им не только самые тяжкие их провинности, но даже и настоящие преступления!
Донья Роса удивленно взглянула на мужа и ответила подчеркнуто спокойно:
– Но ведь ты же согласен с моим решением?
– Да, возможно.
– Так в чем же дело?
– Дело в том, что с этими мошенниками надо поступить действительно по всей справедливости, по всей справедливости закона. Эти негодяи сбежали от нас, когда мы больше всего нуждались в их услугах.
– Прости, но что значит поступить с ними по всей справедливости закона?
– Это значит, – раздельно отвечал ей дон Кандидо, – воздать каждому по заслугам и должным образом наказать тех, кто совершил преступление.
– Но в таком случае мы поступили бы несправедливо.
– То есть как – несправедливо? Спроси у сына – он ведь изучает право, – спроси у него, что значит поступить по всей справедливости закона! Или хотя бы вспомни судебные повестки, что печатаются в «Диарио» по распоряжению прокурора постоянной военной судебной коллегии. Помнишь? «Я, имярек, капитан армии его величества и прочая и прочая, сим приглашаю, увещеваю и вызываю такого-то, имярек, явиться в течение ближайших стольких-то дней в городскую тюрьму, дабы он мог снять с себя возводимые на него обвинения, послужившие основанием для возбуждения против него дела о ночном разбое… или, скажем, мошенничестве. Если обвиняемый, имярек, явится в суд в течение вышеозначенного и не подлежащего продлению срока, он может быть уверен и надежен, что с ним будет поступлено по всей справедливости закона…» Вот видишь, по всей справедливости. Я даже наизусть помню.
– Но когда человека приглашают в эту самую коллегию, или как она там называется, чтобы поступить с ним по всей справедливости закона, – ведь это еще не значит, что его непременно накажут?
– Нет, как раз значит, потому что под тем или иным предлогом, но этих людей всегда наказывают. Недаром же, сколько эта коллегия их ни приглашает, сколько ни увещевает и ни вызывает, а по доброй воле туда никто не является. А почему? Да потому, что про справедливость закона говорится только так, для красного словца, а на деле – пусть даже вызванный будет невинен, как новорожденный младенец, но раз уж он попался к ним в руки, от тюрьмы-голубушки ему не уйти; засудят его года на три-четыре, это как пить дать. А ведь такого наказания я разве только врагу своему и пожелаю.
– Хорошо, Кандидо. Все это прекрасно. Но я – то ведь, когда говорила о том, что с ними будет поступлено по всей справедливости, имела в виду совсем другое. Я, собственно, обещала простить их, то есть тех, за кого ходатайствовал Гойо.
– Ты ошибаешься, Роса. Ты вовсе не обещала их простить. Ничего подобного. А если бы даже и обещала, то совсем не обязана выполнить обещанное…
– Но ведь я дала слово.
– Пустое, Роса, пустое. Говорю тебе – ты ничего не обещала, и я хотел доказать тебе это, чтобы нам потом не пришлось каяться в своем мягкосердечии. Из того, что ты сказала: «С ними будет поступлено по справедливости», вовсе не следует, будто ты обещала простить их так уж безусловно… за здорово живешь.
– Да, но Гойо будет думать иначе – он будет считать, что я его обманула.
– Ну так что же? Пусть он на тебя рассердится. Какое это имеет значение? И кроме того, зачем быть честными с теми, кто сам по природе своей нечестен.
– В конце концов, для меня действительно неважно, что подумает Гойо; он всего только старый, невежественный негр, и я даже уверена, что он не понял смысла моих слов. Все так. Но как же совесть, Кандидо? Я ведь намеревалась…
– Знаю, – перебил ее дон Кандидо, – ты намеревалась простить их. Что из того? – И с тонкой иронией он добавил: – На этот раз совесть твоя может быть совершенно спокойна. А если и есть здесь какой-то грешок, я беру его на себя: семь бед – один ответ. И я тебе вот что скажу: если человеку хоть однажды станет совестно перед негром за то, что он говорил или чего не говорил, за то, что делал или чего не делал, это будет значить, что сей благочестивый муж или сия благочестивая дама и понятия не имеют о том, как управлять неграми. Угрызения совести – и из-за чего? Из-за каких-то скотов! – И дон Кандидо громко расхохотался.
В это время на террасе появились вернувшиеся после посещения барака для больных молодые люди и девушки. Доктор Матеу сообщил, что укусы, полученные негром, оказались хотя и серьезными, но жизни его не угрожали, так как сосредоточены были главным образом в области предплечий, плеч, кистей рук, лодыжек и стоп; незначительные ранения имелись также на трех пальцах правой руки, с которых была содрана кожа.
– Но, к счастью, – добавил доктор на свойственном ему ученом жаргоне, – клыки животных проникли в мышцы не слишком глубоко и не задели ни одного сколько-нибудь крупного и жизненно важного для организма кровеносного сосуда. Поэтому гематоза можно не опасаться, посмотри на то, что у больного отмечается резко выраженная гемалопия, явившаяся следствием той физической и психической депрессии, в которой он пребывал все последнее время. В подобных случаях показано применение пиявок, каковые рекомендуется ставить на виски. Кстати, в аптечке инхенио пиявок нет, придется привезти их из города. Весьма возможно, что в дальнейшем разовьются также явления столбняка, поскольку больной, будучи уже укушенным, попал в воду. Чтобы предотвратить эту опасность, я назначил ему частые смазывания раненых конечностей мазью, составленной из пороха, тертого чеснока и оливкового масла.
Леонардо был более лаконичен. Обращаясь к матери, но стараясь говорить так, чтобы и отец мог его слышать, он рассказал следующее: из того, как Педро держался с ним, можно было заключить, что он не желает признавать Леонардо своим господином; мало того, он наотрез отказался выдать своих сообщников, утверждал, будто не знает, где они находятся, и дон Либорио даже запугиваниями не смог вырвать у него ни одного признания – напротив того, когда управляющий сказал, что бежать из барака невозможно, и пригрозил держать Педро в колодках до тех пор, пока он не развяжет язык, дерзкий негр только рассмеялся и ответил, что не родился еще тот удалец, который смог бы силком удержать его, Педро, там, где ему быть не хочется. Леонардо объяснил, что при этих словах с негодованием покинул барак.
– Но не странно ли, – добавил молодой человек, – едва только мы оттуда вышли, он позвал меня и сказал мне, что хочет видеть господина, то есть папу.
– Так я и думал, – пробормотал дон Кандидо, вставая. – Ничего, подождет до завтра, не велик барин! Или, может быть, его светлость полагает, что я стану утруждать себя ради него в такую пору?
Однако, если бы о посещении барака спросили у побывавших там девушек, их рассказ сильно отличался бы от того, что рассказали доктор и Леонардо. Они поведали бы о черном Геракле, распростертом навзничь на жестких дощатых нарах, о ногах его, зажатых в колодки, о зиявших на пепельно-черном теле кровавых ранах – страшных следах бульдожьих я укусов, о его изодранной в клочья одежде, подложенной ему под голову вместо подушки, о раскинутых руках его с истерзанными кистями, видимо причинявшими ему жестокую боль, и о том, как, взглянув на него, одна из подруг воскликнула, что он похож на Христа, претерпевшего крестную муку, на распятие из эбенового дерева; и еще они сказали бы, что зрелище это преисполнило их сердца состраданием и благочестивым трепетом и что нестерпимо стыдно стало им оттого, что они целой толпой прибежали поглазеть на беглого негра, – но что еще нестерпимее было для них сознание своего бессилия, ибо ничем не могли они облегчить участь этой новой жертвы общественной несправедливости и тирании, господствовавшей на их несчастной родине!
Глава 6О неграх рассказать… О! Слаб язык мой
И мукам их названья не найдет!
Д. В. Техера
В это утро, утро первого дня рождества, управляющий инхенио Ла-Тинаха поднял рабов на ноги гораздо раньше обычного. Что было тому причиной, сказать трудно: возможно, он хотел выслужиться перед хозяевами, показать себя человеком усердным и деятельным; возможно также, что всему виной были петухи, запевшие в неурочный час и тем введшие дона Либорио в заблуждение.
Еще не отзвучал в воздухе последний удар колокола, торжественным своим голосом созывавшего негров на работу, когда дон Либорио, подкрепившись двумя-тремя чашечками кофе, закурив сигару и вооружась, снял с гвоздя знакомый читателю ключ, кликнул бульдогов и пешком направился к невольничьему поселку, чтобы отпереть его железные решетчатые ворота. Энергичным движением вложил он в отверстие замка тяжелый ключ и попытался повернуть его – ключ не поворачивался. «Что за наваждение! – подумал про себя управляющий. – Не иначе как тут кто-то ковырялся. Ну добро же, всыплю я им сегодня! Небу станет жарко!»
Он посветил сигарой в отверстие замка, повернул ключ на пол-оборота в другую сторону и вдруг явственно услышал, как щелкнул язычок, входя в отверстие дужки. «Черт побери! Ну, не остолоп ли я? Ворота запер, а замок не замкнул! Что ж это – забыл я его закрыть, что ли? Или пьян был? Или, может, с ума спятил? Либо затмение на меня нашло? Или это мне колдовским заговором глаза отвели? Что ж это такое – а, Либорио?»
Впрочем, долго ломать голову над этой загадкой дону Либорио было недосуг: негры уже выходили из хижин, и управляющий занялся своим обычным делом. Он отодвинул засов, открыл ворота и встал у верейного столба так, чтобы, согласно заведенному порядку, все невольники прошли мимо него один за другим. Поэтому, хотя и были довольно темно, от его зорких глаз не укрылось, что одна из негритянок шла, хоронясь за спину своего товарища, и, видимо, хотела проскользнуть незамеченной. Для злобного и подозрительного дона Либорио этого оказалось довольно; коршуном налетев на свою жертву, он грубо схватил ее за плечо и поднес ей к лицу зажженную сигару. Каково же было его изумление и даже радость, когда он узнал в невольнице Томасу, негритянку племени суама, – ту, что две недели назад бежала из инхенио. А пока дон Либорио стоял, вцепившись пальцами ей в плечо, к воротам, так же крадучись, как и Томаса, подошел Клето, из племени ганга, а вслед за ним – арара Хулиан, биби Андрес и бриче Антонио. Управляющий всех их остановил и отвел в сторону.
Тем временем остальные невольники, пройдя мимо дона Либорио, построились на большой площадке в середине усадебного двора, и управляющий, выведя пятерых беглецов вперед, приказал им встать напротив своих товарищей, занимавших место в центре шеренги, которая была очень длинна, потому что люди были построены всего лишь в два ряда.
– А ну-ка, матушка Томаса, – начал допрос дон Либорио, – поди-ка сюда и скажи мне – да только, чур, говорить правду, коли жизнь дорога! – скажи-ка мне, из каких-таких мест ты к нам припожаловала?
– Лесу приходил, – последовал невозмутимый ответ.
– Ах, вот как, стало быть из лесу? А зачем же это сеньорите Томасе понадобилось в лес?
– Я, синьó…
– Не надо, сеньорита, не надо объяснять. К чему утруждать себя? Я и так все знаю: сеньорита хотела послушать, как птички поют. А мы вот теперь посмотрим, как она сама у нас, запоет. Только что-то не пойму я, с чего бы это донья Томаса Суама вдруг воротиться к нам надумали?
– Гаспада приходил. Праси прашень нада.
– Так, так, будет тебе прощенье, все тебе будет. Ну-с, а как же ваши милости дома у себя очутились?
– Ворота ходил.
– А кто же открыл сеньорите ворота?
– Открыл не нада. Открытый был.
Но тут терпение изверга иссякло.
– Вот как, открыты, говоришь, были? А? Ах ты, потаскуха!..
И он наотмашь, со всего плеча ударил Томасу по лицу. Оглушенная ударом, негритянка упала, и прошло несколько мгновений, прежде чем она смогла подняться на ноги. А в это время управляющий обратился с такими же вопросами к четырем ее товарищам. Ответы были почти те же, что и у Томасы.
– Ложись! – прорычал дон Либорио, видя, что негритянка поднялась с земли; и своими железными пальцами он схватил ее за плечо, пытаясь снова бросить наземь.
Но Томаса была молода и сильна, она даже не пошатнулась. Понимая, чем грозит ей приказ управляющего, она твердо сказала:
– Ваша милось, моя бей нельзя, гаспажа – кресный.
Управляющий расхохотался:
– Уморила меня! Вот уморила! Госпожа – твоя крестная? Ну так покличь ее, покличь – может, она и встанет с постели и прибежит к тебе на выручку! Слушай ты, бесовское отродье! Или ты сейчас ляжешь, как приказано, или я тебя убью, поняла?
– Убей! – гордо ответила ему девушка.
– Взять ее! – заревел управляющий, не помня себя от ярости. – Так ее, так, на землю! – Приказ этот был обращен к возвратившимся беглецам, товарищам Томасы.
Трое из них послушно бросились исполнять повеление дона Либорио: один схватил девушку за ногу, двое других за руки, она потеряла равновесие и упала на землю вниз лицом, а негры крепко держали ее, не давая подняться.
Естественно, что слепое повиновение, с каким трое беглецов поспешили выполнить приказ управляющего, заставило дона Либорио с удвоенной яростью обрушиться на четвертого их товарища, Хулиана, который, по-видимому, совсем не был расположен последовать примеру своих робких друзей. Однако в глазах дона Либорио, когда он смерил ненавидящим взглядом непокорного негра, сверкало не одно только бешенство – нет, в них читалось немалое удивление и в то же время тревожная настороженность и страх, да, страх, потому что вид у Хулиана был явно угрожающий, а между тем и он и почти все остальные рабы, находившиеся там, были вооружены – кто коротким мачете, кто садовым ножом, кто мотыгой. Управляющий понял, что поступил несколько опрометчиво и что, если он в эту критическую минуту выкажет малейшую слабость, – он погиб. Тогда, скрывая страх за напускной уверенностью тона, он заорал еще свирепей:
– Ты что ж это стоишь, паршивец? Не тебе сказано, что ли? Ишь, руки сложил! А ну, берись!..
За сим последовало одно из любимых ругательств дона Либорио, употреблявшееся им обычно в качестве междометия. Одновременно на голову негра обрушился страшный удар рукоятью бича. Хулиан зашатался и точно подкошенный повалился на колени рядом с Томасой. Но даже и теперь, сбитый с ног, беспомощный, он, по-видимому, не думал повиноваться управляющему. А дон Либорио, боясь, как бы негр не поднялся, когда придет в себя, потребовал:
– Держи ее, стерву, за ногу, да покрепче, а не то шкуру с тебя спущу! – И в поощрение он снова ударил Хулиана рукояткой бича по голове.
Этот второй удар едва ли был сильнее первого, но пришелся он, видимо, по такому месту, где курчавые шерстистые волосы недостаточно хорошо защищали череп, и кровь ручьем хлынула из длинной, точно лезвием ножа нанесенной раны. Хулиан ощупью нашел ногу девушки, положил раскрытую ладонь ей на лодыжку, и… экзекуция началась.
Человека менее грубого, менее ослепленного злобой и предубежденного, чем дон Либорио, поразило бы столь необычное в подобных обстоятельствах поведение раба, и всякий на его месте, в ком бьется благородное, великодушное сердце, проникся бы, наверное, уважением к этому негру, во всяком случае сумел бы оценить его мужество и, разумеется, захотел бы узнать причину, пробудившую в груди Хулиана чувство, столь возвышенное и столь же достойное восхищения в этом полудикаре, как и в любом цивилизованном человеке.
Между тем имелись причины, вполне объяснявшие непокорство, выказанное молодым негром и негритянкой в этот час испытания. И весьма вероятно, что особенная свирепость, проявленная доном Либорио в отношении девушки и ее товарища, как раз тем и объяснялась, что управляющий начинал догадываться об этих причинах.
Молодая, крепкая, миловидная Томаса была одних лет с Хулианом, таким же молодым, сильным и статным, как она сама; их обоих вывезли из одной и той же области Африки, и они считали себя земляками, почти сородичами. Надо ли удивляться, что они полюбили друг друга?
Молодость Томасы, ее веселый прав и приятная наружность сделали ее любимицей не только соплеменников, но даже белых, работавших в инхенио, и потому сравнительно с другими она меньше чувствовала тяжесть рабской неволи и меньше, чем другие, имела оснований сетовать на свою судьбу. Что же все-таки побудило ее бежать? Догадаться нетрудно: она решилась на этот роковой шаг ради Хулиана, последовав за ним точно так же, как он последовал за Педро, своим крестным отцом, зачинщиком побега. Но этим участие Томасы в предприятии не ограничилось. Когда Педро был схвачен в лесу при описанных нами выше трагических обстоятельствах, Томаса убедила Хулиана возвратиться в Ла-Тинаху и через Каймана, который пользовался особым расположением доньи Росы, испросить у своих господ прощения.
В этот день дон Либорио был одет как обычно. Из-под полей соломенного сомбреро свисали ему на спину концы хлопчатобумажного платка, которым повязывал он голову, чтобы надежнее защитить ее от солнечных лучей. Поверх рубашки, надетой навыпуск, стан его опоясывала белая полотняная фаха, и за нее, как всегда, был заткнут кинжал, а сбоку на перевязи висел мачете. Опершись левой рукой на эфес кинжала, дон Либорио рукоятью бича завернул кверху подол платья Томасы, обнажив девушку почти до самого пояса, после чего отпустил конец сыромятной ременной плети, который до той минуты держал вместе с рукоятью зажатым в правой руке. Проделывал он все это с медлительной расстановкой и методическим спокойствием, как человек, которому торопиться некуда и который не хотел бы излишней поспешностью испортить предвкушаемое им изысканнейшее удовольствие.
Занималась заря, и ясный чистый свет ее широко разливался по восточному краю небосклона.
После первого же удара, нанесенного со всею ловкостью и силой, на какие способна рука, твердая как сталь и немало понаторевшая в подобного рода упражнениях, дон Либорио с удовольствием убедился, что стрекало – веревочный, завязанный в несколько узлов кончик бича, производящий при ударе особенный щелкающий звук, – прочертило на теле негритянки пепельную, тотчас же вздувшуюся полосу. За первым ударом последовал второй, а потом еще и еще, во все убыстрявшемся темпе, пока наконец мясо не полетело клочьями и из открытых ран не потекла кровь. Но ни единого стона, ни одной жалобы не вырвалось у девушки; она даже не шевельнулась ни разу и только вся напрягалась при каждом ударе, сжимая мышцы, да крепче закусывала губы.
Ярость управляющего постепенно улеглась, однако стоическое мужество молодой невольницы в значительной мере лишило дона Либорио того удовольствия, которое он предвкушал во время своих приготовлений к истязанию. Боль, это страшное ощущение, нестерпимое для всякого живого существа, не сломила девушку, как того добивался управляющий, не заставила ее просить пощады у своего мучителя. Несколько разочарованный и спеша закончить экзекуцию до восхода солнца, дон Либорио доверил наказание Хулиана и его товарищей надсмотрщикам, сам же удовольствовался тем, что, стоя рядом, покрикивал на них, зорко следя, чтобы они наносили удары с должною силой и не давали поблажки наказуемым ни из жалости, ни по какой-либо иной причине. После порки заставляли каждого наказанного тут же обмыть свои раны мочой, предварительно бросив в нее щепоть табаку. Средство это долженствовало уберечь несчастных от антонова огня и от столбняка.
Затем, по приказу управляющего, кузнецы заковали бежавших в кандалы, взятые для этой цели из кладовой дворецкого. Что касается Хулиана, который под плетьми несколько раз терял сознание, возможно, от боли, а возможно – и от потери крови, то дон Либорио счел за благо отправить его в барак для больных, так как рана, нанесенная рукоятью бича, несомненно требовала вмешательства лекаря. Прочих же наказанных, которым теперь, после зверского истязания, мучителен был в оковах каждый шаг, дон Либорио отправил наравне со всеми расчищать и разравнивать дороги вокруг усадьбы – работу эту он наметил на сегодняшний день еще заранее.
– Кандидо, а Кандидо! – проговорила, просыпаясь, донья Роса. – Слышишь? На дворе… Ведь это, кажется, бич щелкает? Раненько поднялся нынче наш управляющий!
Дон Кандидо спал крепким сном; и хотя в утренней тишине музыка щелкающего бича звучала особенно громко и разносилась далеко вокруг, тем более что управляющий вкладывал в каждый удар всю свою силу, дон Кандидо все же едва ли проснулся бы, не раздайся голос жены у него над самым ухом. Открыв глаза и зевнув, дон Кандидо ответил на ее вопрос также вопросом:
– Что такое, дорогая? Что щелкает?
– Бич управляющего. Можно подумать, что ты оглох.
– Ага, верно. Теперь и я, кажется, слышу. Ну так что же? Он порет негров.
– Восхищаюсь твоим хладнокровном. Не говоря уже обо всем прочем, он разбудил нас ни свет ни заря. А я теперь по его милости должна целый день мучиться мигренью. Все нервы он мне издергал, хам проклятый! А главное – то, что он, видно, с нами нисколько не считается. Рожа-то у него – ни дать ни взять разбойник с большой дороги. Я тебе всегда говорила, что он мне не нравится!








