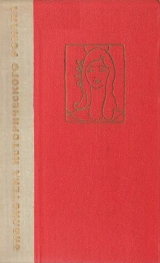
Текст книги "Сесилия Вальдес, или Холм Ангела"
Автор книги: Сирило Вильяверде
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 41 страниц)
…Проклятые старухи,
Что забивают головы девчонкам
Рассказами о всякой чепухе.
Соррилья
Стараясь задобрить бабушку объятиями и поцелуями, нежно называя ее ласковым именем Чепилья, то есть искаженным уменьшительным от имени Хосефа, как обычно все и называли ее, Сесилия действовала с лукавством, которое едва ли можно было заподозрить в столь юном создании. Но и этой невинной хитрости оказалось довольно, чтобы Хосефа сменила гнев на милость. И не удивительно: как мы увидим дальше, старая женщина была так несчастлива и так нуждалась в любви единственного в мире близкого существа, что сохранять далее суровый тон в беседе с внучкой означало бы для нее то же, что подвергать себя пытке. Разумеется, она тут же ответила на ласку поцелуем, и взгляд, который она устремила на девочку, был совершенно такой же, как несколько минут назад, когда она всматривалась в светлый лик девы Марии, обращая к ней горячую молитву.
Девочка прильнула к Хосефе, обвила ее своими гибкими руками и замерла, склонив красивую головку к ней на грудь; в эту минуту она походила на цветок, нечаянно распустившийся на засохшем старом дереве и всею прелестью своих лепестков и аромата утверждающий жизнь там, где, казалось, торжествует смерть; и рядом с ней еще несуразней и уродливей выглядела старая Хосефа. Было в старухе что-то нескладное, точно голову ее приставили к чужому телу. То ли потому, что Хосефа имела привычку зачесывать волосы назад, то ли потому, что так уж устроила природа, но только лоб у старухи казался непомерно широким, нос – чересчур большим и бесформенным, подбородок – не в меру острым, а глаза – слишком глубоко запавшими. Все это придавало лицу ее неприятное выражение, не ускользавшее от сколько-нибудь внимательного наблюдателя. Руки ее, правда, еще сохранили изящество, а кисти можно было даже назвать красивыми. Однако самым примечательным в ее лице был проникновенный взгляд больших темных глаз – единственное, пожалуй, что уцелело от ее былой красоты, погубленной преждевременной старостью.
Цвет лица этой женщины, истинной мулатки, отливал медью, а с годами, когда у нее появились морщины, она стала еще более смуглой «чумазой», как принято неучтиво выражаться на Кубе о внешности того, кто происходит от негритянки и мулата или наоборот. Ей было под шестьдесят лет, но она выглядела старше, ибо волосы у нее поседели, что обычно у цветных случается позже, чем у белых. Душевные страдания губительнее отражаются на лице, чем на бренном теле человека. Как мы увидим дальше, только христианское смирение и долгие часы молитвы, когда она с глубокой верой и упованием обращалась к богу, поддерживали ее душу и давали ей силу сносить самые тяжкие удары судьбы. Как и всякий, кто способен окинуть взором минувшее и заглянуть в будущее, сенья Хосефа с горечью отдавала себе отчет в том, чего ей следует и чего она вправе ожидать от своей внучки – этого прекрасного цветка, выброшенного на улицу, где его мог растоптать любой прохожий. И вот теперь, терзаемая упреками совести за прошлое, она поняла, что отныне ей надо научиться смирять свое недовольство, потому что настало время смягчить гнев незримого судьи, дабы она могла спокойна встретить свой смертный час.
Но если бы ко времени нашего повествования ей исполнились все восемьдесят лет, то и тогда, в свои последние минуты, она считала бы, что умирает слишком рано, потому, что оставляет внучку свою одинокой и беззащитной в этом мире, и потому, что уходит, так и не дождавшись развязки той драмы, в которой она, Хосефа, сыграла, помимо своего желания, немалую, хотя и не главную роль. Сенья Хосефа была по природе вспыльчива, но она мирилась с непослушанием ребенка, полагая, что кротость зачтется ей во искупление былой вины. Легко понять поэтому, что она хоть и сердилась на Сесилию за столь позднее возвращение, как, впрочем, и за многие другие ее провинности, но была настроена скорее простить девочку, нежели разбранить ее. И когда та без робости подбежала к ней и стала ластиться, этого оказалось достаточно, чтобы Хосефа окончательно утвердилась в своих миролюбивых намерениях. Выражение строгости исчезло с ее лица, и совсем другим тоном она спросила внучку, где та была.
– Где была? – переспросила девочка, опираясь локтями о бабушкины колени и играя лентами скапулярия [7]7
Скапулярий —два куска освященной материи, связанные лентами.
[Закрыть], висевшими у старухи на шее. – Была у одних сеньорит. Ах, какие они хорошенькие! Они меня увидели, когда я бежала по улице, и позвали к себе домой. Там еще была сеньора, такая толстая, важная; она сидела в кресле и спрашивала меня, как меня зовут, да как зовут маму, да кто мой папа, и где я живу…
– Господи Иисусе! – воскликнула сенья Хосефа, крестясь.
– Ага! – продолжала девочка, не обращая внимания на восклицание старухи. – До чего ж любопытные! А уж выдумщицы! Одна так даже захотела мне волосы остричь, качучу [8]8
Качуча– здесь: род прически.
[Закрыть]сделать. Да, да, бабушка! Но только я не далась!
– Вот ведь на что лукавый-то подбивает! Ах ты господи! – словно бы про себя воскликнула Хосефа.
– А еще там был один сеньор, – продолжала Сесилия, – он лежал на диване и все бранил сеньорит, зачем они со мной играют; а потом – как рассердится! Встал и ушел в другую комнату!.. Бабушка, милая, кто он такой? Я однажды видела, как он с вами разговаривал, когда мы ходили в церковь святой Паулы. Да, да, это он, я не обозналась. Он самый! Это он меня всегда обзывает бродягой, когда встречает на улице, и еще говорит, что я бездельница и распутная, и ругает по-всякому. Это еще что! Он грозится, что пришлет солдат, и меня схватят и уведут в тюрьму. Он много кое-чего говорит, разве все перескажешь? Боюсь я его, бабушка! Уж очень он, видно, браниться любит…
– Ах, девочка моя! – молвила вдруг глухим голосом Хосефа и слегка отстранила от себя Сесилию, как-то странно и пристально посмотрев на нее; лицо старухи выражало скорее досаду, нежели удивление. Казалось, какая-то тягостная мысль или горькое воспоминание вдруг ожили в ее голове, и она колебалась, не зная, то ли ей выбранить внучку, то ли предостеречь ее, ибо она страшилась приоткрыть перед нею то, что для девочки должно было навсегда остаться тайной. Тысячи сомнений боролись в эту минуту в истерзанной печалью душе старой Хосефы, и, едва заговорив, она, к удивлению Сесилии, умолкла. Но постепенно тревога старухи улеглась, и тучи, скопившиеся на этом мрачном от природы горизонте, одна за другой рассеялись. Сенья Хосефа снова обняла девочку и со всей нежностью, какую она могла только придать своему хриплому голосу, стараясь казаться как можно более спокойной, добавила: – Сесилия, детка моя, не ходи больше в этот дом.
– Почему, бабушка?
– А потому, – отвечала ей Хосефа, словно думая о чем-то другом, – потому что я не знаю, дитя мое, как тебе и сказать… и не могу, если бы даже захотела… Но по всему видно: это очень плохие люди.
– Плохие? – недоуменно воскликнула Сесилия. – Но ведь они такие ласковые и дали мне столько сластей и атласу для башмачков.
– Не верь им, детка! Ты слишком доверчива, в этом вся и беда. Они тебя улещают, а ты им не верь, гляди в оба. Они ведь хотели заманить тебя, а там, глядишь, и дурное что сделать. Трудно сказать, на что нынче люди способны. Теперь такое творится, чего в мое время никто и не видывал… Скорее всего хотели тебя заговорить, а после взять ножницы – раз! – и вмиг твоих волос, как не бывало. Вот жалость-то была бы! Уж до чего хороши они у тебя! Да и волосы-то эти не твои, а принадлежат мадонне: она спасла тебя от тяжелой болезни… Вспомни-ка! Разве я тогда не обещала, если ты поправишься, отдать твои волосы для украшения ее статуи в церкви святой Екатерины? Не верь им, не верь, слышишь?
Говоря так, она обеими руками обхватила голову внучки, и густые волосы Сесилии рассыпались по спине и по плечам.
– Коли я такая глупая, – молвила девочка, подняв голову и поджав губы с выражением обиды, – ну и поделом мне, пусть меня обманывают, пусть!
– Не надо так говорить, бережного и бог бережет. Я знаю, ты у меня послушная и умница, но только ты еще таких худых людей не видела. Забудь о них. Да пусть они хоть охрипнут, звавши тебя, – не ходи к ним. Послушайся, дитятко, моего совета, держись от них подале. Да еще этот сеньор… Сама же ты говоришь, что он всегда бранит тебя, где бы ни встретил. Бог его знает, кто он такой. Хоть и негоже ни о ком плохо думать, да ведь есть святые, а есть и… – Тут она перекрестилась, не договорив. – Да сохранит нас господь бог! А ты, Сесилия, совсем еще дитя, да и безрассудства в тебе много, а ведь у них в доме… Неужто ты не слыхала? Там ведьма живет, и как приглянется ей хорошенькая девочка, сразу к себе тащит – ты просто чудом оттуда спаслась… Ты там ведь вечером была?
– Да, под вечер, в домах еще огней не зажигали.
– Твое счастье! А вот попади ты к ним ночью, не миновать бы тебе беды! И чтобы больше ты в этот дом ни ногой, слышишь? Даже мимо него не прохаживайся!
– Бабушка, а у них там еще мальчик есть взрослый, я всегда вижу его у церкви святой Терезы с книгой под мышкой. И как только он меня заметит, сразу норовит остановить – и ну меня догонять, и даже как звать знает.
– Он – школяр! Все они на один лад, непутевые. А он не иначе как у самого черта в лапах побывал. Но, вижу я, голова у тебя упрямая, страх как упрямая, и тебе что говори, что нет – все равно толку никакого! Да где ж это видано, чтобы такая красавица, как ты, вдруг с нечесаной головой, в рваных туфлях шаталась по улице до поздней ночи? И у кого ты только этому научилась? Ну, что ты меня не слушаешь?
– Но ведь Немесия, сестра сеньо [9]9
Сеньó– разговорная форма от слова «сеньор».
[Закрыть]Пимьенты, музыканта, тоже раньше десяти часов вечера домой не уходит! Вчера только я ее встретила на площади Кристо, когда она играла с мальчишками.
– Так вот оно что! Ты хочешь быть похожей на сестру Пимьенты, на эту невоспитанную оборванку, на уличную девчонку? Вот посмотришь, принесут когда-нибудь домой эту бесноватую с пробитым черепом. Козу, девочка, всегда в горы тянет. В твоих жилах течет благородная кровь, не то что у нее. Твой отец – белый кабальеро, и почем знать, может и ты разбогатеешь и будешь ездить в карете! А Немесия чем была, тем и останется. Коли она и выйдет замуж, то за такого же мулата, как сама: отец-то у нее почти совсем черный. Разве можно ее с тобой равнять! Ведь ты почти совсем белая, и никто не удивится, если ты выйдешь замуж за белого. А почему бы и нет? Мы такие же божьи создания, как и они. Запомни хорошенько: белый, хоть и бедный, все в мужья годится; а с негром и мулатом ни за какие сокровища не связывайся. Я это по себе знаю – ведь я два раза замужем была… Да что там прошлое вспоминать… А вот кабы ты знала, что с одной девочкой случилось твоих же лет, и все потому, что бабушки своей не слушалась… А бабушка ей, поди, не раз предсказывала, что добром оно не кончится, коли она будет бегать поздно по улицам…
– Расскажи мне про нее, Ченилья, расскажи! – затормошила старуху девочка.
– Так вот, значит, была темная-претемная ночь, дул сильный ветер, как всегда в канун святого Варфоломея. А в праздник этот, как я тебе сказывала, дьявол уже с трех часов дня за работу берется. Девочка эта – звали ее Нарсиса – сидела у своего домика на каменной приступочке и напевала про себя песенку, а бабушка ее молилась в комнате, в уголке у окна… Это я как сейчас помню. Вот, значит, зазвонили в церкви Святого духа. А фонари на улицах в эту пору все от ветра погасли, да их немного и было; и так-то сделалось кругом тихо, нигде ни души, а темно, что у волка в пасти. Ну вот, стало быть, девочка эта про себя напевала, а бабушка молилась, перебирая четки. И вот послышалось вдруг, словно кто на скрипке заиграл – знаешь, там, где поворот к Холму Ангела. А Нарсисе почудилась еще, будто бы там танцуют, и она, не спросясь у бабушки, не сказав ни словечка, вскочила и побежала к Холму, стало быть. Бабушка, окончив молитву, заперла дверь – она ведь думала, что внучка, как всегда, уже в постели.
– И оставила бедняжку на улице? – со страхом и жалостью воскликнула Сесилия, перебивая рассказчицу.
– Вот увидишь. Было уже поздно, и бабушке хотелось спать, но, прежде чем лечь, она взяла свечу и подошла к внучкиной кровати посмотреть, спит ли девочка. Подумай только, что с ней было, когда она увидела пустую постель! Она ведь так любила внучку! Кинулась старушка к дверям, распахнула их и стала громко звать: «Нарсиса! Нарсиса!», но Нарсиса не откликалась. Да и как могла она ответить, бедняжка, когда ее дьявол унес!
– Как же так?! – спросила не на шутку перепуганная Сесилия.
– Погоди, узнаешь, – спокойно продолжала сенья Чена, заметив, что ее рассказ произвел должное впечатление. – Так вот, значит, когда Нарсиса подошла к пятиугольной башне на Холме Ангела, она увидела молодого человека, который спросил ее вежливо, куда она идет в такой поздний час. А Нарсиса, дурочка, ему и отвечает: «Хочу на танцы взглянуть». – «Тогда я тебя провожу», – сказал молодой человек, взял ее под руку и повел к городской стене. Было уже совсем темно, но Нарсиса все же заметила, что чем дальше они шли, тем чернее становился незнакомец. Наконец сделался он черным, как уголь, волосы на голове встали дыбом, что твои шилья, и как засмеется он – так клыки у него, как у кабана дикого, наружу торчат; на лбу рога выросли, по земле сзади мохнатый хвост волочится, изо рта огонь пышет, словно из печи у хлебопека. Тут Нарсиса как закричит от страха и рванулась, чтоб убежать, да поздно: черный этот своими когтями ее за горло схватил, чтобы она не кричала, взлетел с нею на башню Ангела, а на башне этой, ты, наверно, видела, креста-то нет – с нее-то вот он и сбросил Нарсису вниз… и в земле разверзлась глубокая страшная пропасть и в один миг поглотила бедняжку. Вот что, голубушка, случается с девочками, когда они не слушаются старших, – закончила свой рассказ сенья Хосефа.
Удивленная и испуганная Сесилия дрожала с ног до головы, так что зуб на зуб не попадал, но сон уже одолевал ее; пересиливая страх, зевая и спотыкаясь, она кое-как добралась до постели и тотчас уснула, чему бабка была очень рада.
Множество подобных сказок рассказывала Хосефа своей внучке. Однако мы уверены, что толку от этих россказней не было никакого: они лишь порождали в уме девочки всякого рода ужасы и суеверия, которые, однако ж, не удерживали Сесилию от проказ. Частенько она выпрыгивала из окна, а иной раз, пользуясь тем, что ее послали на угол в таверну, бродила по улицам и площадям, то приплясывая в такт танцевальной музыке, шагая под барабанный бой при смене караула; порою она шла за похоронными дрогами или же, увязавшись за целой ватагой мальчишек, ловила с ними на лету монеты, которые во время крестин обычно бросают в толпу.
Глава 4Они бесстыдства не скрывают
И, предаваясь мыслям дерзким,
В речах своих разврат открыто славят
И самый воздух оскверняют
Признаньем нарочито мерзким.
Гонсалес Карвахаль
Спустя пять-шесть лет после описанных здесь событий в конце октября началась пора ярмарок, устраиваемых монастырем Милосердия. Вплоть до 1832 года на Кубе ярмарками обычно отмечали престольные праздники в честь святых, именем которых назывались церкви и монастыри. Эти празднества, называвшиеся девятинами, совпадали иногда с крестным ходом – обрядом, который был введен на Кубе в первые годы XIX века епископом Эспада-и-Ландой.
Кстати сказать, девятины начинались за девять дней до праздника святого покровителя и продолжались еще девять дней после него, так что церковные и светские торжества отмечались восемнадцать дней кряду, и тут зачастую уродливо-смешное и дерзостное преобладало над благочестивым и назидательным. В эту пору по утрам бывала праздничная месса с проповедью, по вечерам в церкви пели псалмы деве Марии, а в день святого, вдобавок ко всему, по улицам двигались процессии.
Помимо храмового праздника, на Кубе устраивалось и то, что носило название ярмарки: на небольшой площади перед храмом и на смежных с нею улицах устанавливали множество дощатых передвижных лотков, закрытых тентом и освещенных одной-двумя сальными свечами. На этих лотках вы бы не увидели, разумеется, ни зелени, ни овощей, ни дичи, ни мяса, ни птицы; изделия промыслов и ремесел также не были здесь представлены, зато тут торговали дешевыми безделушками, всевозможными сластями, пирогами, миндальным тестом, глазированными фигурками, лохской водой [10]10
Лохская вода– прохладительный напиток, приготовленный с сахаром, медом, корицей, гвоздикой и другими пряностями.
[Закрыть]и молочным пуншем. Все это мало походило на ярмарку в прямом смысле слова.
Но самой примечательной чертой наших престольных праздников было, несомненно, не это. Среди зрелища ярмарочной суеты бросалась в глаза картина, поражавшая взор наблюдателя своей грубостью и бесстыдством. Азартные карточные игры, которым мы частенько предаемся и теперь, бывали неотъемлемой частью ярмарочных увеселений и разжигали алчность у легковерных людей, суля им огромные, хотя и обманчивые выигрыши. Устроителями карточной игры и зазывалами в большинстве случаев являлись мулаты и люди низкого происхождения. Как ни грубы были их уловки, на них все же попадались многие из тех, кто почитал себя весьма благоразумным. Игры происходили обычно где-нибудь на небольшой площади или на улице при тусклом свете свечей или бумажных фонарей, и в них участвовали люди разных званий и сословий, мужчины и женщины любого возраста. Для лиц, занимавших высокое положение в обществе – короче говоря, для белых, – все обставлялось несколько более благопристойно. Снималось помещение для танцев, где какие-нибудь Фарруко, Брито, Ильясы и маркизы де Каса-Кальво могли с раннего вечера до поздней ночи метать банк или играть в монте [11]11
Монте– азартная карточная игра.
[Закрыть]. И так продолжалось восемнадцать дней, от начала ярмарки и до конца.
Обычно эти помещения для танцев выбирались как можно ближе к церкви или к монастырю, в котором отмечались девятины. В столовой гремел оркестр, в зале танцевали, а в патио шла игра в монте. Длинный и узкий карточный стол устанавливали так, чтобы по обеим его сторонам можно было поместить как можно больше народу. На одном конце располагался банкомет, а на другом – крупье, его помощник. На случай дождя – а осенью это нередкое явление – над патио меж; зданием, где устраивались танцы, и глинобитной стеной соседнего дома натягивался специальный парусиновый навес, служивший защитой для играющих. К стыду нашему следует сказать, что в числе игроков бывали не только степенные представители сильного пола и не одни миряне. Среди людей, которые, сгрудившись у столов, словно одержимые, ставили на карту, быть может, благополучие семьи, честь супруги, дочери или сестры, вы подчас увидели бы и даму, забывшую за игрой свое достоинство, и безусого юнца, и жадного монаха в затрапезной, соломенного цвета рясе, и нахлобученной на самые брови широкополой шляпе. Придерживая четки большим и указательным пальцами левой руки, он правой ставил на карту золотые или серебряные монеты и с невозмутимым спокойствием мог и проиграть и сорвать крупный куш.
Все расходы по найму помещения и оркестра нес банкомет (назовем его так для приличия), он же платил за спермацетовые свечи, которыми освещались танцевальный зал, столовая и игорный стол. И все это делалось, чтобы привлечь побольше игроков. Вход был, разумеется, свободным, хотя распорядитель танцев, состоявший на жалованье, пропускал далеко не всех. В те времена мелких серебряных монет не хватало, но зато в большом ходу была крупная валюта – испанские дуро и золотые унции. И послушать бы только, какой звон стоял от этих «двухколонных» песо [12]12
«Двухколонное» песо– старинная американская монета, на обратной стороне которой были изображены две колонны с надписью: «plus ultra».
[Закрыть]и тяжелых унций, когда игроки машинально пересыпали их из одной руки в другую, словно желая отвлечься от мрачных мыслей и хоть немного нарушить торжественную тишину, царившую за игрой.
Описанные здесь азартные игры отнюдь не запрещались; во всяком случае, местные власти относились к ним терпимо: как известно, игорные дома на Кубе платили правительству налог, который шел якобы на благотворительные цели. Чего же более? Открытая игра в монте, процветавшая по всей Кубе, особенно при губернаторе доне Франсиско Дионисио Вивесе, не оставляет сомнения в том, что он и его чиновники в своей политике руководствовались макиавеллиевским принципом: «подкупай и властвуй», подражая знаменитому девизу римского правителя: «divide et impera» [13]13
Разделяй и властвуй (лат.).
[Закрыть]. Чтобы народ не замечал своей нищеты и своего ничтожества, надо было подкупить его, иначе говоря – растлить его душу.
Однако мы, кажется, уклонились от главной нити повествования, хотя полагаем, что это и небесполезно.
Между тем мы имели в виду описать читателю простонародный бал, который происходил однажды на самой окраине, в южной части города. Дом, где празднество это было устроено, выглядел убого – не столько из-за своего грязного и покосившегося фасада, сколько потому, что стоял он неподалеку от крепостной стены, в самом низу сбегавшей сюда каменистой улочки, а по соседству с ним высилось здание игорного дома Сан-Хосе. Передней в том смысле, в каком обычно понимают у нас это слово, в доме не было, так как широкая двойная дверь вела с улицы прямо в зал. Далее шла столовая с обычным поставцом пирамидальной формы из кедрового дерева, из-за узеньких занавесок которого виднелись фильтровальный камень, пузатый, расписного фаянса кувшин, посуда из ароматической глины – своеобразной терракоты – и пористые глиняные сосуды блеклых тонов, изготовленные в Испании валенсианскими мастерами.
Из столовой боковая дверь вела в своеобразную гостиную, служившую также и спальней; большая часть этого помещения была занята двумя рядами кресел, обитых красной кожей. Здесь же находилась кровать с белым муслиновым пологом и шкаф, который в Гаване называют эскапарате [14]14
Эскапарате– шкаф со стеклянными дверцами.
[Закрыть]. Остальные комнаты, обставленные простой мебелью, шли анфиладой параллельно длинному и узкому двору, частично загороженному высоким срубом колодца с солоноватой водой, которой пользовались и соседи; комнаты и двор замыкались небольшим открытым поперечным залом.
Здесь стоял средних размеров стол, накрытый примерно на десять персон. На нем были расставлены прохладительные напитки и легкие закуски, лохская вода и лимонад, сладкие вина, варенье, сдобные сухари, безе, меренги. Были тут и окорок, разукрашенный вырезанными из бумаги кружевами, и большая рыба, плавающая в густом остром соусе. По стенам комнаты стояли в ряд простые стулья, а справа от входа с улицы находился диван, и перед ним было расставлено несколько пюпитров. В ту минуту, когда мы начинаем наш рассказ, на диване сидело семеро музыкантов – негров и мулатов: три скрипача, контрабасист, флейтист и два литаврщика. Подле дивана, с той стороны, что была ближе к входной двери, стоял кларнетист – молодой, ладно сложенный мулат приятной наружности; он-то и был, несмотря на молодость, дирижером оркестра.
Оркестранты, почти все старше своего дирижера по возрасту, называли его Пимьентой [15]15
Пимьента(pimienta) – по-испански перец.
[Закрыть]. Трудно сказать, было это прозвищем или настоящей фамилией, но и мы тоже будем впредь его так называть. Глядя как-то рассеянно и мрачно, он не сводил глаз с входной двери, словно ожидая кого-то.
Толпа, состоявшая из людей всех сословий, теснилась у окна и перед входной дверью, не давая пройти в зал ни женщинам, ни мужчинам, даже имевшим на то право или просто желавшим проникнуть внутрь. Мы потому упоминаем о желавших проникнуть внутрь, что при входе ни у кого не спрашивали билетов; не было тут и распорядителя, который мог бы встретить гостей или усадить их на место. Этот бал, один из тех, которые в Гаване неизвестно почему назывались кунами [16]16
Буквальные значения испанского слова «куна» (cuna) – колыбель, ясли, воспитательный дом; переносные – семья, родина.
[Закрыть], был обычным увеселением в дни ярмарки. Цветные мужчины и женщины могли свободно приходить сюда, однако и белым молодым людям вход не возбранялся, и они иногда своим присутствием оказывали честь этим балам. Однако если празднество, о котором мы здесь рассказывали, и можно было назвать куной в широком значении этого слова, то хорошая закуска, приготовленная на столе в зале, несомненно свидетельствовала о том, что по крайней мере часть гостей была приглашена заранее или рассчитывала на радушный прием, явившись на бал. Так оно и было на самом деле. Хозяйка дома, богатая гостеприимная мулатка Мерседес, праздновала свои именины в кругу близких друзей. Однако двери своего дома она широко раскрыла для всех любителей повеселиться, которые могли придать этому празднику еще больше блеска и заманчивости.
Было около восьми часов вечера. В этот день после полудня первый осенний ливень неоднократно обрушивал на город свои потоки, и хотя к наступлению сумерек дождь и прекратился, основательно промочив землю и сделав улицы непроходимыми из-за грязи, воздух все же свежее не стал. Напротив того, он пропитался сыростью, которая липла к телу, казалось проникая в самые поры. Но это не смутило любопытных, которые, как уже было сказано, осаждали дверь и окно дома, запрудив добрую половину узкой и кривой улочки; не смутило это и приглашенных, которые с наступлением вечера стали съезжаться все дружнее: кто шел пешком, кто ехал в экипаже. К девяти часам бальный зал стал походить на человеческий муравейник – женщины сидели на стульях, расставленных полукругом вдоль стен, а посередине стояли мужчины, все в шляпах, образуя собою довольно тесную группу. Тот, кто был повыше ростом, мог свободно задеть головой стеклянный фонарь, подвешенный на трех медных цепочках к потолочной балке; в фонаре горела одна-единственная спермацетовая свеча, скудно освещавшая эту странную и разношерстную толпу.
В числе гостей находилось довольно много негритянок и мулаток, разодетых, за редким исключением, весьма пестро. Одежда мужчин, которых здесь было больше, чем женщин, также не отличалась изысканным вкусом, хотя почти все они щеголяли в суконных сюртуках, пикейных жилетах и суконных шляпах и лишь немногие явились в обычном наряде того времени – полотняных или тиковых куртках. На бал приехали и юноши-креолы из солидных, зажиточных семей. Они держали себя с цветными непринужденно и участвовали почти во всех принятых в ту пору развлечениях – одни ради удовольствия, другие же из менее благородных побуждений. Некоторые из этих молодых людей – таких, правда, было меньшинство – вели себя в танцевальном зале довольно развязно и, судя по тому, как запросто они заговаривали со своими цветными знакомыми и приятельницами, по-видимому, не слишком смущались присутствием женщин своего круга, стоявших на улице у окна и молча за ними наблюдавших.
Среди присутствовавших на балу молодых людей выделялся мужественной красотой и жизнерадостным настроением юноша, которого друзья называли Леонардо. На нем были панталоны из плотного тика и той же ткани куртка в светло-розовую полоску, белый пикейный жилет и шелковый шейный платок, концы которого, продетые спереди сквозь золотое колечко, свободно торчали наружу. Шляпа его была из пальмового волокна, такого тонкого, что казалась сделанной из батистового камбре [17]17
Камбре– дорогая материя, получившая название от одноименного города во Франции, который славится производством льняных и батистовых тканей.
[Закрыть]; шелковые телесного цвета чулки и открытые туфли с золотой пряжкой сбоку довершали его наряд. Еще одна золотая пряжка прикрепляла к жилету концы сложенной вдвое красно-белой муаровой ленты от часов, лежавших в кармане панталон. Был здесь и еще один человек, который выделялся в толпе, пожалуй, даже больше, чем Леонардо, хотя присутствующие относились к нему несколько иначе, чем к этому молодому человеку, да и сам он держался с ними совсем не так, как Леонардо: негров и мулатов он смешил грубыми шутками, а с женщинами, особенно с хозяйкой дома, позволял себе немалые вольности, Это был человек лет под сорок, безбородый и белолицый, с большими глазами, глядевшими как-то шало, с заметной краснотой на кончике длинного носа (изобличавшей в этом господние не слишком большого трезвенника) и с крупным выразительным ртом. В левой руке он всегда носил бамбуковую тросточку, украшенную золотым набалдашником и черными шелковыми кисточками. За ним неотступно, как тень, следовал некий субъект, чье лицо, весьма, впрочем, невзрачное, обращало на себя внимание узким лбом, бегающими красными глазками и огромными черными бакенбардами, которые придавали ему вид скорее разбойника, нежели альгвасила. Тем не менее он исполнял именно эту должность, а тот, кого он сопровождал, был не кто иной, как Канталапьедра, полицейский комиссар в квартале Ангела, с которым наш красноносый блюститель порядка охотно расставался ради того, чтобы посетить какое-нибудь соблазнительное сборище, вроде описываемой нами куны.

Оркестр уже давно играл то чувствительные, то бурные кубинские кадрили, а бал – да простят мне несколько избитое выражение – еще и не думал начинаться. Хозяйка дома хлопотала в гостиной, усаживая в кресла своих ближайших подруг – тех, что были постарше: отсюда, из этого спокойного убежища, где никто не толкал их и не наступал им на ноги, они могли наблюдать за всем происходящим, не теряя из виду тех, кто был для них предметом нежных забот и попечений и теперь веселился в зале вместе с прочей молодежью. Пимьента-кларнетист, который дирижировал оркестром, играл на своем любимом инструменте; он стоял вполоборота к двери и то и дело поглядывал на улицу, словно поджидая кого-то, кто еще не явился, но кто единственно был достоин музыки и кого дирижеру хотелось бы заметить первым. Такое беспокойство, однако, было напрасным: каждый входивший в зал, будь то мужчина или женщина, не упускал случая сказать кларнетисту мимоходом несколько любезных слов. Пимьента отвечал на все приветствия неизменным кивком головы, и только когда капитан Канталапьедра, со свойственной ему фамильярностью положив музыканту руку на плечо, сказал ему что-то на ухо, кларнетист, отняв инструмент от губ, ответил: «Должно быть так, господин капитан».
Следует заметить, что каждый раз, когда в зал входила женщина, чем-либо обращавшая на себя внимание, скрипачи, по-видимому желая ее почтить, начинали энергичнее водить смычками по струнам; флейты заливались так звонко, что ушам становилось больно, литавры гремели во всю свою мощь, контрабас, на котором, согнувшись дугой, играл Бриндис – будущая знаменитость, начинал издавать такие низкие звуки, что оставалось только изумляться, а кларнет выделывал свои самые мудреные и мелодичные фиоритуры. Бесспорно, все музыканты играли с вдохновением, ибо даже в исполнении такого небольшого оркестра кубинская кадриль звучала с неподдельным задором и грацией, сохраняя в полной мере и некоторое лукавство и глубокое чувство.








