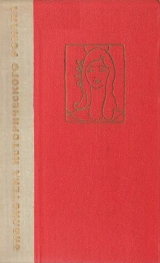
Текст книги "Сесилия Вальдес, или Холм Ангела"
Автор книги: Сирило Вильяверде
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 41 страниц)
Часть вторая
Глава 1Tarde venientibus ossa.
(Опоздавшим на пиршество – кости.)
Мы вынуждены ненадолго расстаться с нашими героями и заняться другими действующими лицами этой правдивой истории, которые играют здесь менее важную роль, но отнюдь не потому, что они сами по себе фигуры незначительные. Мы говорим сейчас о знаменитом кларнетисте Хосе Долорес Пимьенте.
Чтобы увидеть, как он сидит по-турецки с иглой в руке вместе с другими подмастерьями на низком дощатом настиле и обметывает темно-зеленый суконный сюртук, у которого пока еще отсутствуют и рукава и полы, нам придется зайти в портновскую мастерскую маэстро Урибе на улице Муралья через ту дверь, что ближе к улице Вильегас, – там еще есть по соседству галантерейная лавка «Под солнцем».
Портновская мастерская представляла собой квадратную комнату с тремя входами; один из них был самой обыкновенной широкой и высокой дверью, а два других представляли собою окна, с которых сняли решетки. Под окнами вдоль стены стоял длинный и узкий стол, на котором были разложены куски тика, пике, арабского полотна, легкой бумажной ткани, называемой кокильо, атласа и тонкого сукна. Все это, свернутое в штуки, было сложено на одном конце стола, а на противоположном лежали два полотнища маопской ткани, на которых серым мелком была расчерчена выкройка мужских панталон.
За другим столом, или прилавком, стоял сам Урибе, модный в ту пору мастер, у которого одевалась вся элегантная молодежь Гаваны. Он был без куртки, в белом переднике, завязанном на поясе; в правой руке у него были ножницы, а на шее висела сложенная вдвое бумажная лента с отверстиями, проколотыми на равном расстоянии одно от другого; ею мастер пользовался для снятия мерки. Даже и не желая этого, нельзя было не заметить, что портной обязан своим появлением на свет смешению черной и белой рас. Был он высок ростом, худощав, широкоскул, с непропорционально длинными руками; нос у него был приплюснутый, глаза навыкате, рот невелик, и в нем едва умещались широкие, кривые и редкие зубы. Толстые губы отливали синевой, а цвет лица напоминал светлую медь. Урибе носил короткие, как у священников, бакенбарды, редкие и вьющиеся; волосы у него тоже вились, но были несколько гуще бакенбард и торчали кверху вихрами, придавая его голове тот же вид, который приписывается в мифологии Медузе – Горгоне.
Будучи портным, задававшим тон моде, Урибе носил нанковые в обтяжку панталоны, которые сужались в нижней части и у которых не было ни обязательных в ту пору кожаных штрипок, ни клапанов. Вместо обычных в те времена остроносых туфель он носил мягкие шлепанцы из кордовской кожи, которые выставляли напоказ отнюдь не маленькие и далеко не изящные ноги, ибо на больших пальцах чрезмерно выдавались подагрические шишки, а подъем был еле заметен. Но если внешность Урибе мало говорила в его пользу, то он, несомненно, выделялся среди всех портных своей отменной любезностью, чрезвычайной обходительностью и, уж конечно, был превосходным закройщиком. Женат маэстро был на такой же смуглой, как и он сам, мулатке, высокой, толстой и развязной женщине, которая предпочитала, по крайней мере дома, ходить без чулок в атласных шлепанцах и обнажать спину и покатые лоснящиеся плечи больше, чем то допускалось правилами приличия.
Стоял один из последних дней октября; было уже далеко за полдень. По узкой улице Муралья – пожалуй, самой оживленной во всем городе, ибо она находится в центре и на ней расположены всевозможные лавки, – катились в обе стороны экипажи, тележки и повозки.
Внутри домов, открытых любому ветру, стоял непрерывный гул от стука колес и топота копыт по мостовой. Нередко экипажи сталкивались друг с другом и надолго загромождали проезд. В подобных случаях грохот экипажей сменялся криками и проклятиями возниц и кучеров, нимало не стеснявшихся присутствием дам. Пешеходу, если он не хотел быть растоптанным лошадьми или прижатым к стене дома торчащими ступицами колес, приходилось укрываться в лавках, ожидая, пока не освободится дорога.
В тот вечер, о котором мы сейчас рассказываем, произошло одно из таких нередких столкновений между ехавшим вниз по улице китрином, в котором находились три сеньориты, и поднимавшейся вверх телегой, нагруженной двумя ящиками сахара. От резкого удара ступиц одна о другую колесо телеги подняло колесо экипажа и врезалось осью в его спицы, сломав одну из них. От толчка и китрин и телега стали почти что поперек улицы, причем задок экипажа оказался у самой двери в портновскую Урибе, куда просунулась также голова мула, впряженного в телегу. Возница, который сидел бочком на одном из ящиков с сахаром, держа плеть в правой руке, потерял равновесие и грохнулся прямо в грязь на камни мостовом.
И возница-негр и кучер-мулат, вместо того чтобы быстро подойти к своим повозкам, растащить их и расчистить проезд, ослепленные бешеной злобой, набросились с чудовищными проклятиями и оскорблениями друг на друга. Не думайте, что они были знакомы или, поссорившись ранее, горели мщением за прошлые обиды, – ничуть не бывало: это были просто-напросто два постоянно притесняемых и избиваемых своими хозяевами раба, которые не имели ни времени, ни возможности дать выход своим страстям; они бессознательно питали друг к другу смертельную ненависть и теперь только предавались охватившему их гневу при первом к тому поводе. Напрасно сидевшие в китрине перепуганные сеньориты принялись кричать, а старшая из них раза два-три пригрозила кучеру, что он будет жестоко наказан, если не прекратит потасовки и не уймет разгорячившихся лошадей. Оба противника, ослепленные яростью и градом ударов, которыми они осыпали друг друга, ничего не слышали. Привлеченные дракой, из дверей своих лавок стали выглядывать хозяева-испанцы, а из портняжной – подмастерья; все они, высыпав на улицу без пиджаков, гиканьем и хохотом выражали восторг, чем еще больше усиливали шум и смятение.
Тем временем какой-то явно подозрительный субъект, сделав вид, что он сторонится экипажа, вошел в одну из дверей портновской мастерской. Выйдя тут же из другой двери, он протянул через опущенный верх китрина руку и вытащил из волос самой молодой сеньориты черепаховый гребень. От этого ее длинная и густая коса расплелась, и волны шелковистых волос, блестящих словно крылья редкостной птицы, рассыпались по плечам. Девушка вскрикнула и схватилась обеими руками за голову, Хосе Долорес Пимьента, который, как и все прочие, был дотоле лишь простым наблюдателем, внезапно преобразился: у него вырвался возглас удивления, и, с именем «бронзовой мадонны» на устах, он бросился вслед за мошенником, вернее – вслед за добычей, которую тот с торжествующим видом уносил с собой. Пимьенте удалось вырвать у вора похищенную вещь, но так как это был хрупкий, тонкой резьбы черепаховый гребень, то он разломался у него в руках на куски; и Пимьента смог возвратить огорченной и напуганной владелице только его осколки. Воспользовавшись суматохой, жулик сумел скрыться, тем более что никто, кроме нашего подмастерья, не придал значения этому эпизоду. Однако восклицание Пимьенты и его великодушный поступок привлекли внимание Урибе, тогда как для большинства зевак зрелище это было лишь простым развлечением. Повернувшись к подмастерью, он сказал:
– Ты никак спятил? Неужто ты и эту принял за Сесилию Вальдес? Ей-ей, она мерещится тебе.
– Вовсе нет, – сухо ответил Хосе Долорес. – Я знаю, что делаю: это сестры кабальеро Гамбоа.
– Так бы и сказал! – воскликнул, в свою очередь, Урибе. – Я давно хотел увидеть их. Действительно, они очень похожи на него. Пусть попробуют сказать, что они не его сестры. Ты прав, Хосе, нельзя давать в обиду сестер одного из моих самых щедрых клиентов! Этого еще не хватало!..
В конце концов хозяину портняжной, его подмастерьям и прочим мужчинам удалось разнять дерущихся и расцепить колеса китрина и телеги, после чего каждый из противников смог продолжать свой путь. Кровавые следы от ударов кучерской плети остались на голубой полосатой рубашке возницы, на спине же кучера, возможно, потому, что она была защищена суконной ливреей, никаких следов драки разглядеть было нельзя.
Как только раздоры в стане Аграманта [44]44
Аграмант– вождь сарацинов в поэме Лодовико Ариосто «Неистовый Роланд.
[Закрыть]прекратились и маэстро вернулся к закройному столу, а подмастерья к своим табуретам, Урибе тотчас же вынул часы из кармана панталон и с удивлением произнес:
– Уже три часа! – И тут же крикнул: – Хосе Долорес!
Тот не преминул явиться к маэстро. На плече у него было два сплетенных мотка: один из белых льняных, другой – из черных шелковых ниток; в его подтяжках торчало несколько коротких и очень тонких иголок, а на среднем пальце правой руки красовался стальной, без шляпки, наперсток.
Несомненно, что в рождении Хосе Долорес Пимьенты и Франсиско-де-Паула Урибе участвовала на равных правах кровь белой и черной рас, с той лишь существенной разницей, что Пимьенте унаследовал больше от первой, нежели от второй. Этому обстоятельству следует приписать то, что лицо у него не было таким желтым, как у Урибе: оно скорее отличалось бледностью; черты его были правильными, лоб – широким; на этом овальном лице скулы выдавались не так сильно, да и волосы у Хосе Долорес были не такие жесткие, как у мастера. Пимьента обладал деликатным сложением: руки его были почти совершенны по форме, а небольшие ноги, благодаря изяществу и высокому подъему, могли соперничать с ножками женщин кавказской расы. В манерах подмастерья, равно как и во взгляде, а порою и в голосе, сквозила не то подчеркнутая робость, не то меланхолия – а их не всегда легко различить, – что являлось признаком либо большой скромности, либо тонкости натуры.
Чувствуя призвание к музыке, от которой ему не так-то просто было отказаться, он должен был совершить над собой насилие, чтобы сменить свой любимый кларнет на иглу и портновский наперсток, иначе говоря – одно из изящных искусств на чисто механическое, сидячее ремесло: нужда-то ведь не свой брат. Хотя Хосе Долорес Пимьента и был дирижером оркестра, нередко играл в церковном хоре днем, а по вечерам – на танцах во время ярмарочных торжеств, но этого не хватало для его собственных нужд и потребностей его сестры Немесии. Музыка, как и другие виды искусств на Кубе, не могла не только дать благосостояние людям, посвящающим себя ей, но даже предоставить им элементарные жизненные удобства. Знаменитый Бриндис, Ульпиано, Вуэльта-и-Флорес и другие находились примерно в таком же положении.
– Как дела с бледно-зеленым сюртуком? – спросил Урибе. – Готов он к примерке? Вот уже три часа, и с минуты на минуту сеньор Гамбоа появится здесь; он всегда точен.
– С того времени, что вы мне передали заказ, я уже довольно много сделал, – ответил Пимьента.
– Как это так? Разве я дал тебе его не два дня тому назад?
– Простите, сеньо Урибе; если уж быть точным, то я получил эту вещь только вчера утром. Позавчера я играл большую мессу в церкви Святого ангела-хранителя, вечером исполнял «Сальве», а затем до полуночи и даже позже аккомпанировал танцам на балу у Фарруко. Так что уж не знаю…
– Ну ладно, ладно, – прервал его Урибе с озабоченной миной, – готов ли сюртук к примерке или нет? Остальное несущественно.
– Что до примерки, говорю я вам, то хоть сию минуту. Лацканы и воротник уже приметаны. Я только-только собирался приметать шелковую подкладку, чтобы наметить петли. Плечи приметаем, когда придет кабальеро, о котором вы говорили, да и спинку тогда же. Ваша супруга, сенья Клара, заканчивает рукава, хотя для примерки вполне достаточно приметать только один. Словом, к восьми или чуть позднее сюртук будет готов, а бал раньше девяти не начнется.
– Дело в том, что желательно сделать все гораздо раньше: пусть никто не говорит, что Панчо-де-Паула Урибе-и-Рубироса не держит данного им слова.
– Тогда дайте мне подмастерья на подмогу, вернее, на то, чтобы закончить сюртук. Я-то ведь в шесть пойду исполнять «Сальве» в церкви Святого ангела-хранителя, а после этого – сразу на вечер к Брито. Сегодня танцевальный вечер у Сото открывает Фарруко, и мне не хотелось бы тащить туда свой оркестр. Ульпиано со своей скрипкой дирижирует в Филармонии, а Бриндис пообещал сыграть на контрабасе. Итак, судите сами.
– Экая жалость, Хосе Долорес! Кабы я знал, что ты эту вещь не сможешь закончить, я бы тебе ее и не давал. Сюртуком ведь не налюбуешься! Боюсь, что ежели другой подмастерье возьмет его в руки, он весь фасон испортит. Кабальерито Леонардо – самый придирчивый из всех моих клиентов. Да разве не видно, что он купается в золоте, что он прямо-таки сорит деньгами? И за ценой никогда не постоит! А давно ли дон Кандидо, его отец, был, что называется, гол как сокол? Как сейчас вижу его в плетенках (Урибе хотел сказать – в плетеной обуви, то есть альпаргатах), в куртке, фланелевых штанах и суконной шапке. Таким вот он приехал сюда, а спустя некоторое время начал уже поставлять древесину и черепицу, затем привез кучу негров из Африки, потом женился на сеньорите, у которой был сахарный завод, а там, смотришь, потекли к нему денежки со всех сторон. Сейчас это настоящий большой сеньор! Дочери его разъезжают в экипаже, запряженном парой лошадей, сын швыряет золотыми унциями, как иной, глядишь, воду выплескивает. А несчастная девушка тем временем… Впрочем, помолчу. Так вот, Хосе Долорес: как я уже тебе говорил, молодой сеньор Леонардо пришел сюда на прошлой неделе и сказал мне: «Маэстро Урибе, возьмите это светло-зеленое сукно, которое я нарочно выписал из Парижа, и сделайте мне приличный сюртук. Только, пожалуйста, ничего допотопного: ни высокой талин, чуть ли не у затылка, ни «ласточкиных хвостов». Я не какой-то там факельщик и не Хуанито Хунко или Пепе Монтальво. Сделайте мне сюртук, как у людей, по последней моде: я знаю, коли вы захотите, он будет сидеть как вылитый, по фигуре». Хоть лопни, а надо угодить этому юнцу – ведь он так богат. А кроме того, он и элегантный, и красивый, да и тон моде задает. Если мне удастся сделать ему удачную вещь, я сам смогу на этом разбогатеть. Хотя, признаться, у меня просто рук не хватает, чтобы переделать всю работу, которая на меня валится. Видно, конкуренция англичанина Фредерика мне не страшна, она скорее, наоборот, пошла нам на пользу. Словом, дорогой Хосе Долорес, за работу!
– Я же сказал, сеньор Урибе, что сделаю вам все, что смогу, но поймите: закончить сюртук я все равно не сумею. Во всяком случае, основное, то есть лацканы и воротник, уже сделано. Распоряжаться пригонкой фалд и спинки будете вы, а уж лучше, чем сенья Клара, никто петель не выметает.
– Принеси-ка сюда сюртук!


Подмастерье выполнил приказание и, держа сюртук на высоте глаз, стал перед хозяином. Урибе подошел к зеркалу, которое находилось у средней стены между окном и дверью. За ним машинально последовал Хосе Долорес. Когда они оба оказались перед зеркалом, маэстро сказал своему подмастерью:
– Послушай-ка, Хосе Долорес, стань вместо манекена. У тебя точь-в-точь такая же фигура, как у молодого сеньора Леонардо.
– Ладно, сеньор Урибе, но только не нужно этих сравнений! – ответил Пимьента с явным неудовольствием.
– Что-то ты сегодня невесел, дружище. Что это творится с тобой? Сначала ты принял одну из сеньорит Гамбоа за Сесилию Вальдес; теперь дуешься, что я, быстроты ради, примеряю на тебе сюртук их брата. Ежели это потому, что тот белый наступает тебе на пятки, то самое худшее, что ты можешь придумать, – это принимать все так близко к сердцу. Ничего не поделаешь, Хосе Долорес! Притворяйся, терпи. Поступим так, как собака с осами: скаль зубы, чтобы думали, что ты смеешься. Неужто ты не видишь, что они – молот, а мы наковальня? Белые пришли первыми и получают лучшие куски; мы, цветные, пришли позднее, и спасибо за то, что глодаем кости. Не нами это установлено, дружок! Будет время, и нам что-нибудь перепадет! Не может же так вечно продолжаться! Бери пример с меня. Разве ты не видишь, что я не раз целую руки тем, кому я хотел бы их обрубить? Или ты, может быть, воображаешь, что все это искренне? И не думай: уж коли говорить начистоту, от них и деньги-то брать противно…
– И сурово же вы о них судите, сеньор Урибе! – не мог не воскликнуть подмастерье, скорее пораженный, нежели встревоженный тем, что его хозяин высказывает столь резкие суждения.
– Неужто ты думаешь, – продолжал мастер, – что коли я принимаю всех, кто приходит в мою мастерскую, то не умею разбираться в людях или у меня нет чувства собственного достоинства? Или что я себя меньше уважаю только потому, что я цветной? Чушь! Сколько сюда ходит разных грифов, адвокатов, врачей, которые устыдились бы сесть в китрин рядом с родным отцом и матерью или сопровождать их на торжественную церемонию целования руки губернатору в день рождения короля или королевы Кристины! Может быть, тебе все это неизвестно, потому что ты не общаешься со знатью. Но вспомни, прошу тебя: ты знаешь отца графа N.? Так вот, он был дворецким у его бабушки. А отец маркизы X.? Тот был всего-навсего кабатчиком из Матансаса, куда грязнее, чем сапожный вар, которым он смазывал дратву, сшивая упряжь. А известно ли тебе, что маркиз N. N. не показывает свою мать гостям, приезжающим к нему во дворец? Или что ты скажешь об отце важного доктора X. X.? Он же мясник в той вон лавчонке за углом. – Урибе из осторожности произносил все эти имена подмастерью на ухо, чтобы прочие работники не слышали. – Мне же нечего стыдиться своих родителей. Мой отец был бригадиром испанской армии, и я его очень уважаю. А моя мать была вовсе не рабыней и не туземной. Эх! Будь родители всех этих сеньоров хотя бы портными – еще куда ни шло! Ведь всем известно, что его величество король объявил наше ремесло, так же как и табачное дело, занятием благородным, и мы поэтому имеем право на приставку «дон» к нашему имени.
– Да я этим не интересуюсь и сам толком не знаю, кто мой отец; мне известно только, что он не был негром, – снова прервал Пимьента неудержимый поток слов своего хозяина. – Могу лишь утверждать, что ни нам, ни мне, ни… нашим детям, судя по тому, как все идет, не придется быть молотом. Особенно тяжело, невыносимо тяжко, сеньор Урибе, – добавил Хосе Долорес, и у него затуманились глаза и задрожали руки, – что они отбивают у нас цветных женщин, а мы о белых женщинах не смеем даже и думать.
– А кто в этом повинен? – продолжал Урибе, снова приближая губы к уху подмастерья, чтобы его не услышала жена. Повинны в этом сами женщины, а не они. Можешь не сомневаться, Хосе Долорес: ведь если бы цветным женщинам не нравились белые, то уж те, конечно, не думали бы о мулатках.
– Возможно, сеньо Урибе; но, по-моему, белым должно бы и своих хватать. Почему они отнимают у нас наших женщин? По какому праву они это делают? По праву белых? Кто дал им подобное право? Никто. Я могу вас разуверить, сеньо Урибе: если бы белые довольствовались своими женщинами, мулатки и не взглянули бы на белых мужчин.
– Рассуждаешь ты, дружок, как Соломон; только на самом деле это не так. Нужно исходить из истинного положения вещей, а не из того, каким бы нам хотелось его видеть. Я рассуждаю так: что толку жаловаться или надеяться на то, что все будет по-моему? Разве такие, как мы с тобой или другой кто из нашей братии, решатся пойти против течения? Никогда. Пусть уж все идет, как заведено. Когда против тебя большинство, остается только делать вид, что ничего не слышишь и не понимаешь, и ждать, пока наступит твой черед. А он придет, уверяю тебя. Не вечно же нам терпеть, да и не обязательно ткани рваться по долевой нитке. Учись пока что у меня; я принимаю вещи, как они есть, и не собираюсь исправлять мир. А то, чего доброго, еще пострадаешь! Ты вот, как погляжу, еще немало себе крови попортишь!
– Не все ли равно, – с жаром возразил подмастерье, – коли и другие будут ее портить точно так же, как и я…
– В том-то и дело; коли ты станешь так горячиться и лезть на рожон, то не добьешься, чтобы другие портили себе кровь, и она только у тебя в жилах клокотать будет. А этим белым пройдохам только того и нужно. Это не значит, что ты должен позволять любому издеваться над собой; я ведь тоже не даю собой помыкать. Только советую тебе не терять равновесия и ждать удобного случая. Посмотри на Клару, какая она степенная и серьезная. А ведь и к ней не один белый приставал, когда она была девушкой. Мне все же удалось без особого труда и хлопот припугнуть их. Вот я и говорю тебе, Хосе Долорес: не грусти и не хорохорься: этим ты сам себе навредишь. Ты только расстроишь себе печень, а получишь… то же, что и было. Пусть все идет своим чередом: гляди на других, и ты научишься жить!
Во время этого длинного и оживленного разговора Урибе ни на минуту не прекращал примерки сюртука: то он брал в правую руку лацкан, встряхивал его и тянул к себе, одновременно расправляя ладонью левой руки складки на рубашке подмастерья спереди и с боков; то убирал морщинки, набегавшие сзади от плеча к спине; то чертил вдоль боковых швов мелком крестики; то, наконец, просунув ножницы через кромку воротника и обшлагов, надрезал сукно, приметанное к холсту белыми нитками. Так постепенно с помощью своих ножниц и мелка портной добился того, что патрон сюртука был пригнан к фигуре подмастерья. Тем не менее уверенности, что он хорошо будет сидеть на своем законном владельце, у маэстро не было; оставалось только надеяться на свой опыт и талант. Всякий раз, когда у портного возникало какое-нибудь сомнение относительно размеров, он прибегал к сложенной вдвое бумажной ленте с дырками по обеим сторонам, которая служила ему меркой.
Прошло уже добрых полчаса, как хозяин с подмастерьем занялись примеркой сюртука. Тут к портновской мастерской подкатил наемный шарабан, и из него выскочил на панель молодой человек решительного вида. Это был тот самый кабальеро, который в значительной мере послужил предметом живой беседы между портным и его подмастерьем.








